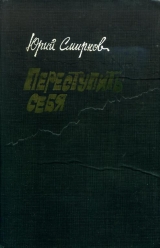
Текст книги "Переступить себя"
Автор книги: Юрий Смирнов
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– Идут, гады!
Кто-то кинулся к лампе.
– Стоять! – властно приказал Никола. – Леонид, закрой обе двери на запоры. Ты, – повернулся он к заполошно дышавшему, расхлюстанному Генке, – конечно, об этом не позаботился?
– Спешили… – сник тот.
– Спешить надо. И думать надо. Хорошо хоть, что поспешил к нам, а не в иную сторону. Молодец! А когда спешить начнешь с толком – совсем ладно будет.
Генка Блоха расцвел. Однако возразил для порядка:
– За мной не водится, чтоб товарищей оставлять.
В дверь уже бухали чем-то тяжелым. Все споро, но без сутолоки одевались. Николай, словно испытывая судьбу, неторопливо натягивал поданную Женькой шинель. Оглядел ребят.
– Павел, почему шапка набекрень? Потерять хочешь?
И ждал, усмехаясь, пока тот не застегнул тесемки малахая у подбородка. Затем подошел к окну, выстрелил наугад, отскочил в простенок между окнами. В ответ грянуло несколько выстрелов, одна из пуль, пробив толстую ставню, ударила в потолок и слабо шмякнулась на стол. Никола удовлетворенно сказал:
– Вот теперь они будут все у окон. Пора. Клавдия идет первая.
Сам вышел последним. Ребята летучими тенями скрылись во тьме. Видимо, они знали, что делать и куда идти, у них все было обговорено заранее, и только с ней никто ничего не обговорил. Она стояла одна-одинешенька под черным звездным небом, мрак был в ее душе, и если бы был у нее пистолет, она бы застрелилась.
Откуда-то вдруг подсунулся Женька, обнял, зашептал горячо:
– Клава, ты перебейся… Мы тебя найдем… Мы тебя не оставим, Клава. Я все сделаю для тебя…
– Господи, – всхлипнула она, – что ты можешь, мальчик? Дом мой громят… Без дома меня нет на земле.
– Дом… Нашла о чем печалиться, – сказал Никола. Он возник из тьмы и тоже обнял ее. – Достану тебе новые документы и куплю дом краше этого. Верь мне, Клавдия. Забудь наш разговор… Ты своя в доску баба… Верь мне, Клавдия, я добро помню.
Она знала, что ничего не будет; ни дома, ни документов, ни ребят – они уйдут сейчас и забудут о ней. Может быть, лишь у Женьки, который самозабвенно ласкал ее своими первыми, страстными, скоротечными от неопытности ласками, – может быть, у него останется боль в слепой душе, но нескоро она прорастет в прозрение. Она знала все это и верила несмотря ни на что. И когда на следующую ночь сержант Виктор Саморуков поднял ее с постели, она встала, спокойно оделась и равнодушно наблюдала, как он пересчитывает ее тридцать тысяч, а понятые, две соседки Любивой, округлившимися от ужаса глазами глядят на огромную кучу денег на столе… Она верила. И в вере своей она спасала их от ареста до самой последней минуточки. Они целы, невредимы, здоровы, никто не взят – и они отказались от нее. Неужели же прав этот молокосос, этот лейтенантик, синюшный доходяга, смертник, – неужели у воров все не так, как у всех остальных, неужели не одно солнце им светит, не одна в жилах кровь течет, и нет у них верности, нет благодарности, нет памяти – ничего нет того, чем жив человек? Почему они не пришли к ней на помощь? Почему? Почему?
Глава третья
1
Роман Мациборко вышел из нотариальной конторы и, прижмурясь, с наслаждением подставил лицо под искрящееся февральское солнце. Тепло было, чирикали воробьишки, с высокой крыши соседнего здания, в котором располагался госбанк, срывались увесистые сосульки и долбили асфальт. Весна скоро, подумал Роман, хорошо. Прикрыл глаза, скосил их вправо, узрел постового – тот тоже грелся на солнышке, жмурясь, как кот. Шинелишка на нем была потертая, не по плечу, одна пола почему-то длиннее другой, по всему видать, мужик из недавних, сунули ему в хозчасти – на тебе, боже, что мне негоже, он и смолчал. Впрочем, Роман смолчал тоже… Ничего, думал теперь он, обслужимся, поймем, что в хозчасти сидит товарищ прижимистый, у него только из горла и выдерешь что-нибудь стоящее.
– Гражданин!
– Да, – ответил Роман. Он был в штатском. – Слушаю, товарищ постовой.
– Получил справку, гражданин, и иди своей дорогой. Тут нельзя стоять. Тут банк. Деньги народные хранятся.
– Иду, иду, – сказал Роман. – От народных денег надо держаться подальше, проживешь подольше.
– Верно, – заулыбался постовой, но Роман, проходя мимо, видел, как он неуловимо отвел руку к кобуре.
Постовые, участковые, конные и пешие наряды милиции – теперь, после показаний Клавдии Панкратовой, знали приметы бандитов. И не только они, но и сотни добровольных помощников милиции, верных ее друзей. Розыск вступил в ту стадию, когда вроде бы еще и нет ничего, но уже есть многое. Сотни глаз сейчас кинжально простреливают город. Глаза на вокзале, на всех выездах, на базарах, в магазинах, в трамваях, в очередях… Уже стали поступать донесения: там-то видели Ваньку Спирина, по кличке Повар, там-то проходил тщедушный Генка Блоха… Это очень много – знать, кого надо видеть из трехсот тысяч горожан.
Но и скрыться легко среди трехсот тысяч… Впрочем, среди двадцати тысяч – тоже легко. А именно столько горожан и горожанок находится теперь на попечении Романа Мациборко: два дня назад его назначили участковым уполномоченным. Сейчас из двадцати тысяч подопечных горожан и горожанок его интересовала только одна – тетя Витя, которая выплыла на свет божий из показаний Клавдии Панкратовой. Требовалось ее найти, но как? Ни примет, ни фамилии… Да, не больно-то дружки-бандиты откровенничали с Клавдией. И все же тетя Витя – это вам не тетя Маня: мужское имя, намертво пристав к женщине, сильно сужало поле поиска. Витя, Виктория, Виолетта, Витольда… Не так-то уж много заковыристых женских имен на букву «В» – с этим убеждением и входил Роман в нотариальную контору полчаса тому назад. Теперь он вышел оттуда, имея в кармане адрес Виктории Георгиевны Барминой, купившей дом на улице Пестеля, 32. На всякий случай записал он имена еще двух покупательниц – Виолы и Виорики, памятуя, что имя имеет обыкновение в обиходе так изменяться и усекаться, что от паспортного остаются только рожки да ножки…
Итак, Виктория Георгиевна Бармина, сорока лет, мать двоих детей, муж на фронте, несудимая. Еще недавно жила Виктория Георгиевна в двухкомнатной коммунальной квартире, переулок Извилистый, дом 14. А переулок Извилистый находился во владениях участкового уполномоченного Романа Мациборки… Туда он и поехал, не переставая удивляться, как же так получилось, что мать двоих детей, работающая прачкой в военном госпитале, сумела сэкономить сто тысяч? Ну хорошо, сэкономила… Но неужели ей было тесно с двумя детьми в двухкомнатной квартире? Зачем же выбрасывать такую уйму денег за дом-пятистенку? Ох, Виктория Георгиевна, чует мое сердце, что это тебя зовут тетей Витей, подставной хозяйкой бандитского дома, ямщицей…
В квартире дома, что стоял в переулке Извилистый, дверь Роману открыла худенькая женщина с измученными глазами. Роман сделал изумленное лицо.
– Простите, – сказал он, – здесь живет Виктория Георгиевна Бармина? Или я ошибся? Да нет, я же бывал здесь не раз. Я ее племянник. Из деревни.
Интересно, думал он, а как ты, брат, выйдешь из положения, если она и есть Бармина? Зашла на старую квартиру за какой-нибудь забытой вещью. Что тогда?
– Она жила здесь, – тихо ответила женщина, – а недавно переехала. Дом купила.
– Дом? – снова изумился Роман. – Да она что? С ума сошла? У нее и эта квартира не тесная.
– Да, две комнаты, – так же тихо сказала женщина. – Светлые, теплые. Я так рада! – Она улыбнулась.
– Вот так тетка Витя! – сердился Роман. – Дом купила, а старшей сестре – ни гугу. Где ж мне теперь ее искать? Шутейное ли дело? Она хоть у вас бывает?
– Нет. Я даже и не видела ее ни разу. От соседей, правда, слышала, что дом она купила на улице Пестеля. А номера не знаю, она никому не сказала.
Все так удачно получилось, что Романа неудержимо потянуло на улицу Пестеля: может, и там что-нибудь выгорит? Ибо сказано, хватай удачу за хвост, а то неудача пырнет рогами. Правда, улица Пестеля не входит в его участок, но ведь и Роман не формалист… Надо съездить. Нет, в дом 32 он не зайдет, но через соседей наведет кое-какие справки. Участковым дан приказ: обо всех подозрительных покупательницах домов незамедлительно сообщать в городской уголовный розыск старшему лейтенанту Миловидову. Явится Роман в уголовный розыск, высыпет на стол целое лукошко фактов, все скажут: ай да Рома! Хорошо, скажут, что его повысили в должности, назначили участковым, очень к лицу ему будут теперь погоны младшего лейтенанта… Решено – еду!
Но никуда он не поехал. Почему-то вспомнилось ему слово «племяш». «Племяш, племяш, – шептал Роман. И тут его пронзило: – Ах ты сукин сын, дубина стоеросовая! Вот уж поистине – заставь дурака… А если у Барминой нет сестры и, следовательно, племянника? А если она, годами жившая в этом многоквартирном доме, навестит своих соседок, зайдет и в свою квартиру? Известие, что приходил несуществующий племяш, ее сразу кинет в дрожь. Что тогда? В младшие лейтенанты захотел, карьерист несчастный! Тут наследил, да еще и на улицу Пестеля чуть было не отправился…»
Начальнику городского розыска Геннадию Владимировичу Миловидову он рассказал все без утайки, за исключением, конечно, розовой мечты о лейтенантских погонах. Выслушав, Миловидов спросил:
– Инициатива хорошо, а что есть сверхинициатива, сержант?
– Глупость, – убито пробормотал Мациборко.
– Истинно. Не зная общего хода операции, не следует соваться туда, куда не просят. Еще одну вещь запомни, пригодится: то, что можно сделать проще, – надо делать проще! Вот ты разыграл сценку перед новой хозяйкой квартиры… Ну что же, в иных обстоятельствах без этого не обойтись. Но не в твоих! Ты уверен, что завтра судьба не приведет тебя в переулок Извилистый уже в образе участкового уполномоченного?
– Приведет, конечно. Это же мой участок…
– Вот. Увидит тебя хозяйка квартиры и сразу сообразит, что к чему. А тут может случиться то, чего ты боишься и чего действительно следует опасаться: придет навестить соседок Виктория Бармина… Давно служишь у нас, сержант… э-э… напомни-ка мне свою фамилию?
Роман напомнил и сказал, что служит чуть больше месяца.
– Мациборко, Мациборко… – задумчиво повторил Миловидов. – Фамилию, помнится, я встречал в приказе. Редкая для наших мест фамилия… Это не ты на базаре Большие Исады взял налетчика Герку Кола?
– Да повезло мне просто, товарищ старший лейтенант… Чего теперь об этом деле говорить.
Миловидов хмыкнул. Однако голос его потеплел.
– Вот что, парень. Бери ноги в руки, дуй в переулок Извилистый, поговори с женщиной, которой ты представился племянником тети Вити, предъяви свои документы и попроси ее молчать.
– Да-а… – сокрушенно протянул Мациборко. – Мог бы и сам догадаться.
– Ничего, – успокоил его Миловидов. – Ты все-таки два добрых дела сделал. Во-первых, добыл нам Викторию Георгиевну Бармину, во-вторых, у тебя хватило ума не поехать на улицу Пестеля. Для начала – совсем неплохо, сержант.
Когда Роман вышел, Миловидов поднял телефонную трубку.
– Луценков? Здравствуй. Кажется, получили мы наконец тетю Витю. Какую Витю? Ты, гляжу, показания арестованных дюже внимательно читаешь… Да, да, та самая… Ну, не совсем та самая, это нам надо с тобой уточнить. И еще два адреса есть – Виолы и Виорики… А чем черт не шутит? Ты вот что, вопросы потом будешь задавать, а сейчас двигай ко мне. Тренкова тоже попрошу прийти, вместе обговорим детали. Ох ты, какой гордый… Хорошо, мы с Тренковым придем к тебе. Готовь своих парнишек, пора и им поработать.
2
Вечером посыльный передал Роману Мациборко приказание: в 19.00 явиться снова к старшему лейтенанту Миловидову.
В назначенное время Роман доложил о прибытии. Миловидов подозвал его к столу, показал фотографию.
– Это наш сотрудник Николай Микитась, – пояснил он. – Служит в отделе Луценкова. Под видом работника домоуправления ушел на улицу Пестеля собирать сведения о Барминой. Двое других пошли по адресам Виолы и Виорики. Они вернулись в назначенный срок, Николай Микитась – нет. Найди его следы, сержант.
И он объяснил, как найти, не привлекая внимания. Добавил, что Николай Микитась отправлен на задание с удостоверением работника домоуправления Андреева.
– Безоружный? – спросил Роман.
– Работникам домоуправления оружие не полагается. Ты их видел когда-нибудь с пистолетами?
– Но ведь тетка Витя, – засомневался Роман, – она же почти та самая…
– Ему было приказано в дом Виктории Барминой не заходить. И тебе приказываю! Повтори!
– В дом к Виктории Барминой не заходить, товарищ старший лейтенант. Справки навести через соседей. Один из них, Абдрахман Кашаев, будет со мной откровенным. Можно ли спросить – почему?
– Год назад квартиру Абдрахмана Кашаева обчистили до последней вещички. А мы нашли жуликов и вернули ему украденное. С тех пор он милицию зауважал. Назови ему мою фамилию, скажи, что это моя просьба.
– Ясно. Разрешите выполнять?
– Выполняй. Вернешься, сразу иди в кабинет Заварзина, помощник его будет предупрежден. Вернуться ты должен в двадцать ноль-ноль.
Вернулся Роман чуть раньше. В кабинете капитана Заварзина шла оперативка штаба по ликвидации банды, но Романа ждали. Когда помощник ввел его, Мациборко на миг оробел – все начальство здесь собралось: Заварзин, Авакумов, Луценков, Корсунов, Тренков, даже непосредственный начальник Романа, старший лейтенант Топлов, сидел тут же и почему-то неодобрительно поглядывал на своего участкового.
– Доложи, сержант, что узнал, – сказал Заварзин.
– Виктория Бармина действительно живет в доме тридцать два, товарищ капитан. Николай Микитась проверил домовые книги примерно у десяти хозяев. И когда он сидел у хозяйки дома тридцать четыре, к ней зашла Бармина за щепоткой соли. У них состоялся там разговор, и я так понял, товарищ капитан. Микитась вынужден был пойти с Барминой, чтобы не раскрыться. На этом следы его обрываются. Всем он представлялся как работник домоуправления Андреев, ходил с палочкой, прихрамывая, говорил, что на этой работе временный, пока не заживут фронтовые раны, а потом снова уйдет на фронт. Дело обыкновенное, ни у кого никаких сомнений, как я понял, не возникло, роль свою он сыграл хорошо.
– А ему и не надо было играть, – сказал Луценков. – Николай Микитась – сталинградец, был ранен в боях за Тракторный завод, лечился в одном из наших госпиталей. И недолечился как следует, ходит с палочкой. В моем отделе служит около месяца.
«Почти как я, – подумал Мациборко. – Да и одногодок, наверно, мой».
– Авакумов! – обратился Заварзин к заместителю.
– Слушаю, товарищ капитан.
– Поднимайте свою опергруппу. Дом окружить. Если бандиты там – взять, если их нет – а я уверен, что их там уже нет, – начать обыск. Бармину после обыска доставить ко мне.
Авакумов вышел. Заварзин нашел взглядом Миловидова и Тренкова, сказал:
– Вам быть со своими людьми наготове. В ночь предстоит работа.
Луценков крепко потер ладонью вспотевшую лысину, сказал с горечью:
– Торопимся, спешим… И вот она чем оборачивается, торопливость наша.
– И еще как спешим! – поддержал его Миловидов. – Сведения о купленном Барминой доме мы получили в нотариальной конторе в двенадцать дня. Хотя бы сутки понаблюдать за ним – многое бы прояснилось. А мы уже через два часа послали туда человека, можно сказать, в лобовую атаку. Так дела не делаются…
Заварзин слушал молча. Он был из тех начальников, которые позволяли своим подчиненным высказывать все, что на душе. И они это знали…
– А по-моему, мы не больно-то и торопимся, – возразил начальник третьего городского отделения милиции Топлов. – Понаблюдать… Собрать данные… В игрушки играем. Добыли адрес Барминой – сразу надо было посылать опергруппу, бандитов бы и накрыли. А теперь ищи ветра в поле. Очередную бабенку на допрос Авакумов привезет. Будем с ней опять мыкаться, как Тренков с Панкратовой.
– А если бы не накрыли? – сказал Луценков. – А если бы эта тетя Витя оказалась не той, которая нам нужна?
– Извинились бы за беспокойство. Чего ж проще…
– Счастливый ты человек, Александр Михайлович, – вздохнул Луценков. – Мне бы твою сокрушительную уверенность.
– Где сержант Мациборко? – спросил Заварзин. – Куда он делся? Я, помнится, его не отпускал.
– Виноват, товарищ капитан, – сказал Миловидов. – Я его отпустил. Мациборко – единственный, кто знает, где на Пестеля расположен дом Барминой. Чтобы наши люди там не мыкались, не разглядывали номера…
– Вот и ответ, Александр Михайлович, на твое обвинение в медлительности, – сказал Топлову Заварзин. – Проследить, собрать данные – это отнюдь не игрушечки в розыскной работе. Мы даже подходов к дому Барминой не знаем, не говоря уже обо всем прочем. Для этого и послан был Микитась. Нет, я не вижу ошибок в нынешнем дне. Мы сработали оперативно. Конечно, с точки зрения чистой теории розыскного дела – мы спешим. После войны, товарищи, станем работать по чистой теории. Вот тогда-то и отведем душеньку. А теперь нам остается самое тяжелое – ждать вестей от Авакумова.
– Ах ты, Микитась, Микитась, – горько сказал Луценков. – Что же там случилось с тобой, браток?!
Глава четвертая
1
Бармину привезли в полночь.
– Виктория Георгиевна, – сказал Заварзин, – у меня нет времени подробно допрашивать вас, этим займемся завтра. На улице пурга, мороз, ваши квартиранты в такую ночь спать под забором не станут. Дайте нам их возможные адреса. Напоминаю, этим вы облегчите свою участь.
– Ничего не знаю, – тупо сказала Бармина. – Ничего не знаю.
С невольной жалостью глядел на нее Заварзин. Еще несколько часов назад она была зрелой, видной женщиной, бабий век которой был бы долог. Но об этом можно было лишь догадываться, потому что сейчас перед ним сидела старуха. Мертвый взгляд, потухшее, морщинистое лицо… Не по себе было Заварзину… Однако продолжать надо.
– Начнем тогда с азов, – сказал он. – В подвале вашего дома найдены шестнадцать ящиков конфет, два мешка сахарного песку, два мешка рафинада, двести пачек махорки, три рулона материи, десять шерстяных одеял. Откуда это у вас?
– Где мои дети? – мертвым голосом спросила Бармина. – Что вы сделали с ними?
– Товарищ Луценков, узнайте, что с детьми.
Луценков поднялся с дивана, вышел. Через несколько минут возвратился, доложил:
– Младшая спит, товарищ капитан. Постелили ей на диване в кабинете Криванчикова, укрыли шерстяным одеялом, конфискованным у Барминой. Старшая, Аля, спать не хочет, пьет чай с Корсуновым.
– Вот видите, Виктория Георгиевна, ничего страшного с вашими детьми не происходит и не произойдет. Отвечайте на мой вопрос. Быстро!
– Это не мои продукты, – сказала Бармина. – Их привезли какие-то воры.
– Воры устроили, продовольственно-вещевой склад, а вы жили и молчали? Наивно, Виктория Георгиевна.
– Воры появились у меня три дня назад, – сказала она. – Приходили ночами. Спали то на подлавке, то в сарае – как им захочется. Я пошла в третье отделение милиции, дежурный послал меня к сотруднику, я все ему рассказала. Он записал. Я еще попросила его забрать их быстрее.
– Фамилию сотрудника помните?
– Андреев.
Вот и все. Если и была какая-то надежда, то теперь ее нет. Большим напряжением воли удалось Заварзину сохранить прежний ровный голос.
– Опишите его. Я строго взыщу с этого человека. Если бы не его расхлябанность, вы сейчас не сидели бы передо мной.
– Уж я ждала-ждала вас, все глазоньки проглядела… Молодой такой, с палочкой ходит. Видать, раненный был. Волос светло-русый, брови черные, разлетные, глаза черные, большие. На виске черная родинка с горошек.
Заварзин не знал примет Николая Микитася и с последней надеждой глянул на Луценкова. «Он, – ответили глаза Луценкова. – Он!» Тогда Заварзин перевел взгляд на Бармину, стремясь постичь истоки ее извилистой лжи. И ничего не прочел в ее мертвых глазах. Снял трубку, попросил сонную телефонистку соединить его с начальником третьего отделения милиции.
– Топлов слушает, – густым басом сказал Топлов, и громкоговорящая трубка, заменить которую у Заварзина так и не дошли руки, разнесла его голос по кабинету.
– Александр Михайлович, у тебя в отделении есть сотрудник Андреев? – спросил Заварзин и назвал приметы.
– Был Андреев. Зимой прошлого года ушел на фронт. – Топлов помедлил. – Погиб он, товарищ начальник.
– Александр Михалыч, того Андреева я знал не хуже тебя. Ты скажи, сейчас у тебя служит Андреев, приметы которого я описал?
– Обижаете, товарищ начальник, – сказал Топлов. – Я не только свой оперсостав, я каждого постового, каждого участкового знаю в лицо и по фамилии. Нет у меня Андреева. – Чувствовалось, что Топлов начинает гневаться. – Андреев – человек Луценкова, он сегодня ходил собирать сведения о Барминой. Помните, мы еще говорили об этом на оперативке? Микитась его настоящая фамилия, вот как. Бармина прихватила его у соседей, помните? Я еще подумал, сгиб парень, но ничего не сказал, чтоб судьбу не искушать. Товарищ начальник! Але! Это, что-то там Луценков крутит. Приписал мне своего Андреева. Але! Але!
– Спасибо, Александр Михайлович, – совсем по-штатски сказал Заварзин. – Все выяснилось, – и положил трубку.
Бармина слышала разговор до единого слова.
– Я не убивала его, – сказала она и разрыдалась. Заварзин понял, что расспрашивать сейчас ее об Андрееве-Микитасе бесполезно. Замкнется, закостенеет…
– Уже час ночи, Виктория Георгиевна, – устало сказал он. – Дайте нам адреса тех, кто убил его. Хотя бы примерные.
2
Ночь. Пурга.
Ефим Алексеевич Корсунов пьет чай с десятилетней Алей Барминой. Тренков лежит на диване, прикрывшись шинелью. Его опергруппа числом в десять человек расположилась в соседних-комнатах – кто на столах, кто на стульях. Тренкову нездоровится, временами он впадает то ли в дремоту, то ли в забытье, откуда выбирается снова в эту комнату весь в поту. Тогда он слышит разговор, происходящий за столом меж старым и малым.
– Вы допрашивать меня будете, дядечка?
– Нет, дочка, не буду, – отвечает Корсунов. – Пей чай без опаски и ложись спать.
– Совсем-совсем не будете?
– Ну, как… Совсем-совсем нельзя. Завтра вызову учительницу, при ней и допрошу. А без нее допрос не дается.
– А бить меня будете?
Корсунов поперхнулся.
– Да ты что, Аля! Какие ты слова говоришь?
– А маму?
– И маму. Сидит она в кабинете начальника и разговаривает с ним, как ты со мной.
– Не верю я.
– А пойдем, посмотрим, – сказал Корсунов. – Только так: откроем дверь, глянешь ты в щелку – и сразу дверь прикрой. А то у меня начальник дюже строгий, не любит он, чтобы ему мешали разговаривать.
Пошли, посмотрели. Снова сели пить чай.
– Что же это получается? – сказала Аля. – Никола Волк, выходит, наврал? А я ему верила!
– Ясно, это так, наврал. Известный брехунишка.
– А вы его знаете, дядечка? – удивилась Аля.
– Да уж знаю. И Генку Блоху знаю, и Леньку Лягушку, и Пашку Джибу, и Женьку Шепилова. Всю эту артель знаю.
– Зачем же, дядечка, вы их не заарестовали? – с упреком сказала Аля. – Мама богу молилась, сама слышала, хоть бы, говорит, арестовали их скорее, шпану кровавую.
– Никто нам, Аля, не помогал. Вот вы с мамой молчите, ничего не говорите.
– Боязно, дядечка. Хотели мы пойти в милицию, да раздумали. Боязно… Никола-то рассказывал, что в милиции бьют, стреляют…
– Это в нас, дочка, стреляют…
– А вы никогда?
– Почему же никогда… Мы тоже, бывает, стреляем. Но всегда вторыми. Нам право такое дадено – стрелять вторым, коли жив остался. Только мы иной раз не успеваем. Ты пей чай-то… Больно у нас с тобой разговоры тяжелые на ночь глядя. Допивай свой стакан, и отведу я тебя к сестренке на диван.
– Я такая радая, что вы вместе с мамой и нас забрали. Уж не знаю, что бы делала, если б мы с Томкой одни дома остались.
– Да спать бы легли, – сказал Корсунов. – Ты уже взрослая девочка, темноты не боишься. А утром мы бы пришли, что-нибудь придумали бы.
– Темноты я не боюсь, – сказала Аля. – Я мертвых боюсь. А у нас, дядечка, в доме мертвый схоронен…
3
Старенькая полуторка остановилась около дома Барминой. Из кабины вылез Корсунов, махнул шоферу рукой: двигай дальше, мол. В кузове, скукожившись, тесно сидели оперативники Тренкова и Миловидова. Машина отошла метров на пятнадцать – и сгинула: будто и не было ее.
– Сюда, товарищ старший лейтенант, – сказал Корсунову встречающий. Он вышел на крыльцо в белой нательной рубахе, с непокрытой головой. – Давайте руку, тут лоб с непривычки расшибешь.
Прошли холодный коридор, потом теплый, потом какую-то комнату без окон, куда даже не доносился вой пурги. Корсунов послушно шел, держа в руке молодую сильную руку своего проводника.
В большой горнице жарко топилась печь, добавляя тревожный, мечущийся свет к ровному немощному свету семилинейной лампы. У стены, загораживая два закрытых на ставни окна, штабелем лежали запечатанные фанерные ящики, лежали мешки, рулоны материи, полушубки, ватники, брюки. Наметанным глазом Корсунов сразу определил, что вещей и продуктов значительно больше, чем Авакумов сообщил в коротенькой записке Заварзину. Значит, еще нашли… Авакумов сидел за столом, составлял опись. Рядом с ним дымил махрой старик с черными гвардейскими усами и сивой бородой. Девушка, лицо которой раскраснелось от печного жара и незримого внимания четверых молодых мужчин, расставляла кружки и стаканы на столе.
– Вовремя, Ефим Алексеич, – сказал Авакумов. – Сейчас чай будем пить. Уработались, как амбалы, – он довольно улыбнулся и кивнул на штабель ящиков и мешков. – Такую прорву надо было с чердака спустить, да в подвале нашли немало. Я тут малость власть превысил, изъял килограмм конфет, сахару и печенья: людям червячка заморить. А то мои понятые падут от истощения сил, да и мы еле на ногах держимся.
Насколько холоден и высокомерен был Авакумов у себя в кабинете, настолько прост и доброжелателен сейчас. Ну что ж, думал Корсунов, это бывает. У Авакумова не отнимешь цепкой хватки. Принявшись за дело, доводит его до конца. Мог бы сейчас укатить к себе в кабинет, главное ведь сделано, сливки сняты, осталась черная работа, с которой справятся и подчиненные. А он остался и работал вместе со всеми. Вон как форму измазал, чистюля. Вернется в кабинет – другим станет: не подступись. Знал Ефим Алексеевич такую странность за своим бывшим подчиненным.
– Не возражаю, Георгий Семеныч, – сказал Корсунов. – Я, это так, уже напился чаю с Алей Барминой, но с вами приму еще кружечку за компанию.
– Занятная девочка эта Аля, – сказал Авакумов, кинув на Корсунова быстрый взгляд. – Жаль, не было времени тут потолковать с ней… К столу, товарищи. Скоро светать начнет, а у нас еще дел по горло.
Какая она занятная, думал Корсунов, прихлебывая чай, не прав ты, Георгий Семеныч, она обычная девочка, десяти лет. Мать ее при одном упоминании имени Андреева цепенела, впадала в прострацию, а дочка, надежно защищенная от ужаса материнской жизни святым неведением своих десяти годков, рассказывала о нем и его смерти так, как будто это было страшно, но все же понарошку. Позже, повзрослев, содрогнется ее душа, а сейчас ужас ее был легок, ибо в детстве нет смерти – ни своей, ни чужой. Если перевести рассказ этой девочки на взрослый язык, то получится, что Микитась не сделал ни одной ошибки.
– Соль в этом доме есть? – спросил Корсунов.
– Да вы что, товарищ старший лейтенант! – удивился сержант Кузьмин. – Неужто чай подсаливаете? Не калмыцкий же пьем.
– Нет в этом доме соли, – сказал Авакумов, неодобрительно поглядев на Кузьмина. – Проверено.
«Умен, черт, – с уважением подумал Корсунов. – Знал Заварзин, кого себе в заместители назначать».
Ни одной ошибки не сделал Микитась, а судьба его уже была решена ничтожной малостью: в этом доме, забитом продуктами, не оказалось и щепотки соли. Именно за ней (но не под предлогом, что за ней, как об этом думал Корсунов до разговора с Алей) заглянула Бармина к соседке. И именно там сидел в это время Микитась, хотя мог бы находиться в другом доме. Случайность сомкнулась со случайностью, и обе, слепо, с удвоенной силой, ударили в него. Теперь, чтобы выдержать легенду до конца, Микитась был вынужден, вопреки приказу Луценкова, отправиться с Барминой в ее дом. О чем он думал на том коротком смертном пути? Корсунов понимал, что этого не узнать теперь никогда. Конечно, парень мог бы найти предлог, свернуть в сторону, ведь у приказа еще оставалась формальная сила, и она работала на его спасение. Но она уже не работала на дело. И он не свернул, а вошел в дом вместе с Барминой, шутил, улыбался – скромный работник домоуправления, которого сунули на эту должность, пока он не залечит раны и не отправится снова на фронт. Отравляемый горчайшим знанием близкого конца, он нашел в себе силы сделать последнее – убедительно умереть не в своем истинном обличье. Ах, парень, парень… Ефим Алексеевич затосковал и ярко, до боли зримо, вдруг вспомнились ему те, кого он потерял за двадцать лет службы в милиции. Какие горькие потери и какие люди! Молодые, еще не жившие. Незабвенные…
Эту тоску, эту боль души почувствовали все сидящие за столом. Притихли. Девушка молча, быстро и незаметно убрала со стола.
– Теперь, товарищи, – сухо сказал Авакумов, – слушайте приказ Корсунова. Я думаю, он не чайку попить к нам пожаловал.
Ефим Алексеевич вздохнул.
– Кузьмин, – сказал он, – найдите топор и пешню. Затем все ступайте в кладовку, уберите оттуда хлам, вскройте пол.
– А нам что делать, добры люди? – впервые подал голос старик с гвардейскими усами.
– Вам, папаша, и вам, – Корсунов обратился к девушке, – быть там же. Смотрите, запоминайте. Протокол будете подписывать.
– А мы уже подписывали, – сказала девушка.
– Еще один придется подписать, дочка, – снова вздохнул Корсунов. – Потерпи, милая. Ты сейчас глаза и уши закона.
– Бармину бы надо сюда для полного порядку, – недовольно сказал Авакумов.
– Хотели. Бунтует она. В истерику впадает.
Оперативники взяли лампу и ушли. Авакумов и Корсунов остались одни. Молчали, глядя в огненную пасть печи. В трубе жутко визжал ветер, отчего в горнице затравленно метались тени. В другом конце дома глухо гукали голоса, и вот уже прошелся по сердцу стонущий скрежет первой отдираемой от пола доски.
– Пора и нам, – сказал Корсунов.
– Подожди минутку… Ну что там Бармина? Раскололась?
– Дала два адреса. Тренков и Миловидов поехали с ребятами.
– А парень, значит, здесь лежит, – тихо сказал Авакумов.
– Лежит, Георгий Семеныч… Сидел он с Барминой за этим столом, за которым мы сидим, проверил домовую книгу, сказал, что положено сказать в таких случаях, и собрался уходить. В прихожке они набросились на него. Ударили ножом в спину, смерть мгновенная ему пришла.
– Слушай, Ефим Алексеич, – Авакумов глядел в печное жерло, и глаза его рдели, как угли. – Слушай, Ефим Алексеич… Вот ты, знаю, не любишь меня. И за что – тоже знаю. И не ты один.








