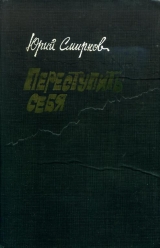
Текст книги "Переступить себя"
Автор книги: Юрий Смирнов
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Глава четвертая
1
Утром в понедельник, тяжелый день, Михаил Бурлин положил на стол начальника цеха заявление об уходе с работы. Тот прочитал, глянул на Михаила, снова прочитал…
– На, – сказал он, протянув ему листок. – Я этого не видел, ты этого не писал, тезка.
– Не шутки шучу, Михаил Алексеевич. Уезжаю совсем из поселка. Очень прошу, отпустите без отработки. Мне время дорого.
Начальник цеха смотрел на Михаила усталыми глазами, а потом кое-что, видать, вспомнил, кое-что начал понимать: он жил на соседней улице. Однако… За здорово живешь выпустить из рук такого мастера? Н-нет…
– Чего вы теперь-то заегозились? – ворчливо спросил он – Все прошло, пролетело. Люди уж и думать забыли.
– Сын растет, – коротко ответил Михаил, безошибочно выбрав довод, который будет понятен. – Сын растет, а улица ничего не забывает.
– Да, – задумчиво повторил начальник цеха, сдаваясь. Но тут он опять кое-что вспомнил и сказал с надрывом: – Без ножа режешь, Миша. До конца квартала неделя осталась, план трещит… И думать, брат, не моги, чтоб без отработки.
– Имею на то моральное право. Мой план, Михаил Алексеевич, не трещит.
– Не твой трещит, а цеховой, несознательный ты элемент! В оставшуюся неделю дал бы ты мне еще пять процентов, а? Подналяг на своих, возьми голосом, чертом, чем хочешь, а дай.
– Три с половиной, Михаил Алексеич, и не больше. Остальные полтора процента возьмете в других сменах. Вам не в первый раз.
– Миша!
– Вот расчеты, Михаил Алексеич. Смогу дать продукции еще на три с половиной процента – и не больше.
С тем и расстались. Михаил поднялся в свой закуток – конторку, огладил взглядом оцинкованный, матово поблескивающий стол, заваленный чертежами, потом сквозь стеклянную стенку вниз, где солдатами в строю стояли станки. В их ровном мощном гуле, в неторопливых движениях людей, в воздухе, напоенном запахами масла, окалины, свежеструганого металла, – в воздухе, которым он дышал двенадцать лет! – было такое, отчего Михаил дернулся, сделал шаг к двери и лишь тогда понял, что идет взять свое заявление назад. «Еще раздумаю, Миша», – вспомнились ему слова жены. Как бы ему самому-то не раздумать, черт!.. Но по металлической лесенке уже поднимался к нему мастер участка Петр Федорович Касаткин, чем-то очень рассерженный.
– ИК-62 гробанулся, Алексеич, – сказал он.
Михаил вспомнил о трех с половиной процентах, обещанных начальнику цеха. Сломавшийся станок пробил в них теперь хоть и небольшую, но ощутимую брешь. Чем ее затыкать? Да станком же… Следовало вывернуться, исхитриться, вылезти из шкурочки, а запрячь «Костю» к завтрашнему дню. Оба понимали, что отремонтируют его наживушку, станок протянет неделю и замолчит, – и оба стали набрасывать план действий, чтобы выиграть эту горячую, дорогую неделю.
Когда закончили, Касаткин сказал:
– Через два месяца, Алексеич, ухожу. Шестьдесят стукнет.
– Поздравляю, Петр Федорович. И жаль. Руки у тебя золотые.
– Успеешь еще поздравить, – сказал Касаткин, поднимаясь. – Нашел с чем поздравлять – со старостью. Хоть два месяца, а мои. Торопиться не к чему.
– Так ты же сам напросился на поздравление, – рассмеялся Михаил. – Я сам ухожу, Федорыч. Заявление сегодня подал. Совсем уезжаем отсюда.
– А надо ли? – Касаткин сел. – Надо ли, Миша? Вроде у вас наладилось, вроде не слышно про Татьяну ничего. – Касаткин смущенно отвел глаза. – Извиняй, коли напомнил.
Касаткин действительно никогда ни словом, ни намеком не возвращался к тому вечеру… Михаил был благодарен ему, но постоянно при встречах чувствовал гложущее неудобство от постыдной тайны, хранимой обоими. Будто Касаткин открыл ему глаза на что-то, чего он сам не знал в себе.
– Этого-то не было, – сказал Михаил и тут же ощутил, как зажглось лицо, потому что было, было это… Ловил он и позже жену на мелочах: то французские духи в кошелке обнаружит, то наткнется в шкафу на джинсы с заграничными заклепками на заду… – Нет, не было этого, – повторил он с чувством унижения от необходимости врать и не понимая, откуда такая необходимость и почему не сказать Касаткину правду, а сказать ее язык не поворачивается… Уже второй человек, думал он, считает, что у нас с Таней жизнь наладилась.
И чтобы закончить тягостный для себя разговор, Михаил добавил:
– Сам посуди, Федорыч, сын у нас подрастает, об нем думать надо. – И мысленно повинился перед сыном, второй раз он прикрылся сегодня его именем, как щитом.
«Уезжать, быстрее уезжать, – думал он в обеденный перерыв, вяло дожевывая еду, взятую из дома. – Изоврался весь, под корень. Еще не вор, не спекулянт, но уже укрыватель. Вот почему меня жмет, когда вижу Касаткина.
Он сидел, привалившись спиной к штабелю еловых плах. Теплое солнце, чуть привядший запах развороченной древесной плоти нагоняли дрему; на заводском дворе, тут и там, расположились рабочие.
Он, занятый своими мыслями, не прислушивался к разговорам, но вот одно слово поразило его, второе…
– Мужики, – спросил он, – о чем это вы?
– Хо! – быстренько откликнулся Иван Бурцев. – Ты что, Михаил Алексеич, ничего не знаешь?
Бурцев начал рассказывать, но рассказывал, отметил Михаил, как-то уж слишком заинтересованно, лихорадочно, что ли… Иван выдал подробности, настолько жестокие и невероятные, что воображению уже нечего было делать, оно молчало. Женщину Михаил не знал, но по возрасту она могла быть ему матерью, и он, рано осиротевший, вздрогнул, представив, что вот так могли бы убить и его мать…
– Сволочи! – сказал он горько. – Ну, сволочи! Найти бы и перестрелять как собак!
– А меня в милиции об Инжеватове расспрашивали…
– Это кто такой?
– Да наш, плотник… Зять убитой… Я им говорю: вы, товарищи, не белены ль объелись? Этому мужику не то что тещу убить, его всякая сырная муха обидит. Еле отгородил. А уж было взять намылились… Работнички, мать их за ногу!
– Зато ты у нас работничек. Станок запорол!
– Алексеич! Ну что теперь? Так и будешь всю жизнь казнить?
Перерыв кончился, и, без разгона взяв предобеденную скорость, завертелись маховики тяжелого дня понедельника. Как татарская рать, снова поперла на Михаила всякая мелочь, рожденная далеко еще не идеальной связью человека и машины. В довершение ко всему пришел начальник цеха, добрейший тезка Михаил Алексеевич. Пришел он из заводоуправления и потому был суров, тряс Михаила как грушу, въедливо проверял его расчеты, жал и выжал не три с половиной, как почти условились утром, а четыре процента. И это – до чего же цепкий мужик! – при вышедшем из строя станке. На сообщение о станке начальник цеха лишь поморгал запаренными глазами, обронил: «Меня это покуда не касается», – и пошел себе дальше, несокрушимо уверенный, что слово человека и сила приказа понадежнее самых выверенных расчетов. И они, выверенные, были сунуты Михаилом в ящик стола за ненадобностью. Кляня в душе этого старого производственного зубра, который из всех видов трудового героизма признавал и понимал только героизм лихорадочный, Михаил торопливо сбежал по лесенке в цех. Опять не удалось ему оградить свою смену от штурмовщины, опять смена закончит квартал с большим перевыполнением, но с такими потерями, которые ей не раз аукнутся. «Погоди, тезка, погоди, штурмовик несчастный, – мстительно приговаривал Михаил. – Загну тебе салазки на первом же собрании». Как будто раньше на собраниях он не загибал ему салазок… И как будто это, новое, собрание еще могло быть в его жизни… Так неумолимо крутились маховики понедельника, так жадно и без остатка пожирали они всякую постороннюю мысль, что Михаил и думать забыл о заявлении, которое подал сегодня утром.
И вспомнил о нем уже вечером, когда подходил к дому. «Уезжаю», – удивился, словно не веря себе. «Уезжаем», – поправился он и заторопился к калитке, чтобы скорее увидеть Таню: как она там, не раздумала ли? Торопясь он все же цепкими чужими глазами покупателя (дом-то придется продать!) охватил фасад и крышу, остался доволен: хоть и не ново все, но добротно. На трубе, правда, не хватало верхнего облицовочного кирпича, это непорядок, надо сегодня же поставить. А что это у нас с печкой, думал он, прикрывая калитку, почему она горела? Память тут же подсунула слова Тани: «Чистить ее надо, Миша». Он кинул щеколду в паз… «А с какой стати чистить? Я же прочистил дымоход весной, сразу же, как кончили топить». Он затоптался на месте, недоумевая. А память уже подсказывала страшные подробности рассказа Ивана Бурцева, причем эти подробности неведомым образом связывались теперь с его домом, с Таней, и память же отбросила его назад, к тому мгновению, когда после рыбалки он открыл дверь горницы, увидел свежевыкрашенные полы, учуял слабый запах, которым никак не могла пахнуть масляная краска. И почему Таня сама выкрасила полы, ведь это же всегда делал он? «Да что за напасть такая, – сказал себе Михаил, – ты только подумай, в чем ты подозреваешь жену!» Не желая думать и все-таки думая об этом и казнясь, он кружил и кружил по двору – искал какие-то чужие следы, а какие и что именно он ищет, не смог бы ответить, если бы его и спросили. Во дворе, в сарае, в закутке, в котором стоял его верстак и лежали в ящике инструменты, все было так, как он оставил в пятницу утром. Михаил вздохнул облегченно… И вдруг заметил, что нет второго, маленького топора.
– Миш, пришел?
Она стояла сзади, голос ее был чист и ясен, и у него отлегло. Он сидел на корточках перед ящиком с инструментами, спиной к ней, надо было бы подняться, ответить, но он не мог этого сделать: ему замкнуло горло. Наконец собрался с силами и сказал как можно небрежнее:
– Топор ищу. Надо бы его на новое топорище насадить.
– А я уже побеспокоилась, – сказала она. – В субботу ходил по дворам старичок, кликал – я и отдала. Обещал найти дубовое топорище. Такое век прослужит. Нам в лесу топоры понадобятся.
Он верил не столько ее словам, сколько голосу, спокойному лицу и улыбке. Мысленно виноватясь, подошел, приобнял легонько, спросил:
– Ну как ты тут? Не раздумала?
– Чего ж раздумывать? Решили… Раньше бы надо было, Миша, додуматься-то.
Прикоснувшись к ней, Михаил совсем успокоился и даже посмеялся над своими страхами. Они казались ему нелепыми и до того стыдными, что он и под пытками бы не признался в них Тане. Звякнула щеколда – и уже бежал к нему Колька, и, поймав его на руки, он подумал: сын-то ведь был дома, возможно ли при нем?.. Кем же это надо быть? Ах, идиот, идиот! Прости, Таня, своего дурака… Но перед ужином, опять не в силах совладать с собой, он пошел в горницу, открыл дверь и жадно втянул в себя воздух. Пахло краской, чуть-чуть горелой бумагой, но того запаха, который чудился ему вчера, не было.
После позднего ужина Михаил, дождавшись сладкого посапывания Кольки, уснул – и даже не слышал, как легла к нему жена. Проснулся он под утро – и стал думать. Почему Таня сказала, что топоры понадобятся в лесу? Откуда вечером в пятницу она могла знать про лес? И почему вдруг такая заботливость о вещах, о которых она никогда не заботилась? Почему?
Как просто: разбудить жену – и спросить, и рассказать ей, и повиниться, и снять эту тяжесть с души. Господи, как просто! И как бы он был благодарен ей. Но где взять силы? Спаси меня, Таня, спаси от страшных мыслей, милая, родная.
Он решил разбудить ее. Прислушался.
Таня ровно, тепло и сонно дышала ему в плечо.
Он замер. Ему почудилось: она тоже не спит.
2
Виктор собрался, и они пошли. Огарев посапывал, вздыхал и старался вести его к райотделу безлюдными переулками.
– Что-то ты тяжело дышишь, дядь Коля, – насмешливо сказал Дроботов. Он шел, насвистывая легкий мотивчик. – Не страдай. Исполнил свой долг – дыши спокойно.
– Нынче, гляжу, я тебе уже дяденькой стал, – проворчал Огарев. – А вечор ты мою фамилию у следователя Емельянова переспрашивал, племянничек новоявленный.
– Тактика, дядь Коля. С вашим братом надо ухо держать востро.
– Не на тех ухо востришь. Ухо свое держал бы востро, когда Паузкин тебя на пикники приглашал. По степям шастали, у чабанов бешбармаки жрали. А прикинул бы, тактик: за что же тебя бешбармаками угощают? За какие такие выдающиеся достижения в овцеводстве? Вот она, твоя тактика, – полон дом слез оставил.
– Ничего, дядь Коля, поплачут – и перестанут. Это им за «Рассказ нищего»… А Паузкина ко мне не лепи, он – жулик. Не раскусил я его, куркуля.
– Витька! – гневно сказал Огарев. – Ведь я тебя мальчонкой помню и совестливым. А теперь разъясни мне за-ради бога: с каких пор ты стал такой плавучий? Ну совершенно непотопляемый! Мать, жена, дочки плачут – тебе ничего. Жулика под крылом пригрел, около него уж два года отираешься – опять ничего. Вчера подписку о невыезде дал, чернила на подписи еще не просохли, а ты, домой не заходя, в степь ударился, к чабану, к дружку своему корыстному. Подписку нарушил, следователя Емельянова подвел – и опять ничего! Тебя нынче свободы лишили, а ты…
– Позволь, товарищ Огарев, – вскинулся Дроботов, – выбирай формулировки! Меня задержали, а не арестовали. Понимать должен разницу. Через семьдесят два часа – пожалуйте обвинение. А не предъявите – я тебе же, товарищ Огарев, ручкой помашу.
– Дурень ты, дурень… Это по закону – разница, а по-человечески, по совести ежели рассуждать, разницы никакой нету, Витя. Семьдесят два часа ты будешь без свободушки. А без нее доброму человеку и минуты прожить невыносимо. За твою-то свободу у нас там, – Огарев махнул рукой туда, куда шли, – борьба мнениев открылась. М-да… А ты? Идешь, песенки насвистываешь… Тебе – опять ничего.
– Вы с Емельяновым словно сговорились, – усмехнулся Дроботов. – В одну дуду поете.
– Емельянов всего лет на пять постарше тебя, а разница меж вами… и-и-и, касатик! Далеко тебе до его сердечной чистоты и душевности. Этот много будет думать, прежде чем сунуть человека в камеру.
– Да лучше бы уж и сунул… А то всю душу вытряс. Водил, водил вокруг убийства, я и оглянуться не успел, а он уже меня подвел к нему да и ткнул мордой в Аришин халат. Тут поневоле задумаешься: уж не я ли? От тебя того же жду… Того и гляди, скажешь: признавайся, Виктор.
– Признавайся, Виктор, – сказал Огарев. – Вспомни слезы своих дочерей и признавайся, не вертись вьюнком, будь мужчиной. Перво-наперво: зачем ездил к чабану в ту ночь, когда была убита Рудаева? Почему нарушил подписку и опять уехал в степь? Что тебя туда тянуло?
– Да не в том дело! – воскликнул Дроботов. – Ты с луны свалился, что ли, участковый? Меня в чем обвиняют-то? А ты – про чабана, про подписку…
– Заюлил, заюлил… Вот потому-то Емельянов и ковырялся в твоей увертливой душонке. Видит: то тебе ничего, это нипочем, а отсюда недалеко и до убийства… Но все ж он поверил тебе. А я вот думаю: не ошибся ли? У чабана твоего мы нынче кое-что изъяли и отправили на экспертизу. Найдут эксперты кровь Рудаевой на тех предметах, тогда что ж… Тогда сомневаться боле уж не будем.
– А обрывок халата, дядь Коля? – с надеждой спросил Дроботов. – Отослали на экспертизу?
– Ответ уж получили. Ее кровь на нем, Виктор. Много, много на тебе висит.
– Ну, все, – сник Дроботов. – На допросе у Емельянова еще верилось как-то… А теперь – все! Пропал я… Своих домашних почище следователя допросил, но и не возьмем в толк: откуда этот лоскут? Ты про какие-то предметы говорил, которые вы изъяли у чабана. Я не знаю, что это, но чувствую: будет и на них кровь тетки Ариши! Ни в бога, ни в черта не верю, но, дядь Коля, это же какое-то колдовство. И все на меня, на меня, на меня!
– А на два мои простеньких вопроса так и не ответил, – сказал Огарев. – Что ж ты дурочку валяешь, щенок? Колдовство приплел… Стыдись!
Дроботов замялся.
– Вот жизнь! – вздохнул Огарев. – Прожил, почитай, ее, а не перестаю удивляться. Над человеком подозрение в убийстве висит, до обвинения недалеко, – есть ли что позорнее этого? Выходит, есть… Зачем в ночь гибели Рудаевой ездил в степь? Ну!
– А когда мне еще ездить! – взорвался Дроботов. – Ночью ты хоть спишь… А днем у тебя всюду глаза.
– И ночью ты от людских глаз не скроешься. Далее отвечай!
И опять замялся Виктор Сергеевич Дроботов. Очень ему не хотелось говорить!
– А придется… – сказал он вслух. – Все равно допытаетесь. Зря я лез в бутылку на допросе у Емельянова, А к кому ты меня сейчас ведешь, дядь Коля?
– Не крути, Виктор!..
– Ну ладно… Митька Батаев, к кому я ездил, моей жене дальний родственник. В его отаре моих овец с десяток ходит…
– В совхозной отаре, – поправил Огарев.
– Отвез ему дрова на зиму и кое-какие запчасти к «Жигуленку». Но говорю тебе, дядь Коля, – заторопился Дроботов, – с Паузкиным меня не путай. Все покупное!
– Как можно! – отозвался Огарев. – Паузкин жулик… а ты у нас честный человек… Однако и покупное возишь почему-то тайком и по ночам.
– Вот-вот… Этого и боялся. Начнете теперь меня поджаривать на медленном огоньке.
– Тебя, помимо угрозыска, ОБХСС еще поджарит, и не раз. За мудрое руководство автоколонной… Далее!
– А что далее? Знал бы, что в ту ночь была убита Рудаева, обождал, уехал в другую. Я ж не дурак – под прямое подозрение себя подводить.
– Подписку зачем нарушил? Почему сразу после допроса рванул в степь? Забеспокоился и решил понадежнее кое-что спрятать?
– Дядь Коля, ты в Шерлоки Холмсы не рвись, тебе дедукция противопоказана… Если бы я решил в степи «кое-что» спрятать, то первым делом спрятал бы там труп. Степь широка, ищи его… А его кинули в ерик. Очень укромное местечко, скажу я тебе!
– Ты крылышки-то не расправляй. Уж поверь мне, старому: от преступника можно ждать все что угодно. Он убил – и сам в смертном страхе, ему не до рассуждениев… Ждешь, скажем, что он, имея машину, отвез и закопал труп в степи, а он взял и выбросил его в ерик… Но это к слову. Ты-то что прятал в степи?
– Овечек, дядь Коля… После допроса подумал: а ведь Митьку Батаева начнут трясти. И выплывут тогда мои овечки… Съездил, предупредил, чтоб молчал, – и назад.
– Вот, значит, как… – проговорил в раздумье Огарев. – Тебе, парень, одно теперь спасение: перед Емельяновым – как на духу…
– Пусть он одно знает, дядь Коля, – я не убивал! А все эти халаты, шоферские путевки и чего вы еще нашли у чабана? Все это ко мне отношения не имеет. Диво дивное! Приехал к Митьке, сказал и уехал, а они нашли… Этак вы на нашего брата не знай чего найдете, чтоб убийство приконопатить.
– Опять? – строго спросил Огарев. – Заегозился? Крылышками захлопал?
– Я не убивал, дядь Коля, – устало сказал Дроботов. – Верь мне: не убивал.
Пошли молча. Минуты через две Дроботов, забывшись, снова засвистал веселый мотивчик. Огарев с изумлением глянул на него.
– Ну, Витька, – сказал, – ну, Витька! Сил моих с тобой больше нету. Ох, с каким бы удовольствием снял бы я с тебя джинсики и выпорол. Чтоб ты всю остатнюю жизнь, прежде чем словчить, на собственные ягодицы поглядывал!
3
По утрам, вместе с солнцем, истаивал дурной туманец в душе Михаила Бурлина, пропадали ночные страхи. Вставали Бурлины рано. Таня собирала завтрак, Колька мыкался по горнице, ища запропастившийся пенал, Михаил просматривал его тетради, наблюдал, успокаиваясь, за обычной утренней суетней жены и сына, милой его сердцу.
– Пап, – ныл Колька, – где ж он, пенал-то?
– Ускакал куда-нибудь.
– Такой же неслух, как и ты, – поддерживала мать. – Сколько говорено: сделал уроки – сразу собирай свой ранец.
– Вам бы все меня критиковать, – заявлял Колька. – А я вот в школу опоздаю. Хорошо будет?
– Да чего ж хорошего, – ответил Михаил. – Выпороть тебя тогда придется.
Колька думал-думал, говорил:
– Поищу, пожалуй, пенал-то.
– Поищи, сынок.
Страхи его пропадали, подозрения улетучивались, но они были же, были! И будут. Ночь снова придет… Михаил понимал, что такой груз в душе долго носить не сможет. Но теперь, при свете дня, ему казалось, что дело уже не в Тане, только такой сумасшедший, как он, мог связать убийство неизвестной старухи с именем жены. Дело в нем. Если он мог подумать такое о жене, значит, тут только два объяснения: или он действительно сумасшедший и об этом пока еще никто не знает, или же виноват сам…
– В чем? – спросил он с возмущением и спросил вслух.
– Ты что, папка? – сказал сын. – Чего-нибудь у меня неправильно?
– Все у тебя правильно, сынок, – Михаил отдал ему тетради. – Это я об работе думаю.
– А ты придешь на работу, тогда и думай, – сказал Колька. Пенал он нашел, в тетрадях ошибок не оказалось. Потому и выдал с материнской интонацией: – Сейчас, папка, ты обязан о семье думать, как все добрые люди.
«О семье и думаю», – хотел было ответить Михаил, да прикусил язык: вошла Таня, поставила на стол сковородку с яичницей. «Завтракать, мужики!» – сказала она с улыбкой.
Позавтракать еще не успели, как явилась старуха Акулина Короткова, соседка. С порога, не поздоровавшись, дрожа от возбуждения, спросила:
– Слыхали?
Трое Бурлиных молча и удивленно глядели на нее.
– Убивца-то нашли! И кто? А? Витька Дроботов, Михеевны сынок, – в многотысячном поселке Акулина знала многих поименно. – От сынок, всем сынкам сынок! Его еще анадысь, в воскресенье, повели к ответу, да выпустили. Видать, сумление было. А вчерась законопатили в милицию насовсем. Михеевна волосы на себе рвет…
Понаслаждавшись мгновение, Акулина продолжала с сарказмом:
– Рви, матушка, рви остатние волосенки… Произвела на свет убивца, теперя и рви, и реви, да поздно. А туда же – в начальники вышел. От они, начальнички-то, мать их…
– Акулина! – звенящим голосом сказала Таня. – Ребенок за столом!
– Колька, забудь, – тут же повинилась беспардонная Акулина. – Забыл?
– Забыл, баушка, – ответил Колька. Как ни странно, он любил старуху, пропадал у нее часами. – Нехорошо ругаться, баушка.
– Знамо, нехорошо, касатик, – Акулина пятилась к двери под взглядом Михаила. – Ты уж меня прости, глупую. До свиданьица!
И выскочила за дверь. Таня, глядя на побледневшее лицо мужа, сказала:
– Ну что мне теперь, Миша? Не на запоры же от нее закрываться. Клянусь тебе, никаких дел у меня с ней нет!
А Михаил не слышал ее слов, не об этом думая. Ему дышалось легко, освобожденно… Нашли! Боже мой, нашли! А он-то, он-то каков! Прости своего сумасшедшего, Таня…








