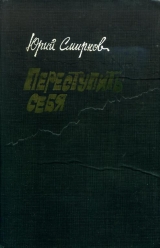
Текст книги "Переступить себя"
Автор книги: Юрий Смирнов
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Она по телефону дала задание сотруднице и, положив трубку, сказала:
– Боюсь быть назойливой, Александр Григорьевич, а спросить не терпится.
– Отвечу… Убийца вытер руки о первые попавшиеся бумаги и хотел их сжечь. Но что-то помешало ему. Тогда он сунул их в мешок. – Об Ивановом ведерке Конев решил умолчать. – А мешок утопил в ерике.
– О господи! – сказала Хабарова тихо. – О господи!
Вошла девушка в яркой и пестрой, как купол парашюта, юбке-колокольчике, положила на стол листок. Разглядела лицо своей начальницы, и светлые бровки ее удивленно взлетели вверх.
– Ступай, Валя, спасибо, – сказала Елена Юрьевна. – Платежка, Александр Григорьевич, исходит из СМУ-1 «Волгоахтубстроя». Это – на Трусово.
– На Трусово? Но там же есть свой банк!
– Конечно. Однако предприятие, которому это СМУ заплатило две тысячи пятьсот рублей, – у нас, в Икряном.
Она толково и кратко объяснила ему систему взаимных банковских расчетов.
– Не нравится мне кое-что в вашей епархии, – выслушав, сказал Конев.
– Что именно, Александр Григорьевич?
– Я считал, что финансисты особенно строги к учету денежных документов. Неужели у вас нет инструкции, которая бы определяла количество выписываемых платежек? Ведь получается, что одна из них оказалась лишней и превратилась в путешественницу. Почему это стало возможным?
– А потому, что инструкцией предусмотрена и такая вещь, как авизовка…
Хабарова опять сумела кратко и толково объяснить, что это значит, и закончила с чуть заметной иронией:
– Не окажись лишнего экземпляра, вы, Александр Григорьевич, не получили бы возможность проследить его путь. А насколько я понимаю, это для вас очень важно.
Конев рассмеялся.
– Ну хорошо, – сказал он, – вот мы и подошли к главному. Имеются три финансовые точки – Икрянинский банк, Трусовский банк и Трусовское СМУ, – через которые проходил этот документ. Где мог осесть лишний экземпляр?
– Только у вас на Трусово, в СМУ. Подписав все экземпляры, один я оставила у себя, остальные отослала в Трусовский банк. Мой коллега поступил точно так же. А бухгалтер СМУ, получив эту платежку в двух экземплярах, одну вложил в отчетную документацию, другую – порвал и выбросил в корзину за ненадобностью. Кстати, посмотрим на подпись бухгалтера на моем экземпляре. Вот она: «Л. Бурцева».
«Что такое? – насторожился Конев. – А хорошо ли Сергунцов и его товарищи проверили поэтессу и ее мужа?»
Взяв со стола акт экспертизы и обрывок платежки, он сказал:
– Видимо, вы правы, Елена Юрьевна. Бурцева порвала этот документ, как ненужный. Но где? На работе? Или сначала взяла его домой?
– А смысл, Александр Григорьевич? Для подделки? Подчистки? Только сумасшедший будет подделывать и подчищать документ, деньги по которому уже перечислены. Нет, тут другое.
– Логично, – сказал Конев. – Почти убедили, Елена Юрьевна.
– Когда-то, – смущенно произнесла Хабарова, – хотела я поступать на юридический. Очень мне нравилась ваша профессия, Александр Григорьевич. Отговорили нерешительную девушку… Да, а почему «почти»? Почти убедить – это ведь, применительно к вашей профессии, совсем не убедить.
– Потому что кто-то все-таки вынес платежку из конторы СМУ. Иначе она просто не оказалась бы там, где ее нашли.
– Тоже логично, – сказала Хабарова. – Тогда открою вам, Александр Григорьевич, маленькую производственную тайну: есть у нас две уборщицы. Сколько раз им выговаривала: «Бабоньки, нельзя брать домой бумаг из мусорных корзин». Винятся, обещают не брать и берут. Зачем? У нас, Александр Григорьевич, все-таки село, а не город, нас русская печь греет… А печку надо чем-то разжечь. Поселок Трусово я хорошо знаю, там отопление не везде паровое. Думаю, что уборщицы Трусовского СМУ тоже этим грешат. С них, пожалуй, и надо вам начать.
Сказав это, Хабарова спохватилась:
– Простите, Александр Григорьевич, я, кажется, начинаю давать советы следствию лишь на том основании, что когда-то мечтала поступить в юридический институт. Ох, как нехорошо… Сама ненавижу дилетантов – и на тебе!
– Почему же, – сказал, улыбаясь, Конев, – совет дельный, мы им воспользуемся. Благодарю вас, Елена Юрьевна. Две минуты я вам все-таки сэкономил, мы уложились в восемнадцать…
4
Вскоре соседка Акулина Короткова принесла Бурлиным другую новость: освободили начальника автоколонны Виктора Дроботова. В этот раз Акулина пришла вечером. Таня отругала ее: «Ходишь, носишь… а нам-то что? Нам-то зачем знать? И своих забот хватает». Настырная Акулина, что на нее совсем было непохоже, смешалась, ответила: «Человека извели, Таня, ай непонятно? Люди добрые и по сю пору опомниться не могут, а ты? Старушка в земле лежит безвинная, а убивца – на тебе! – отпустили… Жалости, гляжу, нету в тебе, Татьяна». – «Что мне ее жалеть, – сказала Таня, – я про нее раньше и не слыхала. Вот о тебе бы я пожалела». – «Да, уж ты пожалеешь, – засомневалась Акулина, – каменюка холодная». Михаил увидел, как напряглось лицо жены от этих слов, поймал ее беспомощный взгляд, сказал:
– Акулина Степановна, вы больше к нам не приходите. Калитку нашу общую я завтра заколочу.
– Спасибо, Миша, – сказала Акулина вздорным голосом. – А ты, Татьяна, чем мне отпоешь за мою к тебе любовь и потачку?
Она отвернулась. Тогда Акулина поклонилась ей в спину, поклонилась и Михаилу, сидевшему на старенькой кушетке, сказала как ударила:
– Живите!
И открыла дверь. Но уйти ей не дал Колька. Кинулся, повис на шее, целовал… Акулина заплакала. Глянул Михаил на жену – и у нее глаза на мокром месте. Да и ему на своей кушетке что-то стало неудобно…
– Сынок, – спросил растерянно, – тебе бабушку жалко?
– А как же, пап, – ответил Колька. – Ты, бабаня, садись… – И снова – отцу: – Все ее бросили, теперь ты гонишь. Совсем одна. А заболеет, что тогда? Умрет ведь человек, умрет! А вам с мамкой хоть бы хны.
– Да ведь слова-то у нее какие, Коля! – сказала мать. – Слова-то у нее поганые. И разума нет: при ком ни приведись ляпнет – при малом, при старом, ей все одно.
– Не обращаю внимания, – заявил Колька.
– Ох, миленький, – шептала, всхлипывая, Акулина. – Ох, золотко…
– Акулина Степановна, – вконец растерявшись от такого поворота дела, сказал Михаил, – защитник у вас больно могучий, да и я не зверь… Но вы в другой раз все-таки думайте, кому и при ком говорите.
– Неученая я, Миша… Как думается, так и скажется, – по-простому. А все ж при мальчонке я окорачиваюсь… Тань, ты уж прости меня за каменюку-то холодную…
– Это называется – окоротилась… – сказала Таня. – Ты еще разочек повтори, чтоб сын получше запомнил… И насчет «убивца» – тоже. Ох, Акулина, Акулина… Что с тобой делать, прямо и не знаю.
Час спустя, уложив Кольку, она подсела к Михаилу, непривычно тихая. Прижалась плечом, сказала:
– Парень наш весь в тебя. Сердечко ясное… Вот и ты, Миша, извелся весь, мучаешься, милый мой. Я же вижу…
На него после ухода Коротковой снова обрушилось то, прежнее. Пока неизвестный ему Виктор Дроботов сидел в милицейской камере, это вроде бы потеряло смысл, ушло, развеялось в прах, но подспудная тревога все-таки тлела в нем, а теперь вспыхнула с новой разрушающей силой. И надо вложить в слово свои подлые страхи и сомнения, жена ждет, и другого такого случая не будет. Но слово не выговаривалось… И Михаил вдруг понял, что раньше, мучаясь и подозревая, он мучился и подозревал как-то так, вообще, туманно, зыбко. Ни разу он не нашел мужества подумать: «Таня убила, Таня расчленила труп, выбросила его в ерик», – нет, он трусливо обходился смутными намеками, а если и появлялась прямая мысль об этом, он поспешно отшвыривал ее, и она тут же дробилась на что-то мелкое, бесформенное, вроде бы ложное и потому терпимое, позволяющее жить рядом с Таней и не терять веру в нее. Вот в чем, оказывается, дело – об этом надо думать без обмана, если хочешь постичь правду, а он щадил себя, играл в страхи, в мнительность, потому что за ними маячила надежда: выяснят, найдут… Кого-то найдут, про кого он и не знает, зато перед Таней он останется чист, если не в помыслах, то в слове. И Таня перед ним – тоже… И тут ложь, и жалкий, щадящий обман самого себя. А вдруг не выяснят, вдруг не найдут? Что тогда? А ничего… Будет он жить с женой, которая вроде бы убийца, а вроде бы и нет. Ведь живет же он с нею, а она – воровка… но вроде бы и нет, потому что он прикрыл ее грех в тот пятилетней давности сентябрьский вечер, когда пришел к ним Петр Федорович Касаткин. С Петром Федоровичем и прикрыл, и оба теперь блудливо отводят друг от друга глаза при неизбежных встречах в цеху. А с чего бы? Да с него же, с маленького обмана. Такая ведь мелочь: взято – возвращено, а не пойман – не вор, и не отправлять же Татьяну из-за пустяка в тюрьму снова. Они оба, некрадущие, уважаемые, считающие себя честными, были, оказывается, подлее и опаснее ее, раздавленной рулончиком украденного материала, который она, стоя у стола, потерянно и нелепо держала в руках. А могла бы она узнать, что не пойман – но вор… Не узнала. И если Рудаева убита Таней, то убита не сейчас, а тогда, в тот сентябрьский вечер, за тем вечерним столом, – и не Таней, а им самим. Боже ты мой, с тоской подумал он, когда, в какую минуту я превратился в подленького лгуна? Врал Тане, себе, Касаткину – всем! И еще предстоит один обман – уедем в лес. Будто там, в лесу, можно очистить совесть, сразу перешагнув через возмездие, не перестрадав всенародно свой позор.
Она обняла его рукой за шею, притянула голову, сказала тихо:
– Не казнись, Миша… Говори уж… что ты придумал с этой старухой?
– Ты догадалась? – отшатнулся он от нее.
– Невелика догадка, дурачок ты мой. Когда ты думаешь об чем-нибудь, у тебя все на лице. Говори уж…
И он сказал. Слова его, вобрав в себя все затаенные страхи и подозрения, стали такими дикими, такими нелепыми, что не могли уже иметь в силу одного этого никакого отношения к Тане. Трудно, оказывается, думать ясно, четко и безобманно, но еще труднее – сказать. А она слушала внимательно, глядя на него с жалостью, с материнской нежностью. Не рассмеялась его словам как нелепице, не возмутилась, не откликнулась ни единым протестующим жестом.
– Все? – спросила.
– Все, – ответил он, чувствуя, что и на этом, новом для себя пути, он терпит поражение. Добавил, понурив голову: – Прости меня, Таня. Теперь и сам вижу: глупость это.
– Для меня, может, и глупость, – печально сказала она, – а тебя, горюшко мое, эта глупость может запросто до желтого дома довести. Давай разберемся трезво и спокойно. А то ляжешь нынче ночью и опять будешь прислушиваться: сплю ли?
– Значит, все-таки не спала…
– Ты страдаешь неизвестно от чего, а я что же? Я тебе не жена?
– Прости, Тань, – снова повинился он.
– Теперь слушай… Перво-наперво, смутил тебя недостающий кирпич на трубе. Подумай сам: я убивала старуху в доме или на дворе, внизу то есть, на земле. А кирпич-то по какой причине упал с трубы? Из протеста, что ли? Дать знак тебе захотел?
Михаил вскочил, заходил по горнице, сжав голову руками.
– Дурак, – шептал он, – ох, дурак… Такого поискать! Нагородил, наворочал… Не надо, Тань, а?
– Надо, – жестко сказала она. – Теперь разберемся с топориком твоим любимым… Подозрительно, что топоришко отдан мною старику сразу после убийства Рудаевой, да? А почему ты не настораживаешься, когда случайно встречаешь на улице знакомого, которого не видел, скажем, пять-шесть лет? Почему не думаешь, что все эти годы твой знакомый специально проторчал на том месте, чтобы только встретить тебя? Не подсунься ко мне в ту субботу старик – лежал бы твой топорик и до сих пор на своем месте. И не в ящике с инструментами, где ты его искал, а в прихожей, в нижнем ящике комода, там тоже твой хлам лежит, мужичок ты мой хозяйственный… Лучше бы ты этого старика сам поискал, а то он взял топор в работу – и нет его до сих пор.
– Вернул. Дня три тому назад.
– Так ты бы его и спросил, как дело-то было. Кто кого искал: я – его, или он сам по дворам шастал?
– Не догадался, Тань… Не тем мысли были заняты.
– Как же – не тем? Тем самым… Хороший, гляжу, из тебя следователь. Обвинил собственную жену, а там хоть трава не расти… Ладно, далее пойдем… Печь побеленная, полы покрашенные, запах странный… Ну, насчет запаха – я не знаю, это уж, Миша, возьми на себя, разберись сам, если сможешь. А печи наши, в доме и на кухне, проверяли пожарники дня три спустя после убийства Рудаевой. Ты был на работе. Проверили – и ушли, замечаний никаких не сделали.
– А что ж ты мне-то не сказала? – удивленно и обрадованно спросил он.
– Да запамятовала, Миша. Ко всем ходили, у всех проверяли.
И каждому факту, который тревожил его и заставлял подозревать, она дала иное толкование. Даже о сыне, в присутствии которого, как думал раньше Михаил, невозможно было совершить э т о, она сказала:
– Так уж и невозможно… Калитка внутренняя не заколочена, Колька у Акулины часами пропадает…
Лучше бы она не говорила этих слов! С похолодевшим сердцем он подсел к ней, спросил:
– Таня, а ты не в кошки-мышки со мной играешь? Все ты мне объяснила, на все у тебя готов ответ. Будто заранее наизусть заучила.
– А мне иначе и нельзя, – сказала она просто. – Запнусь на чем-нибудь, ты меня вновь заподозришь. Тебе со мной, Миша, нелегко, это я понимаю, обжигался ты не раз… Но и мне с тобой трудно. Ты добрый, великодушный, прощал мне много, соседи говорят – он-де все тебе простит, если после тюрьмы принял… А я, Миша, гнева твоего боюсь. И потерять тебя боюсь, родной… Десять лет с тобой прожили, а непостижимый ты для меня.
– И ты, – признался он тихо и благодарно. – Иной раз будто в пустоту кричу – без ответа. И такая тоска берет, куда бы делся. Таня, про какой ты гнев говорила – не знаю, но прошу тебя… Если это ты… мне ни слова не говори, не надо. Но завтра пойди сама в милицию… Ведь человек убит, Таня!
– Господи, – сказала она в отчаянии, – ты опять за свое? Далась тебе эта старуха! Послушать тебя, так будто ты ее сам убил.
– Может быть, я и убил ее, Таня…
Она взяла его лицо в ладони, повернула к себе, смотрела неотрывно, долго, почти со страхом.
– Вот этого, – сказала, – и боюсь. И что ты за человек? Все скорби твои. Ладно, Миша, я пойду, если хочешь. Я пойду, но ты научи меня, как мне там говорить. А то ведь и засмеют…
Лицом приникла к его лицу, целовала в ухо, шептала:
– Не мучь ты меня, и сам не казнись, родной мой. Нехорошо ты сказал про тоску… Нехорошо, больно. Молодая была, слепая, ничего не понимала, оттого и тоска твоя… Теперь иное, теперь я другая. Верь мне, Миша, верь мне, солнышко мое.
Она робко расстегивала на нем ворот рубашки, и касания ее пальцев волновали, его, она, всегда желанная, с чуть откинутым, мгновенно истончившимся от ожидания лицом, была рядом, звала его к себе, и он успел благодарно подумать: все то, прежнее, было наваждением, потому что не могла же она… не может же… нельзя же так… И освобожденный, и осчастливленный, и крылатый от новой веры в Таню, он сейчас любил ее, как любил в снах своих, больно, забыто, нежно…
Глава шестая
1
Младший лейтенант Александр Токалов, видя, что Конев с Сергунцовым заняты разговором, попросил разрешения подождать и устроился в сторонке. Следователь рассказывал о поездке в Икряное и о встрече с главным бухгалтером районного отделения госбанка Хабаровой. Сергунцов слушал, делал пометки, а сам нет-нет да и поглядывал в сторону Токалова, чувствуя, что парень дожидается неспроста. Как только Конев кончил, Сергунцов сказал:
– Александр Григорьевич, ты позвонил из Икряного, и мы сразу пошли в СМУ, чтобы заняться этой платежкой. Мухрыгин и сейчас еще там.
– Молодцы! – искренне похвалил Конев.
– А как же… Не сидим, не лежим, мхом не обрастаем, – довольно отвечал Сергунцов. – Лида Бурцева, бухгалтер СМУ, насторожила тебя зря. Милая женщина, стихи пишет. Самолично прочитал в стенгазете.
– Стихи – это не доказательство по делу, Виктор.
– Александр Григорич, – четко проговорил Сергунцов, – супруги Бурцевы проверены основательно, забудь о них. Я ведь не только стихи читал, но и ознакомился у них дома с содержанием номера «Пионерской правды» за двадцатое августа, чем нанес, можно сказать, Огареву личное оскорбление. Старикан не привык, чтобы его перепроверяли…
– Уборщицами поинтересовались?
– Еще бы. Но тут хуже. Уборщица в СМУ одна, причем новая. Приступила к работе дня через три после убийства Рудаевой. А прежняя уволилась дней за десять до убийства. Но она-то и прихватывала отработанные бумаги для домашних надобностей.
– Нашли ее?
– Выяснились кое-какие сложности, Александр Григорьевич. Мухрыгину даны сутки. Что у тебя, Саня? – спросил Сергунцов младшего лейтенанта. – Ты у меня, брат, работаешь наособицу: тебя полковник Максимов опекает…
– Не смущай парня, – добродушно проворчал Конев. – Он и так волнуется.
А было отчего. Тетка Ариша, сказал Токалов, несколько месяцев тому назад дала взятку неизвестному лицу, чтобы иметь документ на десять лет трудового стажа, не хватавшего ей для ухода на пенсию. Справку на стаж не получила. Но и денег ей не вернули.
Конев быстро глянул на Сергунцова, уловил ответный взгляд. Уже не по одному делу работали они вместе, давно научились понимать друг друга.
– Откуда сведения? – коротко спросил Сергунцов.
– Откуда же им быть, от квартирантки, Марии Андреевой, – пожал плечами Токалов. – Ариша обмолвилась ей о взятке незадолго до смерти и посетовала, что денег своих получить назад, видно, не удастся.
– Эх, Ариша, Ариша… – сожалеюще произнес Сергунцов. – Не о том бы тебе думать, как деньги вернуть, а о том бы подумать, чтобы взятку не давать. Глядишь, и жива была бы… А что, Андреева не могла вспомнить раньше?
– Ну, Виктор Гаврилыч… Понять ее можно: не хотела вспоминать. Достаточно, что родная дочка память о покойной матери не щадит… Кстати, из-за этого меж Людмилой Инжеватовой и Марией черная кошка пробежала, а раньше были довольно дружны: обе молоды, обе несчастливы в семейной жизни. Людмила и сейчас тянется к Марии, но та видеть ее не хочет. И с Аришей под конец она тоже в размолвке была. Узнав от нее о взятке, Мария вспыхнула, стала ее ругать, вгорячах даже воровкой назвала, чего теперь простить себе не может.
– Успокой ее, она недалека от истины, – сказал Сергунцов. – Попытаться украсть у государства десять лет трудового стажа – не шутка. Д-да… А все-таки не могу и я простить твоей Марии: могла бы сказать раньше!
– Товарищ старший лейтенант, – запротестовал Токалов, – да войдите же вы в ее положение! Хозяйка убита, родная дочка чернит ее, а теперь еще и Мария станет… Больших трудов стоило мне снять этот психологический барьер. Да и не могла она знать, что сведения о взятке нас заинтересуют в связи с убийством.
– Сведения о взятках интересуют милицию всегда! – отрубил Сергунцов. – Вообще, Саня, старайся воздерживаться от выдачи легковесных справок на моральную чистоту той или иной гражданки. Мне говорили: тетка Ариша – правдолюбка, но она же хотела получить пенсию незаконным путем. Мне говорят: Мария Андреева чистая натура, ее возмутил факт взятки, но дальше возмущения дело не пошло. Ладно, я не валенок, кое-что понимаю… Но теперь-то эта чистая натура пожелает помочь следствию? Ты объяснил ей, как важно нам знать имя человека, которому была дана взятка?
– Объяснил, – ответил Токалов. – Сказал, что между взяткой и убийством возможна причинная связь. И еще сказал, что единственный человек, который может знать, кому была дана взятка, – дочь тетки Ариши, Людмила Инжеватова. Посоветовал возобновить с ней дружеские отношения.
– И что Мария?
– Расплакалась. Дескать, не пошла в милицию, промолчала, – тем самым, выходит, убила свою хозяйку. Я же говорю, чистая натура, а чистые – они все на себя берут.
– Опять тебя повело, – поморщился Сергунцов. – Отвечай коротко: согласна?
– Да, Виктор Гаврилович.
– Ну вот, – довольно проговорил Сергунцов. – А то: чистая – нечистая, убила – не убила… Поступок, и только поступок, определяет духовное лицо человека. Понял?
– Понял, – произнес Токалов с сомнением.
Сергунцов рассмеялся.
– Ничего, поймешь… Садись ближе, Саня, будем думу думать, как нам, в свою очередь, помочь Марии.
– Вы думайте, – сказал Конев, – а я все-таки попытаюсь вызвать Людмилу Инжеватову на откровенность. Каково на этот счет твое категорическое суждение, Виктор Гаврилыч?
– А таково! – мгновенно откликнулся Сергунцов. – Наивный ты человек, Александр Григорич!
2
Конев не стал вызывать Инжеватову в райотдел, сам пришел к ней домой. Подготавливаясь к разговору, еще раз перечитал материалы, имевшиеся в уголовном деле. Первым с Людмилой разговаривал Токалов, за ним – Сергунцов, а следователь райотдела капитан Емельянов взял у нее уже официальные показания. Со всеми тремя сотрудниками Людмила твердо держалась на заранее занятых позициях. Следователь прокуратуры Зародов не встречался с ней. Весьма отрицательно относясь ко всякого рода «психологическим» версиям, он считал, что в поведении Людмилы Инжеватовой нет загадок, а ежели таковые и есть, то не имеют никакого отношения к расследуемому преступлению и не стоит над ними ломать голову. Противоположной точки зрения держался полковник Максимов: по его заданию младший лейтенант Токалов планомерно изучал прошлую жизнь и связи не только тетки Ариши, но и ее дочери. И кое-что выяснил. Была загадка в поведении Людмилы Инжеватовой, и она имела все-таки отношение к убийству ее матери… А иначе ничем не объяснишь те новые факты, которыми теперь был вооружен Конев.
Людмила была в доме одна, встретила его сухо, но и без удивления, будто внутренне готовилась к его приходу. Снимая плащ, Конев сказал, что сотрудники розыска многое уже знают о жизни и смерти ее матери, это знание не совпадает с тем, о чем Людмила говорила в прежних показаниях, и он хотел бы понять, почему она так говорила. В конце концов, он ведь пришел к союзнику, цель у них одна – найти убийцу Ирины Николаевны Рудаевой…
Инжеватова пригласила его к столу, застланному старинной бахромчатой скатертью. Сказала с напряженной усмешкой:
– К союзнику… А весь наш разговор сведется к одному: выпытывать у меня станете.
– Не скрою… – добродушно откликнулся Конев, усаживаясь и словно бы не замечая ее усмешки. – Но ведь и есть что, а?
– Вам виднее, – не поддалась она на его тон. – А я уже раньше сказала все, что знала.
– Вот и пройдемся по сказанному еще разок, Людмила Николаевна. Цитирую коротенькую протокольную строчку: «Моя мать прожила не лучшим образом». Вы говорили так?
– Да.
– И в доказательство сослались на десять лет, которых ей не хватало до пенсионного трудового стажа. Человек десять лет не занимался общественно полезным трудом – прямой намек на то, что занимался чем-то иным, предосудительным. Иного толкования и быть не может, ведь эти десять лет вашей матери жить как-то было надо. Впрочем, и вам тоже, поскольку вы, несовершеннолетняя, были в ту пору у нее на руках, а глава семьи долгие годы бегал за длинным рублем, да так и затерялся в бегах… В таких условиях жить без постоянной работы – значит голодать… Или, наоборот, сыто жить, но… Большой простор оставили вы нам для додумывания характера и поведения своей матери, Людмила Николаевна.
– И в этом теперь вы вините меня? А в нашей жизни все это было! Могу и сейчас повторить то же самое.
– Условимся, Людмила Николаевна, вот о чем. Мне придется говорить вам тяжелые вещи, они сами по себе будут обвинять. Но я-то пришел сюда не обвинять, я пришел понять вас. И убедить… Готов даже к тому, – Конев улыбнулся, – что стану говорить больше, чем вы. Но надеюсь – не безответно!
Наконец-то и она улыбнулась. Проговорила быстро:
– В чем я не уверена, Александр Григорьевич…
– Не торопитесь. Попытайтесь-ка мысленно поставить себя на мое место, чтобы вам было легче понять и меня. Вы, следователь прокуратуры, приняли дело к своему производству, изучаете материалы и, в частности, знакомитесь с показаниями свидетеля Инжеватовой, дочери погибшей… Что вам, следователю, сразу же бросится в глаза? Странное, необъяснимое и противоестественное желание дочери бросить хоть какую-то тень на покойную мать. Мать была плоха, а вот она, дочь, лучше. Хотя бы потому, что всю жизнь страдала от каких-то поступков и проступков своей матери… Осознанно или неосознанно, но вы, Людмила Николаевна, словно выгораживали себя. А еще говорите – мы выпытываем… Этого Саша Токалов у вас не выпытывал. Для него ваши откровения были как гром с ясного неба.
– Но я, – воскликнула Инжеватова, – была обязана говорить правду! Он же сам меня предупредил.
– Такую – не обязаны… В таких случаях и закон щадит сокровенные родственные чувства свидетеля и не обязывает его давать компрометирующие показания на близких родственников: жене – на мужа, дочери – на мать. И особенно на тех родственников, которые не встанут, не оправдаются… Как же это так, Людмила Николаевна? Понять хочу и понять надо: за что же вы в родную мать камнем, а?
Инжеватова побледнела, взволнованно затеребила бахрому скатерти. Конев ждал. Она, не желая выдавать своего волнения, поднялась, прошла к серванту, поискала в нем что-то и оттуда спросила срывающимся голосом:
– Мне можно закурить, Александр Григорьевич?
– Вы у себя дома, – ответил он. – Да я и сам иной раз балуюсь.
Она вернулась, поставила перед ним пепельницу, закурила.
– Ночей не сплю, – призналась. – Сама не понимаю, как я могла, Александр Григорьевич…
– И все? – спросил он. – И добавить вам больше нечего?
– А что еще? Рассказать, как не сплю?
– Тогда, – произнес Конев тихо, – все ваши бессонные ночи еще впереди.
Подождал. Она молчала. Добавил еще тише:
– Потому что вы лжесвидетельствовали на мать, Людмила Николаевна.
Она резко, как от удара, вздернула голову. Спросила холодно:
– А есть закон, который оградил бы меня от ваших вторжений?
– Ну если речь зашла об этом… – Конев встал и пошел к вешалке за плащом. – Разговор продолжим в райотделе: вопросы, ответы, протокол… Ждите повестку, Людмила Николаевна.
– Господи, что это я… – мгновенно сникла Инжеватова. – Останьтесь, Александр Григорьевич. И простите меня, пожалуйста.
– Так-то лучше, – пробормотал Конев, – а то гоняете, как мальчишку… Продолжим, – сказал он, отодвигая стул. – Шесть из тех десяти лет, о которых вы упоминали, Людмила Николаевна, ваша мать все-таки работала на производстве. Пусть это было маленькое полукустарное предприятие, теперь уже ликвидированное, – Конев назвал город, где Людмила жила прежде, – но ваша мать работала, а не занималась, скажем, спекуляцией… И эти шесть лет можно было бы, при желании, восстановить, присоединить к трудовому стажу, но, видимо, вам или вашей матери показалось это хлопотным… – Александр Григорьевич поймал ее испуганный взгляд и круто свернул в сторону: – Остаются, следовательно, еще четыре года, которые вроде бы соответствуют дочерним намекам на неопределенный и отнюдь не лучший образ жизни матери.
– Возможно, – ухватилась Людмила за мысль следователя, – я и имела в виду именно эти годы.
– Нехорошо, Людмила Николаевна, – укорил Конев. – Нехорошо, мелочно… И несправедливо. Эти годы падают на ваше замужество, на рождение ребенка. Мать прожила их с вами. Надо ли мне говорить, чем занималась она и чем занимаются все бабушки, когда на руках у них и внуки, и домашнее хозяйство.
Опустив голову, Инжеватова проронила глухо:
– Добивайте уж, Александр Григорьевич… Быстрее!
– А от вас-то самой я слова дождусь? Ну ладно… В брак с Петром Инжеватовым вы вступили уже здесь, в поселке Трусово. Младшему лейтенанту Александру Токалову не составляло большого труда выяснить, что ни о подневольном замужестве, ни о материнском принуждении не может быть и речи. Наоборот, мать была против вашего брака, всячески отговаривала вас. И не в семнадцать, а в восемнадцать лет выходили вы замуж – и выходили по любви. Когда лгут, ищут выгоду… Какую вы для себя искали, Людмила Николаевна?
Сухими, выжженными глазами глядела Инжеватова на следователя. Молчала. Александр Григорьевич не торопил ее: пусть подумает.
– Не знаю, – наконец ответила она. – Затмение на меня какое-то нашло, Александр Григорьевич.
– Затмение оставим в стороне, – строго сказал Конев. – После Токалова через довольно большие промежутки времени с вами беседовали другие сотрудники. Можно бы уж и выйти из затмения… Однако не пожелали.
– Значит, я изверг, а не дочь.
– И это не ответ, – сказал Конев. – Случай мне вспомнился, разрешите уж поделиться… Давно было, четверть века назад, мы все еще очень хорошо знали цену каждому куску хлеба, в газетах нам не надо было тогда о ней напоминать… Один из моих подопечных, за час до ареста, пришел домой и съел – а точнее сказать, сожрал, скотина! – все, что жена приготовила для четверых малолетних детей. Все, до кусочка, до ложки хлебова, и, заметьте, на глазах у них, голодных. А они-то ждали к обеду отца… И когда я спросил его, как же это он мог, неужели в нем ничего не шевельнулось, он ответил мне, смеясь: «А я такой!»
Она уронила голову на стол и заплакала, шепча что-то. Конев поднялся, принес из кухни стакан воды.
– Успокойтесь, – сказал, – я верю, вы любили свою мать.
– Боже мой! – прорыдала она. – Что же я наделала, Александр Григорич! Ма-ма… Мамочка… Прости меня… миленькая… родненькая… Если бы знать… Если бы знать!
– Успокойтесь, – мягко повторил Конев. – Выпейте воды… Нам теперь, Людмила Николаевна, надо рассуждать очень трезво и очень осторожно. Ведь честно говоря, за этим вашим «если бы знать» я и пришел. Скажите же нам, что вы не знали в тот час, когда вас допрашивал Токалов, но что знаете теперь. Или догадываетесь… Скажите мне, о чем вы догадываетесь, – и мы быстро найдем убийцу.
– Зачем вы меня мучите, Александр Григорьевич? Я даже не понимаю, о чем вы говорите и что от меня требуете. И как вы можете связывать убийцу со мной!
– Это называется – не понимаю… – горько сказал Конев. – Оказывается, вы все очень хорошо понимаете. Но между нами большая разница. Я хочу выяснить эту связь, а вы даже думать боитесь о ней. Авось обойдется? Авось вы тут ни при чем, да?
– Боюсь, – призналась она, и призналась, Конев видел, искренне: – Даже думать боюсь, Александр Григорич, вы правы… Матери нет, ей ничем не поможешь, ее не вернешь. В чем виновата перед ней – отмолю, отстрадаю. Она простит мою поганую ложь… Она поймет… А мне ведь жить дальше! Ради сына, ради ее внука…
– Значит, обойдется… – задумчиво проговорил Конев. – Что ж, все мы люди, все человеки, и не вечно же, в самом деле, грызть себя. Все перемелется, пройдут и бессонные ночи. Станем мы снова чисты, и очень легкой ценой. Ведь в конце концов, тот, кто должен нас понять и простить, не скажет нам об этом. Мы сами себя от его имени и поймем и простим…








