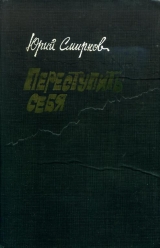
Текст книги "Переступить себя"
Автор книги: Юрий Смирнов
Жанры:
Прочие детективы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Нет! – выкрикнула она. – Нет, Александр Григорьевич! Верьте мне, я начну новую жизнь. В ней не будет лжи и обмана. Никогда! Ни словом, ни помыслом…
– Новую жизнь? – гневно переспросил Конев. – Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают с того, что идут в библиотеку за Уголовным кодексом!
– Вы следили за мной?!
– Еще чего, – поморщился Конев. – Ежели вы помните, я ходил в кухню за водой для вас… Книжечка лежит там, на подоконнике. Завтра мне скажут, в какой библиотеке, кто из вас взял ее и когда: до или после смерти вашей матери.
– Я взяла ее, – торопливо проговорила Инжеватова. – Четыре дня назад. Муж не знает. Пожалуйста, не…
– Какую же вину вы ищете в кодексе? – перебил ее Конев. – Ту самую, про которую догадываетесь? А ведь ваше алиби установлено бесспорно, Людмила Николаевна!
Конев поднялся.
– Позвольте, – сказал, – на прощанье дать вам два совета. Первый: поторопитесь прийти к нам, иначе убийцу мы найдем и без вашей помощи. Новую жизнь, Людмила Николаевна, не начинают со старой виной и в старой лжи. Ее начинают хоть с маленькой, но правды. А второй мой совет…
Александр Григорьевич надел плащ, взялся за дверную ручку.
– А второй совет, – закончил он, – такой: виновному в чем-то человеку вникать в Уголовный кодекс порой так же опасно, как заболевшему – в медицинскую энциклопедию. Если вам, Людмила Николаевна, понадобится правильно понять статью о взяточничестве и о пособниках во взяточничестве, придите ко мне, я квалифицированно объясню вам ее… Последний раз спрашиваю: вам нечего мне больше сказать?
Она молчала, спрятав лицо в ладони.
* * *
В райотделе Александр Григорьевич застал Сергунцова, Токалова и Мухрыгина. Устало упал на стул.
– Слушайте, – сказал, – на мне будто камни возили. И жалко-то ее, и зло берет… Это что же? Как об глухую стену бился!
– О чем, не забудь, один старый товарищ и предупреждал тебя, – скромно заметил Сергунцов.
– Не скажи, Виктор… Сходил все-таки не зря. Марии Андреевой теперь будет полегче, дорожку я ей все-таки проложил. Задачу ее вижу такой: давить на совесть Инжеватовой. Одно дело когда мы уличаем ее во лжи и умолчании, и другое – когда за то же самое осуждают ее люди из ближайшего окружения. Поддастся… Она не пропащий человек, Виктор.
– Дай бог…
– А зачем нам все это? – спросил Мухрыгин. – Вернется Емельянов из Москвы. Уверен, привезет адресочек с мешка… Неужели не расстараемся?
– Ай-яй-яй! – сказал Сергунцов. – На чужого дядю надеемся, Владимир Георгич? А между тем платежка тоже могла бы дать нам адресочек, очень близкий к убийце. Где он? Имею в виду адресочек…
– Сутки еще не истекли, – смутившись, ответил Мухрыгин. – Разыщу я эту уборщицу.
– Да, кстати об уборщице, – сказал Конев. – Не узнаю наш боевой уголовный розыск. В чем дело-то?
– В принципе пустяковое, – сказал Сергунцов, – но времени этот пустячок потребует. Уборщицу зовут Милена Борисовна Свиридова, женщина бальзаковского возраста, и этим весьма озабоченная… Я не вру, Владимир Георгич?
Мухрыгин кивком подтвердил, что да, весьма.
– А главное, – продолжил Сергунцов, – прописана она в другом конце города, у дальних родственников, но у них не жила, целый год им глаза не показывала. Жила здесь, в поселке Трусово, у кого-то на квартире. Придет вечером, когда все уже отработали, в СМУ, уберет контору – и нет ее до следующего вечера.
– Найду, – повторил Мухрыгин. – Чай, не иголка. Да к тому же еще – Милена…
– А давайте подумаем вот над чем, братцы, – сказал Сергунцов. – Как плохо иметь много… Есть у нас мешок, который что-то даст, есть платежка, которая благодаря неукротимому Мухрыгину тоже что-то даст, есть в конце концов «Пионерка», и вновь появилась Аришина дочка, чью совесть, надеюсь, Маша Андреева сумеет ухватить за скользкие бока… Много кое-чего есть, вроде бы мы уже близко ходим, а конкретного-то нет ничего. Вот моя печаль, вот моя заботушка…
– С такой-то заботушкой можешь спать спокойно, Виктор, – с улыбкой заметил Конев.
– Да? А что мне нынче докладывать на планерке?
– Надо ждать, – сказал Конев. – Машина запущена, машина работает, и ждать нам, поверьте, осталось недолго.
Людмиле Инжеватовой уже нечего было ждать. Этот спокойный, неторопливый в словах, доброжелательный следователь лишил ее последних надежд, намекнув, какую статью искала она в кодексе. Значит, они выяснили и это.
Плача, она оделась и торопливо выскочила на улицу. Зачем – она и сама не знала. Был вечер. Широкая бойкая улица плавала в лаве автомобильных и рекламных огней, и Людмила инстинктивно свернула в темный переулок. Кружным путем, отворачивая лицо от редких прохожих, будто могли они узнать ее здесь, во тьме, на кромке жилья и глухого степного пространства, она пробиралась куда-то, слепая, без чувств и мыслей, с пустой, звенящей, как колокол, головой. Наконец впереди, у чьей-то калитки, тьма сгустилась до плотности вещества, там кто-то стоял, она, проходя, опять отвернула лицо – и чуть не прошла мимо.
– Людмила! – позвал ее спокойный женский голос. – Куда спешишь?
Она повернулась, сделала на подкошенных ногах два шага, обхватила руками сильные, под тонкой блузкой, плечи.
– Ты… Ты…
Вот к кому, оказывается, она шла. Нет, следователь еще не лишил ее последних надежд… Как в спасение, вцепилась она взглядом в чужие, влажно мерцавшие глаза и звонко, на срыв, спросила, утверждая:
– Таня… Твой муж… Ты… Вы не убивали мою маму?
– Молчи, дуреха! Это ты убила ее. Ты! И молчи, молчи…
3
Зам. начальника УВД Астраханского облисполкомаполковнику милиции Максимову Е. А.
РАПОРТ
…Дальнейшая работа по проверке показаний Людмилы Инжеватовой позволила установить следующее. Инжеватова, задолго до смерти своей матери, поддерживала связь с жительницей нашего города Татьяной Бурлиной. Эту связь она скрывала от работников следствия и розыска по той причине, что боялась и боится ответственности за прямое участие в даче взятки, за которую Татьяна Бурлина обещала достать справку на десятилетний трудовой стаж, необходимый матери Людмилы для получения пенсии. По инициативе Инжеватовой и в ее доме состоялось три месяца назад знакомство И. Н. Рудаевой с Татьяной Бурлиной, при котором последней и были вручены деньги в сумме 400 рублей.
После беседы со следователем А. Г. Коневым Инжеватова резко изменила свое поведение. Раньше она на все вопросы соседей о причине смерти матери отмалчивалась, не делилась ни с кем своими мыслями, теперь, наоборот, сама ведет разговоры на эту тему, в особенности – с квартиранткой покойной, Марией Андреевой. Боязнь наказания за инициативу и пособничество во взятке у нее остается, но усиливающееся чувство вины за поступок, повлекший за собой такие трагические последствия, все более толкает Инжеватову на откровенность. Мария Андреева, осуждая Людмилу за недавнюю ложь и утайку от следствия важных фактов, убеждает ее ради памяти матери прийти в милицию и рассказать все. На вопрос Марии, а не могла ли Татьяна Бурлина, присвоив деньги, подговорить мужа или кого-либо из знакомых мужчин совершить убийство, Инжеватова, заплакав, ответила: «Не знаю, что и думать. Голова идет кругом. Это я убила ее, Маша. Я!»
В настоящее время трудно судить, решится ли Инжеватова прийти в милицию. Ее положение осложняется не только внутренней душевной борьбой, но и тем, что против такого шага выступают некоторые из соседей и особенно резко – муж, Петр Инжеватов. По свидетельству двух его товарищей по работе, он недавно заявил, что не верит ни в какие чистосердечные признания, что все это враки, выдумки милиции и т. д. Такими огульными утверждениями Петр Инжеватов, несомненно, влияет на жену, не понимая источника ее страданий, усугубляя их и не давая найти им выход. В последние два дня к Людмиле Инжеватовой несколько раз приезжала «скорая помощь».
Адрес и место работы Татьяны Бурлиной устанавливаются.
Инспектор Трусовского РОВДмл. лейтенант милиции А. Токалов.
Глава седьмая
1
В полдень позвонил из Москвы капитан Емельянов и сказал, что вылетает в Астрахань. Дежурный по городу сообщил об этом Сергунцову, когда самолет был уже в воздухе, и добавил, что все машины у него в разгоне. Сергунцов спросил вежливо:
– Товарищ майор, вы не поинтересовались, с чем летит Емельянов?
– Прилетит – узнаем, – замороженным голосом ответил дежурный. – У меня, старший лейтенант, своих забот полон короб.
– Уф! – сказал Сергунцов, положив трубку. – Кругом нервы!
И пошел к дежурному райотдела выбивать машину для Емельянова. Там ему тоже, видать, понадобились нервы, потому что, вернувшись в штаб, он вытер платком взмокшую шею, сказал:
– Подаю в отставку, мужики. Силушек моих больше нету.
– Погоди пока, – откликнулся Мухрыгин. – Послушай сначала про техничку из СМУ, Милену Свиридову. Я ее не нашел!
– То есть как? Хороши у тебя докладики!
– Наш старый товарищ по оружию тебе доложит, – кивнул Мухрыгин на Огарева. – Уж он тебе доложит!
Тон, каким это было сказано, явно не сулил Сергунцову скорой встречи с женщиной бальзаковского возраста. Платежка-путешественница что-то никак не давалась в руки… Огарев, сидевший у окна, молча достал записную книжку, полистал ее.
– Милену Свиридову, – сказал, – не ищите. Дней за десять до убийства Рудаевой я эту самую Милену с квартиры удалил.
– Удалил? – ошарашенно переспросил Сергунцов. – Как это – удалил?
– Полгода жила на моем участке без прописки. Жить положено там, где прописан. Бабенка она смазливая и одинокая. Инженер из этого СМУ, фамилию его называть не буду, стал что-то подолгу задерживаться вечерами в конторе. А у него двое детей. Жена приходила, жаловалась… Удалил!
– И правильно сделал, Николай Леонтьич, – сказал Конев. – Нам же теперь легче: с одного человека подозрения сняты. Но именно этот человек, как установлено, брал из СМУ отработанную бумагу. Однажды Милена Свиридова вместе с другим хламом прихватила с собой и бухгалтерскую платежку. Платежка в свое время дошла до Икряного, вернулась сюда, в СМУ, ее держала в руках бухгалтер Лида Бурцева и затем, смяв и порвав, выбросила за ненадобностью в корзину. А Милена Свиридова решила содержимым корзины растопить хозяйскую печку. И не успела, поскольку Огарев ее удалил… Затем следует почти невероятное. Платежка в ночь на двадцать второе сентября побывала в руках убийцы, часть бумаг он сунул в мешок, часть – в ведро, и платежка, таким образом, снова отправилась к Лиде Бурцевой, но уже в качестве улики. Мир поистине тесен… Хозяин квартиры, у которого жила Милена Свиридова, надеюсь, остался на месте?
– Хозяйка… – поправил Огарев. – Одна. Беспардонная старуха Акулина Короткова. Адрес: улица Суворова, два. Но ежели вы думаете, что она… Прямо говорю: нет! Все ее связи знаю, давно у меня под прицелом живет. С Рудаевой не знакома.
– И газет, судя по твоей характеристике, не читает, – сказал Сергунцов. – А ведь в руках убийцы, не забудем, побывал еще и номер «Пионерки» за двадцатое августа.
– Выписывает, – поправил Огарев и его. – Только «Пионерскую правду» и выписывает.
Сергунцов долго и с изумлением смотрел на Огарева.
– Николай Леонтьич, – сказал он наконец, – мы люди нервные, замотанные работой и начальством. Ты с нами так не шути! Если одинокая старушка выписывает «Пионерскую правду», то скажи зачем? И почему в таком случае ты ее не проверил? Ведь ты же отчитывался у нас на планерке!
Версию, связанную с газетным клочком, тоже усиленно отрабатывали… Исходили из того, что номер «Пионерки», вышедший в свет 20 августа и примерно тогда же купленный в киоске розничной продажи, вряд ли бы сохранился в чьем-то доме до злополучного 22 сентября. Скорее всего газета подписная, и подписчик аккуратист… Понимали, что вывод довольно шаткий, жизнь сложнее наших логических построений, но и другое понимали: жизнь была бы для человека сплошным хаосом, не подчиняйся она определенным логическим законам. Подписчиков проверяли участковые инспекторы райотдела, и проверяли так, чтобы никого не задеть, не обидеть и не оскорбить даже намеком на подозрение. Учитывая важность задания, их регулярно вызывали для отчета и контроля на ежевечерние планерки оперативной группы.
На одной из таких планерок Огарев отчитался за двадцать девять своих подписчиков. Ему оставалось проверить шестерых. Последней в этом списке стояла Акулина Короткова.
– Вот бабушка! – сказал Сергунцов. – Всем бабушкам бабушка! Пора, Александр Григорьевич, идти по выявленному адресу…
– А как с мотивом? – спросил Конев. – Пойти-то просто, да вот с мотивом у нас что-то не вытанцовывается. Это точно, Николай Леонтьевич, что Рудаева и Короткова знакомы не были?
– Стар я уж врать-то, – обиженно проговорил Огарев.
– Да… Тут, действительно, маленькая неувязка, – согласился Сергунцов. – Мотив у нас глядит совсем в иную сторону – на Татьяну Бурлину. Владим Георгич, – обратился он к Мухрыгину, – а где подведомственный тебе юноша, Саша Токалов? Нынче он должен принести адрес и первичные данные о Бурлиной.
– Звонил. Через полчаса будет, – ответил Мухрыгин.
Услышав фамилию Бурлиной, невозмутимый Огарев малость взволновался. Впрочем, выразилось это лишь в том, что он снял и положил на стол свою тесную фуражку, обнажив бритый череп с алой, словно надрез, полоской на лбу. Снова полез во внутренний карман кителя за книжкой. Полистал ее. Сказал:
– Зря гоняете мальчишку.
Все выжидательно глядели на него.
– За Бурлиными, – пояснил он, – зря… Стариков надо почаще спрашивать, худому не научат. Вот Мухрыгин, не поленился, спросил – и получил Милену Свиридову. А Сашка Токалов, торопыга, все сам, все сам:..
– Не томи! – сказал Сергунцов. – Докладывай!
Огарев еще раз глянул в свою книжку.
– Значит, так. Акулина Короткова и Бурлины – соседи. У Татьяны Бурлиной со старухой неразливная дружба. Двор у них общий, разделен маленьким заборчиком, внутри калитка. Так и ходят друг к дружке. Татьяна в прошлом была судима.
После этих слов Сергунцов снял трубку и позвонил в управление, сообщив о судимости Бурлиной. Затем сказал Коневу:
– Теперь-то, Александр Григорич, пора!
Конев глянул на часы, спросил:
– Московский самолет приземлился?
– Да.
– Подождем, Виктор, минутки остались. Не может быть, чтобы мы зря гоняли Емельянова в Москву!
ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
…Принят на исследование мешок стандартной формы, изготовленный из мешковины желто-серого цвета. Поверхность сильно загрязнена и потерта.
В процессе исследования грязь с мешка была удалена и отдельные его участки фотографировались в инфракрасных лучах. На полученных снимках выявлены слова и цифры. В дальнейшем поверхность мешка просматривалась в электронно-оптическом преобразователе с целью расшифровки букв и слов, полученных неотчетливо на снимках.
В результате выявлен текст следующего содержания:
Астрах[а]нь
пос. Трусо[во] Су[во]рова 2
Коротковой Акулине Степановне
* * *
Емельянов рассказывал, как прилетел в Москву, явился в Центральную криминалистическую лабораторию, как там осмотрели мешок и попросили выстирать его в ванне… Конев, поневоле прислушиваясь, готовил два постановления на обыск. Закончив, попросил Сергунцова разделить людей на две группы.
– Одна, – пояснил, – идет со мной к Акулине Коротковой. Другая во главе с Емельяновым – к Бурлиным. Геннадий Алексеич, ты не против? Может, отдохнуть поедешь домой? Заслужил!
– Что вы, что вы! – протестующе поднял руку Емельянов. – Это вы тут вкалывали, а на моем счету только и есть, что одна постирушка…
Из райотдела вышли с ощущением, что теперь-то конец близок.
2
Приходу следователя и сотрудников милиции Акулина Короткова ничуть не удивилась: видать, приходили к ней не в первый раз.
– Ох, не ко времени, гостенечки дорогие, – съязвила она. – Обождать бы вам до завтрева.
На столе у нее стояла чуть начатая бутылка плодово-ягодного, на загнетке шипела сковородка с картошкой и мясом. Акулина Короткова кого-то ждала. А так как клюквенный нос ее был тщательно припудрен и от нее несло дешевыми духами, то можно было заключить, что в свои шестьдесят лет Акулина умела извлекать из жизни радости.
Минут через десять, когда обыск уже шел вовсю, явился маленький, лысый, розовощекий старичок, испуганно затоптался у порога, увидев людей, на общество которых явно не рассчитывал. Акулина и тут съязвила:
– За что боролся, на то и напоролся… Так-то вот опаздывать, чугунок старый.
Румяный кавалер, втянув аппетитный запах жаркого, с сожалением глянул на бутылку.
– Пойду я, – сказал он. – А то моя старуха заругается.
– Посидите, гражданин, – попросил его Токалов. – Отпустим, тогда и пойдете к своей старухе.
У Акулины Коротковой нашли кипу старых платежек, заполненных и незаполненных, бланки строительных нарядов и шоферских путевок, отдельные номера «Пионерской правды». «Жиличка моя, Милка Свиридова, приносила из конторы на разжижку печи, соседке моей тоже давала», – пояснила она. Когда Александр Григорьевич сказал, что придется ей пойти вместе с ним в райотдел милиции, Короткова ответила:
– Я готова.
Конев допрашивал ее в кабинете Мухрыгина. На все вопросы Акулина отвечала охотно и безмятежно. До войны жила она в Ленинграде, в сорок первом эвакуировалась, судьба забросила ее в Астрахань. От первого мужа, погибшего, детей у нее не было, а со вторым – уж поздно заводить, да и помер он вскорости. С тех пор живет одна как перст.
– Родственники в Ленинграде у вас есть, Акулина Степановна?
– А как же, родименький, – Акулина за спокойным разговором со следователем окончательно освоилась, потеряла ершистость и забыла, где сидит и с кем говорит. А может быть, сделала вид, что забыла. – Сестра старшая есть, да три ее дочки, мои племяшки. Живут – куда тебе! Ну и подкинут иной раз на бедность… То денежек пришлют, то одежонку какую. Продам – тем и питаюсь.
Конев в сомнении покачал головой. Короткова уловила это, быстренько поправилась:
– Конечно, батюшка, на дареном не проживешь. Что уж там! Изворачиваешься и так и сяк… То скупишь, это продашь… Жить-то надо! Ты бы, батюшка, отпустил старика-то, – Короткова кивнула на дверь, за которой томился ее кавалер. – Отпустил бы, а? Старуха у него громовая… Не дай бог, дойдет до нее слух – прогонит! А он что? Он ко мне начнет прилобаниваться, а зачем он мне нужен в одних порточках? Тут бы самой как прокуковать…
– Старика отпустим, – сказал Конев. – Но вы что-то за себя не шибко беспокоитесь, Акулина Степановна.
– Меня отседова быстро не отпущают… Ваш Огарев давно на меня глаз положил!
– Это в каком же смысле? – улыбнулся Конев.
– А в государственном… Примстилось ему, будто я государство обманываю. Уж такой мужик допытливый! Анадысь сюда же вызвал, два часа битых мытарил. Все про какую-то штуку шерстянки с лавсаном толковал. Вроде бы я, значит, с Танькой Бурлиной украла ее с прилавка. На беззащитную женщину кто хочешь могет сослыгнуться, а он и рад, непутевый.
– Акулина Степановна, мы что-то никак друг друга не поймем. Я уж говорил вам о цели обыска, но вы почему-то не обратили на мои слова внимания. Мы подозреваем вас, Акулина Степановна, в причастности к убийству Рудаевой.
– Царица небесная! – воскликнула Короткова, но страха в ее голосе не было. – Ты меня не пужай, батюшка. Ни в жисть не поверю.
– «Пионерскую правду» выписываете, Акулина Степановна?
– А как же… Для соседского парнишки, Кольки Бурлина.
– Что же, Бурлины сами не могут выписать газету своему единственному сыну?
– Они могут, – помолчав, ответила Акулина. – Да я-то упросила…
– Зачем?
Еще помолчала Акулина. А потом глянула в глаза Коневу старая, одинокая женщина… Сказала тихо:
– Принесут газетку, покличешь: «Колька, Колька!» – он и прибежит… И почитаем вместе, поговорим, посмеемся, вот и у меня в доме не пусто и сердцу не так уныло.
Нечаянно обнажив перед следователем трепетный, в неутихающей тоске, уголочек души, Короткова спохватилась:
– А на кой ляд сдалась тебе эта газета, батюшка?
Не отвечая, Конев достал мешок из бумажного свертка, расстелил его на столе.
– Ваш?
Акулина взяла, помяла, подошла к окну и оглядела его со всех сторон.
– Мой, – сказала удивленно. – Посылку от сестры в нем получала… Я-то думала – куда запропал? – а он у вас. Ничем, гляжу, не требуете, за все хватайтесь, чтоб беспомощную женщину под статью подвести.
Конев объяснил ей, каким образом очутился в милиции ее мешок и что в нем нашли…
Короткова, выслушав, осоловело плюхнулась на стул. Беспутная ее жизнь складывалась так, что юридическую грамоту Акулина постигала во время кратковременных приводов в милицию. Но и этой грамоты вполне хватило, чтобы понять, о чем сейчас говорил ей следователь.
– Батюшка! – взмолилась она, с трудом выталкивая слова. – Гражданин начальник! Ловчила, жила неправедно, каюсь, есть за мной. Но чтобы убить? Вызволяй меня, родимый. Засудишь – грех на тебе ляжет…
3
В соседнем кабинете капитан Емельянов допрашивал Михаила Бурлина.
Обыск в доме у Бурлиных был более удачным, чем у Коротковой. А в то, что он будет удачным, Емельянов поверил сразу же, как только все они вошли в горницу. Хозяин, высокий, нескладный, с измученным, как показалось Емельянову, какой-то болезнью лицом, поднялся и, жалко улыбаясь, произнес:
– А мы вас ждали.
– Почему? – спросил Сергунцов. – Почему вы нас ждали, Михаил Алексеевич?
– Ждали – и все, – сказал Бурлин так, будто свалил с себя огромную тяжесть. И эту освобожденность, эту странную жутковатую радость почувствовали все, в том числе и понятые, парень и девчонка, тремя минутами раньше шедшие в кино и откликнувшиеся на неожиданную для них просьбу. Понятыми им ни разу не приходилось быть, это обещало новые неизведанные впечатления: они согласились охотно, ожидая по молодости лет игры, а не дела. Но теперь, увидев хозяина дома, услышав его слова, почуяв за ними то, что он, потерянный, не сумел скрыть, молодые люди тревожно и болезненно напряглись. Девушка сделала инстинктивное движение назад; не оборачиваясь и не отводя глаз от Бурлина, она нащупывала дверную ручку, чтобы уйти из этого дома, где игрой в детектив и не пахло. Парень, сомкнув брови, предупреждающе сжал ей локоть. Текла долгая минута всеобщего напряжения от смутной, но единой для всех догадки, и наконец ее сумела рассечь, как ножом, хозяйка дома.
– Ко всем приходили, – сказала она спокойно. – Отчего бы и к нам не прийти? Тоже в заречье живем.
– Не ко всем с обыском, Татьяна Васильевна, – Емельянов протянул ей ордер.
Она прочла, пожала плечами.
– Ищите.
Вечером, хотя и ранним, но уже без солнца, не больно-то много найдешь… Но вот в спальне под тумбочкой Сергунцов обнаружил крышку люка, ведущего в подпол. Сдвинул тумбочку, откинул крышку… Вылез оттуда весь в пыли, сунул фонарик понятому: твоя, мол, очередь поглядеть на то, за что будешь расписываться в протоколе. А парень сначала поглядел на свой костюм, потом на девушку…
– Не робей, – сказал Сергунцов. – Все, что можно вынести на себе, я вынес. Тебе крохи остались.
Парень махнул рукой, полез.
– Товарищ капитан! – обратился Сергунцов к Емельянову по всей форме. На время роли переменились: теперь не Емельянов ему, а он подчинялся Емельянову как следователю, руководящему обыском. – Товарищ капитан, в подполе на досках, особенно в щелях между ними, мною обнаружены подозрительные натеки. Вот… – он протянул Емельянову крошечную лепешку темно-коричневого вещества. – Кровь. Свежая, еще и вязкости не потеряла.
И неприкрытую радость Сергунцова, и бодрый его тон, и ловчий азарт капитан Емельянов понимал и внутренне разделял, потому что все это было вызвано – теперь уже несомненно! – скорым окончанием дела. Но рядом стоял Михаил Бурлин. Глядя в его опрокинутое потухшее лицо, видя его неизмеримое и до удивления открытое всем страдание, капитан Емельянов чувствовал себя беспокойно, стыдно ему было почему-то за этот бодрый тон Сергунцова. Но кто же тогда, кто? Не Бурлина же Татьяна – так естественно держаться невозможно. А Сергунцов, деловитый и жестокий в своей деловитости, снял верхний рядок кирпичей с пода русской печи и, подозвав Бурлина, показал ему на темные пятна.
– Сплоховали вы, Михаил Алексеевич, – сказал он, выламывая два кирпича на экспертизу. – Следовало бы перебрать весь под.
Во время обыска Бурлин старался не отходить от Емельянова. И сейчас качнулся к нему, словно хотел сказать: защити! И опять это движение было замечено всеми.
– Что уж ты, Миша! – сказала недовольно жена. – Чего ты так пугаешься? Забыл, что ли? Мы же осетра разделывали.
– Какого осетра? – спросил он, С надеждой спросил. И тут же, успокаиваясь, повторил эхом: – Да, осетра… Запамятовал я.
– Не слышал, чтобы осетров-то разделывали в спальне, – жестко сказал Сергунцов. – Сомневаюсь, чтобы и загнетка была подходящим для этого местом.
Бурлин крепко потер ладонью лоб, будто приходя в себя. Спросил у жены:
– Где сын?
– К соседке отвела, Миша…
Тогда он спокойно сказал Емельянову:
– Заберите меня, гражданин следователь. Не тяните.
И так же спокойно и ровно он отвечал в кабинете на установочные вопросы: фамилия, имя, год рождения, место работы… Покончив с этим, Емельянов сказал:
– Мне показалось, Михаил Алексеевич, что результаты обыска были для вас неожиданны. Ваша реакция, честно говоря, сбивает меня с толку. Но тогда кто? Кто убил в вашем даме Рудаеву? Вы? Ваша жена? Или третий кто?
А Бурлин опять ухватился за ту надежду, которую разрушил своими жесткими словами Сергунцов, спросил:
– А может быть, она и не была убита в нашем доме? Может быть, все это, – он кивнул на два кирпича и кусок доски, вырезанный из пола, – совпадение? Помню, Татьяна покупала у кого-то осетра…
– Вряд ли совпадение, Михаил Алексеевич… Вы, конечно, имеете право ничего не отвечать до результатов экспертизы. Да и после экспертизы – тоже имеете полное право. Но мы ведь пошли на обыск в ваш дом не потому, что нам так захотелось… Вы понимаете, о чем я говорю?
– Да, – ответил он. – Хорошо, что вы нашли нас. Я боялся: не найдете.
Помолчали.
– Странный вы человек, Михаил Алексеевич… Вы хорошо продумали свои слова?
– Да, – повторил он. И добавил четко: – Я убил Рудаеву.
Еще помолчали.
– Не верю я вам, – тихо произнес Емельянов. – Однако слово сказано… В таком случае давайте, Михаил Алексеевич, подробности: когда, за что, как чем?
– Я не смогу ответить на ваши вопросы, – сказал Бурмин. – Я был тогда как во сне… Но я убил ее. Убил!
4
Пока у Бурлиных и Коротковой шел обыск, старший лейтенант Огарев по заданию Сергунцова ходил к их соседям.
К Марковым он пришел, когда вся семья пила калмыцкий чай во дворе под навесом, называемым здесь повсеместно салтенькою. Охотно принял приглашение к столу: с утра маковой росинки во рту не было, загонял Сергунцов. Он выпил третью кружку (калмыцкий чай полагалось пить из кружек) и, покрывшись легкой испариной, сказал с сожалением:
– Не устоял, соблазнился… Пью ваш чай, хозяева, ем ваш хлеб, а душа болит.
– Что так, Леонтьич? – обеспокоилась хозяйка. – От души и предложено.
– Потому и соблазнился, что от души, а я при службе. Не положено. Это первое… А второе – обманули вы меня, хозяева, крепко обманули!
– Сурьезно выражаешься, Николай Леонтьич, – сказал Марков, шофер по профессии, а по натуре – основательный, крепкий мужик, не ветрогон.-Этим он был похож на Огарева, и они, кстати сказать, знакомы были давно, и даже больше чем знакомы: не одну рыбачью зорьку встретили вместе. – Сурьезно выражаешься, – повторил Марков. – Поясни, будь добр, свою мыслю.
– Я у тебя двадцать четвертого сентября был?
– Был. Не помню, какого числа, но недели полторы назад был.
– Двадцать четвертого был, – сказал Огарев, сверившись со своей книжкой. – И об чем я тебя спрашивал? И тебя, Михаловна, – обратился он к хозяйке.
– Да уж забыла я, Леонтьич. Времечка-то сколько прошло?
– Не крути, мать… – сказал Марков. – Спрашивал ты, не горела ли у кого в пятницу вечером сажа в печи, не видел ли я у соседей искр, пламени? Вот об чем ты спрашивал.
– Хорошая у тебя память, Константин, – сказал с удовлетворением Огарев. – И что ты мне тогда ответил?
– Ответил: не видел.
– А теперь что ответишь?
– И теперь бы надо так ответить, – замялся Марков, – да лицо что-то у тебя дюже сурьезное. И потому отвечу: видел. Искрила, и сильно, труба у Бурлиных. Дня за два до твоего прихода ко мне. Теперь уж дело прошлое – можно сказать.
– Поглядите-ка на него, а? – возмутился Огарев. – Он сам решает, когда можно, когда нельзя. Я к тебе и тогда не с улыбочкой и не с песнями приходил… Тебя закон обязывал говорить правду, а ты?
Маркова было трудно вывести из себя, но при упоминании о законе его мотор начал набирать обороты.
– Не кричи на меня, – сказал он. – Тоже – друг называется…
– Я тебе сейчас не друг, – сказал Огарев, – а представитель власти. И ты отвечай представителю власти: почему правду сразу не сказал?
– А потому, что вы тогда все словно взбесились… Пожарники да и ваш брат, милиционер, каждую печь обнюхивали. Не ты ли в мою сам заглядывал? Обида взяла… Многих заставили перекладывать, а зима на носу. Скажи я про Бурлиных – могли бы и их без тепла оставить, ныне печника не больно быстро сыщешь, дефицит! Да и делов-то? Ну, печь искрила… Постучал я к ним в окно, вышла Татьяна. Спасибочко, говорит, Петрович, я и не вижу. Вас, говорит, мужиков, дьяволов, таких-рассяких, разве вовремя заставишь дымоход прочистить? Мой опять увеялся на рыбалку до понедельника, а я тут хоть разорвись.
– Это уж точно, – поддакнула Михайловна. – Я, грешная, Татьяну недолюбливаю, но срезала она вашего брата не в бровь, а в глаз. Вы со своей рыбалкой скоро ума лишитесь.
– Слыхал? – Марков озорно глянул на Огарева. – Я сам Таньку не люблю, это не баба, а сей-вей-рассевай, не такую бы надо Михаилу, парень он уж больно хороший. Так чего ж я буду его подводить? Да и делов-то, говорю, всех? Приехал, дымоход прочистил – печь на ходу.
– А в котором часу вечера труба искрила?
Марков задумался, вспоминая. Ответил не совсем уверенно:
– Кажется, в девятом.
– А Михаил когда уехал на рыбалку?
– В седьмом. Я с работы иду, а он мне навстречу, на плече подвесной мотор держит. Поздоровались, потолковали немного. Помню, он сказал, что едет на остров Буйный и вернется вечером в воскресенье.
Добираться до острова, соображал Огарев, примерно полтора часа на подвесном моторе: он не раз с тем же Марковым ездил туда. Но сначала надо от дома добраться до лодочной станции. Конец рабочего дня, транспорт загружен, а Михаил не из тех, кто будет пробиваться к трамваю нахрапом, да еще с мотором на плече. Час убил, не менее… Итого на круг получается два с половиной часа. Значит, в самое критическое время Татьяна оставалась дома одна. Не может быть… Видимо, он все-таки по каким-то причинам не уехал на рыбалку.








