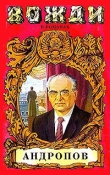Текст книги "Воспоминания о Юрии Олеше"
Автор книги: Юрий Олеша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Если приходили утром,
Олеша приглашал нас в ресторан, заказывал завтрак, и, конечно, королевский. Но чаще всего мы все бывали не при деньгах и завтракали кефиром и горячими бубликами с семитатью. Зато мы сидели под открытым небом в кафе на бульваре.
Олеше нравились странные фамилии. Здесь же, в кафе, он познакомил нас с Царьплотником, боцманом "Курска". В другой раз он церемонно представил нам Цесарку, заготовщика обуви по профессии, и при этом с таинственным видом шепнул, что он, Цесарка, уголовник, скупщик краденого. Мы поглядели на маленького, легкого, как пух, человечка с васильковыми глазками, рассмеялись...
Когда Цесарка ушел, Олеша сердито пошевелил своими густыми бровями и спросил:
– А по-вашему, он житель утреннего облака?
– Но ведь он милейший человек!
– Все равно скупщик краденого и даже мародер! – как-то по-детски упрямо повторил Олеша и так же по-детски обиделся.
И странное дело – он не ошибся. В дальнейшем, во время оккупации Одессы, Цесарка, открывший комиссионные магазины, скупал вещи у фашистских грабителей.
...В те дни стояла тропическая жара.
Олеша работал – писал киносценарий об изобретателе радио Александре Степановиче Попове. Если работа не ладилась, он бродил по городу. Шагал без цели, днем всегда к морю, а вечерами на степные далекие огоньки.
Порой я оставался у него ночевать на диване и всякий раз просыпался от громкого крика:
Юрий Олеша,
Вам депеша!
Это кричали бегущие к морю одесские пацаны, пропахшие вишнями, помидорами и соленой хамсой.
Олеша бросался к окну, стараясь изо всех сил придать своему лицу свирепое выражение.
– Сейчас я покажу вам депешу!
Но глаза Олеши сияли. Как только стихали за окном голоса ребят, автор "Трех толстяков" добродушно смеялся, довольный этой игрой, Олеша ходил по нашему городу, как ходит садовник по своему саду. Он и вправду любил деревья. Он всегда отдыхал на бульваре, в тени высокого клена. Клен был удивительно рослый, лист к листу, ни одного блеклого, весь словно вылитый из светло-зеленой бронзы и в то же время живой. Но ветра все не было. Клен Олеши, грустный и неподвижный, покрывался пылью. Все ждало ветра. И деревья. И небо. И море. И ветер пришел. Другой, злой ветер. Ветер войны...
В то утро одесские пацаны не приветствовали Юрия Карловича криками о депеше. Начались боевые тревожные будни прифронтового города. Порой в дыме пожаров гасло солнце. День за днем корабли увозили в тыл женщин, стариков, детей. Олеша сутулился, молчал. Принимался за сценарий. Бросал. И хмуро глядел на море. И как далекое, безвозвратно ушедшее он с печальной улыбкой вспоминал о том, как его будили маленькие одесситы.
И вдруг под окном гостиницы вновь прозвучал звонкий, веселый голос:
Юрий Олеша,
Вам депеша!
Внизу стояла пионерка лет двенадцати на вид, в матросской рубашке. К красному галстуку девочки был приколот значок – серебряная чайка.
Лицо Олеши посветлело. Он высунул голову из окна и спросил:
– Кто ты, маленькая принцесса?
Девочка улыбнулась. Сверкнули редкие, жемчужного блеска зубы.
– Мотька, – ответила она.
Тут завыли сирены и где-то совсем рядом загрохотали зенитки. Не обращая на них внимания, девочка поднесла ладони ко рту:
– Дядя Олеша, я попрощаться с вами пришла... Мы на "Крыме" в тыл... Я в ваших "Трех толстяках" играла мальчишку, что поет про Раздватриса...
Огонь зениток усилился и заглушил голос девочки. Она махнула рукой и во весь дух помчалась в сторону портовой лестницы.
– Принцесса Мотька... Маленькая храбрая одесситка... – весь день благодарно бормотал Олеша.
С ним я встретился уже после войны, в Москве, в писательском доме напротив Третьяковки. Был вечер, пожалуй даже ночь. За оградой небольшого дворового садика Олеша, пригнувшись к земле, звал кота. Кот к нему не шел. Тогда, изловчившись, Олеша схватил усатого на руки и принялся упрекать в неблагодарности.
– Юрий Карлович!
Он сразу узнал мой голос:
– Батров? Ну как там наша Одесса? Как там мой клен? Рад, рад встрече!
Мы отнесли кота домой. Комната Олеши была почти пуста. Он никогда не заботился о себе. На полу в самом центре комнаты стояла кастрюля с супом. Олеша снял крышку, подтолкнул кота к кастрюле и спросил:
– Помните ли вы принцессу Мотьку? Знаете, я все думаю о ней... Принцесса Мотька в пионерском галстуке с серебряной чайкой. Я должен с ней встретиться. Вот приеду в Одессу, даже этой весной...
Но Олеша не приехал в Одессу. Он болел и с каждым годом все тяжелее.
...Клен Олеши стоит там же, где и стоял – на Приморском бульваре...
1964
Александр Аборский
Сентябрь, начало жаркой осени, лучшая пора в Ашхабаде. Сады над глинобитными заборами сплошь стоят зеленые. Стена гор невдалеке колышется, переливаясь разными красками, а при ярком солнце горы обретают натуральный цвет, похожи на лежащую рядом пустыню. Горы и пустыня, пестрота одежд, дома с плоскими крышами – таким увидел Олеша Ашхабад, где ему довелось прожить всю войну.
Он оказался здесь случайно; никто его не ждал, даже в писательской организации ничего не знали. Переправился через Каспий на шаткой посудине с эвакуированным народом.
Появления такой яркой фигуры не заметили. Он уже несколько дней обитает в туземного типа гостинице – караван-сарае, разгуливает по базарам, паркам, музеям.
Мне запомнился его первый визит в Союз писателей. Юрий Карлович привел с собой двух молодых литераторов с Украины; кажется, он сам их встретил лишь утром. Он зашел, чтобы представить молодых и поручить их заботам местного начальства. Для пущей важности сообщил, что он член ревизионной комиссии СП СССР, и даже извлек из кармана документ.
– Ясно, – сказал секретарь правления, не глядя на документ. – Пусть ребята украинцы считают себя членами нашей семьи... А вы-то, Юрий Карлович, вы давно в наших краях? Как и где устроились? Не нуждаетесь ли в чем?
– Нет, нет, спасибо! Я ведь здесь уже целую неделю... И все превосходно! Словом, не беспокойтесь.
Плотный, густоволосый, жизнерадостный, почему-то он показался мне тогда беспечным, этаким разудалым добрым молодцем. Можно было подумать, что этот коренастый шатен в полотняных брюках и вишневого цвета рубашке с короткими рукавами очень состоятелен и вообще ему море по колено. Как-никак Юрий Олеша.
На следующий день мы с туркменским прозаиком Нурмурадом Сарыхановым решили заглянуть в караван-сарай. Мы еще накануне напросились в гости. Конечно, немного робели перед встречей (хотели выбрать Олеше дыню, купить лучшего вина – не осмелились). Он смеялся, когда мы признались ему в этом. Ни дорогих кожаных чемоданов, никакого намека на респектабельность... Он избегал говорить о себе, расспрашивал Сарыханова о Туркмении, был очень приветлив.
Позднее мы узнали о бомбежке Одессы, о его дорожных мытарствах. Узнали от других.
Город оставался далеко от фронта, стрельбы тут не было слышно, но, как и отовсюду, из Ашхабада часто в ту осень крупными партиями уходили новобранцы. Молодые дехкане, конные и пешие, где-то за городом обученные, направлялись к вокзалу, в сопровождении матерей с заплаканными лицами и гордых стариков, одетых в шелковые халаты. Разномастные ахалтекинские скакуны, бараньи папахи, ковровые торбы – шумное воинство шло на защиту Украины, Белоруссии и прибалтийских земель.
В выходной день, бродя по улицам, мы смешиваемся с толпой провожающих. Наш гость особенно внимателен и чуток ко всему,
– Значит, они сшибутся с баварской конницей? Здорово, правда? – стоя в толпе, говорит он, любуясь всадниками, гарцующими по асфальту. Чуть помедлив, добавляет: – Пожалуй, им не следовало менять свои грозные пляшущие шапки на эти плоские головные уборы. Как вы считаете?.. А впрочем, наша болтовня командиру эскадрона показалась бы просто смешной.
До полей сражения далеко, но и здесь все насквозь пронизано войной. Туркменская крестьянка-мать плачет, провожая своего смуглолицего сына в неведомую ей заснеженную даль. Степенные отцы, сами некогда, может быть, ходившие в составе Дикой дивизии, заклинают молодых воинов никогда и нигде не ронять чести мужчины, чести туркмена.
– Шерсть у коня на морозе втрое отрастает, – внушает бывалый джигит юноше воину. – Стать ахалтекинца изменится, но скорости и сообразительности наш конь не утратит. Стужи не бойся, понял, сынок? Главное же – у вас командир туркмен: раньше туркмену не доверяли.
Олеше дословно переводят разговор всадников с родителями. Он слушает, переспрашивает, задумывается на минуту, потом тихо замечает:
– Это новая легенда! – И оживляется, вскидывает голову. – Теперь вы поняли, в чем наше преимущество?..
Сегодня новобранцы, завтра молодые туркменские литераторы, газетчики, и всякий день ходьба по жарким улицам, базарам и садам. Он уже свой человек в Союзе писателей, думает о работе, делает заметки, в беседах с новыми друзьями делится планами. Планы еще не сама реальность, в сущности, день за днем все еще он знакомится с краем, вглядывается в его обитателей, в обстановку.
К Олеше между тем приехала жена, верный друг, спутница всей его жизни Ольга Густавовна. Теперь они вместе, вот только комната в караван-сарае очень неуютная, тесная, плохо приспособленная для работы. Отсутствие нормального жилья тяготило писателя, выбивало из колеи, и хотя он прямо не жаловался, никого ни о чем не просил, настроение у него было неважное.
Вскоре Б. M. Кербабаев специально послал меня к нему,
– Пригласи Юрия Карловича, кое-какие новости есть для него.
В тот вечер мы перетащили имущество наших друзей в лучшую гостиницу города – на улице Гоголя.
Не помню уже, кто из туркменских друзей принес на новоселье челек деревянный бочонок – домашнего вина. Нашлись поздние персики, гранаты. Хозяин нового дома совсем повеселел.
В кругах ашхабадской интеллигенции скоро он стал своим. Не командированный, не заезжая знаменитость, а во всех отношениях свой человек. Хлебные карточки – по общему списку; выступления у призывников, у молодых офицеров, в госпиталях – в одной культ-бригаде; общественные поручения местного союза – он выполняет их, как положено. Но писатель привык писать, и это остается главным, хотя печататься почти негде.
По утрам он обычно отправляется из шумного гостиничного улья в союз, где давно облюбовал себе стол в тихой комнате. Стол называется "Олешиным", можно оставлять рукописи на ночь – никто не потревожит. Сосредоточенный, задумчивый, остро отточенным карандашом он набрасывает строку за строкой на большом листе бумаги, зачеркивает и вновь стремительно пишет. Киностудия заказала короткометражный сценарий на военную тему. Дали соавтора, но работа не движется, и его часто видят понурым или улыбающимся чужой, неестественной улыбкой.
...Зима 1941 года. Сводки по радио очень тревожные. Есть и проблески радости, но война затягивается, напряжение и здесь, в тылу, все нагнетается. Базары выглядят уныло: куда девались горы овощей, бараньи туши, – как метлой все смело. Город без света. Хлебные карточки кормят скудно.
Сценарий дописан, но Олеша им недоволен. Фильм ставить не будут. Позднее, под названием "Маленький лейтенант", сценарий был опубликован в коллективном сборнике – первая ашхабадская публикация Олеши.
Единственно, что согревает душу и позволяет Юрию Карловичу сохранять равновесие, – это исключительная приязнь со стороны новых товарищей туркмен, братское их отношение к Олеше. Он не ищет выгодных связей, не стремится к благополучию или хотя бы к малейшим жизненным удобствам. Существует подобно дервишу. На службе нигде не состоит, об издательских, театральных договорах нет и речи. Заработки случайные, да еще и характер такой – подарить, одолжить ему никто ничего не смеет. Он даже простое угощение не всегда примет, может обидеться. Но его любят все – от сторожей и уборщиц гостиницы до республиканского руководства. Прокурор, министр, секретарь ЦК первыми идут к нему, дружески приветствуют, непременно осведомляются, не надо ли чем помочь. Нет, ради бога, нет, ни в чем он не нуждается.
Даже близким товарищам нелегко поддержать его. Законное, заработанное им порою не знаешь, как передать.
На такие вещи легко смотреть как на чудачество, и оно сошло бы за чудачество, если бы не общая нужда и беда, если бы за номер в гостинице не требовали платы, да на рынке продукты не шли бы по таким бешеным ценам.
Некоторое время я работал в литературной редакции туркменского радио, и тут у нас с Олешей установились наилучшие деловые отношения.
Вот я иду к нему с просьбой выступить у микрофона. Когда бы он смог дать нам передачу?
– Планируйте смело, – лихо заявляет он. Называет тему, излагает содержание, гремит метафорами. – Моя ораторская проза, в сущности, уже готова, осталось чуточку додумать и перенести все на бумагу.
Но тут-то и начинаются муки. Ждешь его прозы, ждешь не дождешься. Назначенные дни пропущены дважды и трижды. Начальство грозит "санкциями". Утешает одно: автор упорно трудится. И передача действительно почти готова. Не хватает лишь заключительной фразы, да еще там мелочь – выверить интонацию в самом зачине. Ждем фразы, интонации, наконец совсем уж руки опускаются – проваливаем передачу!..
И вот когда срыв представляется неминуемым, остаются считанные минуты до истечений критического срока, в комнате литературной редакции приоткрывается дверь. Никто не входит. Слышен шорох, в щель просовываются огромные, слегка колышущиеся листы. Конечно, он. Никто другой на таких простынях не пишет.
– Входите, входите, Юрий Карлович, это же вы там, за дверью!
– Каюсь, ребята! Виноват! Уже не надо? Выбросить в корзину? доносится из-за двери его баритон.
Полчаса спустя мы в студии. Идет запись. Передача отменная. Ее завтра будут обсуждать радиослушатели, ее отметят в приказе как образцовую. Но каково было заполучить эту очаровательную прозу Олеши!
Помнится, уже в сорок третьем году он писал рассказ, читал на досуге страницы, готовые сцены, а в Ашхабаде тогда завершался конкурс на лучший современный рассказ. Заседало жюри, и всем хотелось видеть среди участников конкурса Олешу. Его предупредили, времени было достаточно, но опять эта заколдованная последняя фраза, последняя интонация, бесконечные самоистязания. Так или иначе, рукописи он не давал. Большинство членов жюри почти наизусть знало вещь, радовалось ей. Но ведь существуют неизбежные формальности: регистрация рукописи по всем правилам, обсуждение "наличествующей".
И снова не дни, не часы, а буквально минуты решили судьбу рассказа "Туркмен". Друзья чуть ли не силой взяли рукопись, доставили ее в жюри, вслух прочитали и единодушно одобрили. Так была присуждена первая премия.
Но история с "Туркменом" и написанным тогда же маленьким рассказом "Зеркальце", отмеченным как лучший рассказ года в "Огоньке", относится к более позднему периоду; пока же писатель "врастает" в среду, ищет тему и все еще испытывает внутреннюю неустроенность.
Мысль постоянно обращается к фронту, а оттуда часты вести малоутешительные.
– Вы поглядите, как изгажена карта! – ворчит Олеша, рассматривая огромную, в полстены, испещренную разноцветными флажками карту. – Ельня, Вязьма, Старая Русса – вот где становище ландскнехтов! Ландскнехты в Ельне, Починке, – какая бессмыслица! А мы разгуливаем по Текинскому базару, по ночам читаем Киплинга, Хлебникова, Достоевского, делаем подмалевки к "Забавному случаю" Гольдони. К черту Гольдони, Хлебникова и Киплинга!..
В таком настроении Олеша однажды наведался к Кербабаеву и прямо заговорил с ним о своем желании пойти во фронтовую газету. Как-никак военнообязанный, майор интендантской службы, а его товарищи москвичи, тоже из запаса, сейчас в действующей армии.
– Ваше слово нужно здесь, Юрий Карлович, – отвечал Кербабаев. Очерки, статьи, переводы нужны позарез. Давайте-ка яркий, во всю вашу силу, очерк, товарищ майор!
– А знаете, Берды Мурадович, я ведь пишу сейчас именно очерк, признался Олеша.
– О чем, если не секрет?
– История комсомольского эшелона. В ЦК комсомола мне дали полупудовую папку документов. Верите – полпуда телеграмм, писем от девушек, молодых джигитов...
– Вот вы уже и полковник, аллах свидетель! – перебил Кербабаев. – Вы комиссар, политотделец! Когда я прочитаю очерк в газете? Хотите, переведу на туркменский?
Полмесяца спустя мы слушали историю комсомольского эшелона по радио, а затем читали в книжке. Очерк перепечатывался и недавно, в конце шестидесятых годов. Превосходная писательская работа. А в тот раз, после беседы с аксакалом туркменской литературы, Олеша жаловался на него:
– С ним невозможно! Кроткий – тише воды ниже травы, – а сам жмет и все, что хочет, наверняка выжмет из тебя. Обещал мне привезти откуда-то из Каракумов верблюжатины: целебное мясо, говорит. А я отродясь не ел верблюжатины, не знаю, едят ли ее. Обещал ханского рису привезти мне из Хорезма, такие продолговатые отборные зерна нежно-розового цвета...
От посетителей отбоя нет: молодые дарования, офицеры, побывавшие в сражениях, инвалиды войны со свежеиспеченными мемуарами – все желают лицезреть живого автора "Зависти" и "Трех толстяков", жаждут его слова. А гостиница место доступное, открытое – не спрячешься! К тому же в Ашхабаде теперь целая группа виднейших деятелей культуры из Москвы, Киева, Ленинграда, Одессы – художники, актеры, ученые.
Гостит в Ашхабаде со студией Александр Довженко, он постоянно навещает своего старого приятеля Олешу, они беседуют подолгу, доверительно и душевно. Марк Донской, Наталья Ужвий с ним в самых сердечных отношениях. Весь день в окрестностях столицы они ведут съемки "Радуги" по повести Ванды Василевской, а вечерами рады провести часок-другой в обществе остроумного собеседника. Известный славист, удостоенный докторской степени в Карловом университете Праги, москвич П. Г. Богатырев переводит здесь "Похождения бравого солдата Швейка". И он забегает к Олеше посоветоваться, показать готовые страницы. Музыканты Никита Богословский и Штогаренко, историк-ориенталист Е. Л. Штейнберг, артист Марк Бернес, украинские писатели Юрий Дольд-Михайлик и Агата Турчинская – всем нужны привет и ласка, всех надо выслушать, а иному и помочь советом и делом.
Чопорный и бравый не по летам, поэт Георгий Шенгели живет поблизости на частной квартире, переводит в огромном количестве стихи классиков Туркмении, старинную дестанную и современную поэзию. Выполнив утренний урок, отглаженный, в модной чесуче, Шенгели, размахивая тростью, приходит к Олеше – передохнуть, отвлечься от подстрочников.
Все, конечно, приносят новости – из Москвы, с фронта. Делятся творческими планами, глубоко личными переживаниями. Однако обилие визитов дурно отражается на работе.
Олеше впору было скрываться от друзей – где-то на окраинной улице, в предгорьях Копет-Дага или в тихой, давно обжитой "своей" комнате в писательском союзе.
Неотступных обязанностей, срочных дел все прибывает. С каждым днем пристальнее всматривается Олеша в туркменскую литературу, понемножку втягивается в переводческую работу. Его осаждают писатели, приносят рукописи, далеко не всегда художественно значительные. А он при всей своей экспрессивности человек деликатный и иной раз тратит силы впустую.
Однако чаще случалось обратное. Стихи Дурды Халдурды, Кара Сейтлиева, проза Хаджи Исмаилова в русской интерпретации Олеши вышли отличными. Не раз они переиздавались и поныне, бесспорно, сохранили свое значение.
В конце сентября 1945 года, при завершении Декады туркменской литературы в Москве, одно из заседаний Союза писателей было посвящено обсуждению туркменской прозы в новых русских изданиях. Главным докладчиком-рецензентом по прозе был Константин Федин. Он упрекал одних за смысловые просчеты, другим указывал на стилистические погрешности, иных переводчиков вовсе не упоминал, но когда речь зашла о повести Хаджи Исмаилова "Соперники", Федин сказал:
– Исмаилову повезло. Его перевел такой стилист, как Олеша. Я прочитаю вам кусочек этого чудесного, по-моему, текста.
И Федин прочитал небольшой отрывок из "Соперников", посоветовав нам всем, переводчикам туркменской прозы, следовать примеру Юрия Карловича Олеши.
Мы, участники декады, и после заседания продолжали дискутировать. Халдурды спросил Олешу:
– Как же так, Юрий Карлович? Вы уверяли меня в Ашхабаде, будто никогда не были переводчиком и лишь изредка, от скуки, беретесь за подстрочник. А Федин так высоко оценил вашу работу!
– Милый Халдурды, – смущенно, точно извиняясь, ответил Олеша, поверьте, все же для меня эта работа случайная, я живу и мучаюсь иным, я не умею "вгрызаться" в чужой оригинал и добиваться такого блистательного успеха, как, скажем, Маршак или Тарковский. В этом деле я только любитель.
Недостатка в сюжетах Олеша не испытывал. Раздавал их направо и налево, в подарок, безвозмездно. "Хотите сюжет? – предлагал он. – Исторический? Пожалуйста! "
Сам же никаким историческим сюжетом заняться не хотел. Даже "Бильбао", антифашистская драма, задуманная им еще до войны и наполовину уже сработанная, была отодвинута на второй план.
Сейчас он одержим желанием написать пьесу о Туркмении, животрепещущую, народную, дехканскую.
– Вот увидите, она вам чем-то напомнит Кальдерона, – обещает он и уверяет, что, несмотря на различие материала, его текинская драма будет чем-то сродни тем испанским. Но вот беда – ему не хватает подробностей, деталей быта. Он словно робеет: как бы риторика не заглушила замысла и живых красок, национальный колорит не превратился бы в стилизацию. И тут, во второй раз в Ашхабаде, возникает соавторство. Оно ему противопоказано, он клятву давал: "Умри, но никаких соавторов". Однако под горячую руку заключает договор с Комитетом искусств, и вдвоем с Кара Сейтлиевым, запершись в тесном номере гостиницы, они пишут три месяца напролет дехканскую драму.
В центре ее – старик председатель колхоза из глухого села Мургабской долины, коммунист, одержимый и рыцарски отважный. Дни и ночи он в гуще людей, вожак артели, ратоборец. Дехкане сеют и собирают хлопок, выращивают коней, занимаются виноградарством. Но сил не хватает, силы на пределе, всех измотала война. Словно из торбы злого джинна, сыплются на село траурные извещения. А в поле одни женщины – жертвенные, но теперь уже не молчаливые мусульманки. Им довелось держать на своих плечах весь груз неимоверных тягот здесь, в тылу. Силы иссякают, а председатель требует, требует без конца и, гордый человек, сам не показывает виду, что он точно в таком положении.
Драма, насыщенная национальной символикой, подробностями туркменского быта, пишется по-русски.
Вот одна из сцен. Председатель решает идти в райком, советоваться, как жить дальше, как руководить народом.
Он шагает по степи ночью, в зимнюю распутицу, с керосиновым фонарем в руке. Дорогу нет-нет да перебежит барханный кот, играющий во мгле зелеными глазами. Слышен вой шакалов. Дрогни, упади человек – и мигом растащат его тело шакалы. Но он идет – мимо барханов, идет вдоль арыка и по пути, на окраине чужого села, забредает в кузницу.
Сельская мастерская в страду и по ночам не тушит горн. Куют мотыги, ободья на колеса для верблюжьих арб, куют серпы и разный прочий инструмент – куют победу. Разговор путника с кузнецом. Обыкновенный для них самих разговор о простом, житейском, но в развитии драмы он приобретает глубокий смысл.
Авторы читают нам сцену в кузнице, читают с удовольствием, им самим она по душе. И другую – на зимнем поле, шумную массовку. И еще страницы, вчерне законченные куски. Высокая патетика, захватывающая нервная нота, пронизывающая сюжет. Но до театра, увы, еще не близко. Дирекция театра увидит пьесу лишь в том случае, если каждую страницу, каждую реплику авторам удастся довести до кондиции.
Не забудем: один из них одержим манией совершенства. Они убьют на пьесу целых полгода, вложат в нее столько мыслей, образов, что хватило бы на целую эпопею, изведут горы бумаги, примут на себя адовы муки. Но театр пьесы так и не получит.
Олеша и тут ничем не станет жертвовать, поскольку дело идет о качестве. Олеша неумолим. Сейтлиев с режиссером берутся в течение месяца довести работу до конца, точно по замыслу. Нет, и так не пойдет. Олеша не может позволить себе отписываться, это сказано раз и навсегда. Он в наилучшей форме, ему сорок четыре – пора "Войны и мира", "Преступления и наказания", позднего Чехова. Это его лучшие годы, и творчески размениваться... Есть же иные пути – совершенство. "Пусть маленький рассказ, совсем маленький, но открытие..."
Так объясняет свою театральную "неустойку" Олеша. Озорные оглядки на Толстого, взбадривание себя – все это, потому что с пьесой не клеится, а задуманная на диво солнечная русская повесть "Судьба Тони" еще и не начата, хотя где-то вгорячах и продиктовано: "Она, повесть "Судьба Тони", видит бог, встряхнет всю современную эстетику".
А форма действительно почти всегда отменная. Бешеная работоспособность, блеск ума, страсть к постижению мира, неугасимое творческое горение – это Олеша! Он непререкаемый авторитет для всех, пример честнейшего служения литературе.
В Туркмении в те годы был знаменит слепой шахир и глашатай, мудрец Ата Салих. Он не часто встречал Олешу, жил далеко, в Мургабской долине, но как-то по-своему нежно любил его и завидовал ему. Однажды при встрече, после короткой беседы, Ата Салих, с разрешения Юрия Карловича, приблизился к нему вплотную, обнял его. Ощупал лоб, затылок, провел чуткой ладонью слепца по бровям, прикоснулся к руке, точно пульс проверял. Процедура, занявшая с полминуты, со стороны казалась несколько пугающей. До этого и позднее я общался с Ата Салихом, встречался с ним у него в ауле и у себя дома, среди его и моих родных и друзей, но я никогда не видел, чтоб с кем-либо Ата поступил таким образом. Ну, мог он погладить лицо ребенку, сыну, внуку своему, а тут Юрий Олеша... И он, Ата, сказал о нем тихо по-туркменски примерно следующее:
– Этот русский писатель, Юрий-ага, – колдун. От него исходит волшебство. Я немножко завидую Юрию-ага: он, кажется, лучше любого из нас сумеет заговорить, подчинить себе тех, кто окажется рядом с ним. Он знает, как говорить с человеком.
Слова туркменского шахира перевели русскому писателю. Ему понравилось. Еще бы! Получить такую характеристику из уст Ата Салиха, знавшего толк в подобных делах, умевшего как никто другой "заговорить и подчинить" толпу. Такая оценка кому угодно польстит, прибавит жару в работе. В особенности когда работа изнурительная и не всякий день спорится. Ведь бывают недели, когда вас мучает скрежет репродуктора, когда наслушаетесь разговоров об обстоятельствах гибели Гайдара, Багрицкого-младшего и Нурмурада Сарыханова, которого вы успели узнать и полюбить осенью сорок первого, – и вас охватывает душевная дрожь, и пальцы не в силах водить пером по бумаге...
Плохо одетый, ссутулившийся к концу войны, Олеша старается быть неприметным в мало знакомом ему обществе, кажется замкнутым. Но вдруг его охватывает неудержимое желание громко заявить о себе, о своей незаурядности.
Вспоминаю его разговор с кассиршей банка, где он получает по чеку незначительную сумму.
– Паспорт! – требует кассирша.
– При мне паспорта нет, – отвечает он. – Меня многие знают здесь. Я Олеша.
– А завтра придет другой Олеша...
– Другой Олеша придет через четыреста лет! Это было дерзкое словцо, сказанное не всерьез, но оно было сказано.
Впрочем, стоит ли вспоминать пустяковую историю о писателе, остроты ради пророчащем себе славу на века. Иное, куда более серьезное, мучительное – художническая взыскательность к себе. Тут уж поистине Олеша болел, страдал немыслимо, и в его самодиагнозе неизменно присутствовало слово "мания".
Вот отрывок из послания Олеши товарищам, поздравившим его с шестидесятилетием и награждением Почетной грамотой Верховного Совета Туркменской ССР. На послании дата – апрель 1959 года; значит, написано через четырнадцать лет после отъезда Юрия Карловича из Ашхабада. И носит оно характер воспоминаний о том, уже отдаленном, времени и оценки собственной деятельности военных лет.
"...Я мало сделал за эти долгие годы работы. Но это не потому, что я ленился, а потому, что я немного одержим идеей совершенства. Мне часто перестает нравиться то, что делаю, скажем, сегодня. Я бросаю, начинаю сначала, мучаюсь, зачеркиваю – в результате груда рукописей (которую, кстати, видели Кара Сейтлиев, Аборский), и мало результата – книги нет!
Конечно, мания совершенства – это плохо. Тут есть и тщеславие... Мне только хочется сказать, что в этой мании есть здоровое начало: хочется писать во всю нагрузку".
В этих моих заметках речь идет лишь о годах войны, об Олеше в Туркмении. И мне хорошо видны и чрезмерная суровость самооценки, и обусловленность его высказываний той же беспощадной взыскательностью к себе, неудовлетворенностью тем, что сделано сегодня, то есть тем, что уже сделано. Простая справедливость требует, чтобы ясно было сказано, с какой огромной пользой работал Олеша в Туркмении с первых дней своего пребывания здесь вплоть до конца войны.
Он не прибавил новых томов к собранию своих сочинений, не переводил сотни строк в день из туркменской поэзии, не дал театру пьес. Но он честнейшим образом трудился всякий день и час, в гуще людей и наедине с листом бумаги, оставался всегда самим собой, был настоящим другом Туркмении, представителем лучших современных писателей, патриотом, работником и рыцарем – из последних сил.
В начале сорок четвертого, зимой, я вернулся из четырехмесячной поездки на фронт, в 76-ю туркменскую дивизию. Приехав, обнаружил, что Олеши нет дома.
– Уехал.
– В Москву?
– В колхоз, в Чарджоускую область.
Батюшки-светы! Такой домосед – и на тебе, подался в колхоз, да не в пригородный, не в близкий, а на Амударью!
Спустя пять дней возвращается. Привозит дыню прославленного на весь мир сорта, мешочек риса – дары чарджоусцев – и рассказам нет конца. Как везли его сквозь дебри бурого хлопчатника и вдоль стен серебристого лоха на высокой двухколесной арбе. Как танцевали в деревенском клубе одновременно семь Улановых, переодевшихся за арыком в туркменских девочек, семь богинь, притворившихся туркменскими пионерками.
– А лица дехкан из меди! А джунгли непонятных мне растений! Вы не поверите, даже страшновато там, в джунглях. Ну конечно Индия, подлинная Индия, без подделки! А концерт!.. Жалко, что Оля не слышала одноголосое ладовое пение мужчин. Потрясающе!
Он рассказывает и о новых знакомствах, о радушии сельских жителей, потом просит меня принести ему машинку: очерк о концерте он напишет сегодня же вечером. Не думайте, что в Чарджоу он не пополнил запаса метафор. Так свежо, так счастливо взглянулось на мир в этой Индии, что Олеша не ограничится газетным очерком, нет, он решил вернуться к "Рассказу про Мурада" и "Ашхабадскому дневнику", написанным еще до поездки на Амударью.