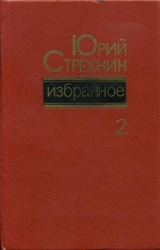
Текст книги "Избранное в двух томах. Том II"
Автор книги: Юрий Стрехнин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
– Как фамилия?
– Губин Иван.
– Откуда родом?
– Город Томск. В Сибири который.
– Знаю. Я сам в Томске родился.
– Во как! – ахает от изумления Губин. – Земляки, выходит?
– Выходит! – подтверждаю я. – И по Томску, и теперь по здешним местам. Ты давно из Томска?
– В марте взяли. А я вас знаю, видал.
– Где, в Томске? Так я давно оттуда.
– Не, в Березовке, когда нас туда пригнали.
– Бойцов Красной Армии никто не гонит, они сами идут.
– Ну сами пригнались. А вы нас тогда встречали и разбивали по ротам.
– Ладно, Иван, хватит воспоминаний. Дорогу в батальон найдешь?
– А чего ж? Я только оттуда, донесение приносил.
И вот мы, выбравшись из окопа, шагаем по ночной степи. В ней тихо и пустынно, но угадывается, что здесь, на пути к передовой, она очень населена военным людом. То в сторонке проступят сквозь синеву ночи силуэты орудий, стоящих на огневых, или донесется негромкий говорок, а нет-нет да и мотор взрыкнет осторожно – то ли танка, то ли грузовика, привезшего боеприпасы.
Мы идем, идем, и нашему пути, кажется, нет конца.
– Ты не заблудился, паря? – спрашиваю Губина.
– А чего блуждать-то? Правильно идем! – но в его голосе я улавливаю поток сомнения.
Впереди все явственнее слышится стукоток колес. Со стороны передовой…
Из темноты проступают силуэты влекущих армейскую пароконку двух лошадей и человека, шагающего рядом.
Окликаю. Повозка притормаживает. Приглядываюсь: ее ведет пожилой, усатый старшина, с вожжами в руках. Спрашиваю:
– Далеко ли до передовой?
– С километр, – отвечает старшина. – Вы туда?
– Туда. – Я обращаю внимание, что на повозке – шинельные скатки, вещмешки, котелки… Вспоминаю: на рассвете, когда мы проходили траншеей, уже покинутой ушедшей вперед пехотой, там стояли котелки с нетронутым завтраком, лежали скатки… Почему все это старшина везет с передовой, от солдат, а не к ним?
Очевидно, поняв мое недоумение, старшина говорит:
– Я давно это погрузил, чтоб на новые позиции отвезть, как стемнеет. Повез. Да мало кому осталось свое взять. Вон сколько обратно везу…
Целая повозка солдатских пожитков, хозяевам уже не нужных… Какую обильную жатву пожала война только за один день этого боя, первый!
Распрощавшись со старшиной, везущим свой печальный груз, мы еще некоторое время идем темным ночным полем и, наконец, пройдя мимо позиции батареи длинноствольных противотанковых семидесятипятимиллиметровых пушек, с которой нас окликнул бдительный часовой, добираемся до моего родного второго батальона.
Идем по траншее. Большинство солдат в ней уже спят, завернувшись в плащ-палатки, некоторые доедают из котелков. Кое-где в темноте красными точками маячат огоньки цигарок – курят осторожно, прикрывая огонь ладонью или отвернувшись к стенке.
– Вот тут комбат! – показывает мне Губин землянку, вход в которую занавешен пестрой немецкой плащ-палаткой. – Вас подождать?
– Не надо. Теперь дорогу знаю, сам обратно доберусь.
– Тогда я кашки порубаю, да и пойду.
Губин поворачивается и уходит – автомат, висящий у него за плечом, по сравнению с его маленькой щуплой фигуркой кажется непомерно большим.
Отодвинув полог, вхожу в землянку. Тускло светит трофейная плошка. Собченко и Бабкин сидят на застланных свалявшейся соломой земляных нарах и ужинают: меж ними на нарах котелок, стоят вспоротые банки консервов с иностранными этикетками, тут же бутылка, явно заграничного происхождения.
– О, какой гость! – воскликнул Бабкин. – Не забываешь, значит, где в полку службу начал?
– Не забываю, – пожимаю руки ему и Собченко. – И не только службу начал, здесь меня в партию принимали…
– Во, во! – Бабкин доволен. – Молодец, что помнишь!
– Рупорист мой еще не пришел?
– Придет сейчас! – Собченко подвинулся на нарах: – Садись с нами ужинать!
– Да я уже… Спасибо.
– Ну так посиди… Как там у высшего командования замыслы? Насчет завтрашнего дня? Не знаешь? А я полагаю – опять наступать будем, чтобы немцам передышки не дать. Только вот народа у меня маловато становится…
Спрашиваю о своих училищных однокашниках – Церихе и Таране.
– Оба живы, – успокаивает меня Собченко. – А вообще и взводных покосило кой-кого. Так повоюем еще денька три-четыре – впору сержантов на взвода ставить.
– А вот кого на место сержантов и рядовых ставить? – с грустью говорит Бабкин. – Того уже нет, другого… Геройски люди воевали. Когда в атаку подымались – никого подгонять не пришлось. Да и потом… Немец с танками подходил. Никто из наших не попятился.
– Ну ладно, – откладывает Бабкин ложку. – Надо идти. В первой роте я был, теперь во вторую и третью, да еще к минометчикам…
– Это же на целую ночь хватит! – замечаю я.
– А что поделаешь? Ночь – рабочий день политработника. – По лицу замполита пробегает тень: – Но это еще не самая тяжелая работа. Самая тяжелая – письма писать…
– Родным убитых?
– Вот именно. А то в похоронке штабной что – про всех одинаковые слова. А жил-то и помер каждый по-разному.
– Жаль людей… – вздыхает Собченко. Показывает мне на кружку, которую держит в руке: – Может, все же помянешь с нами этим…
Я уже готов согласиться. Сардин бы я отведал. Уж не помню, когда ел такие вкусные вещи. Но сдвигается плащ-палатка, прикрывающая дверь, просовывается голова в пилотке. Гастев!
Выхожу из землянки. Гастев ждет меня в полной готовности: в руках его большой жестяной рупор, на шее автомат, туго натянута пилотка, на поясе граната, а возле ног стоит на земле второй рупор.
– Ну, Петя, сегодня у нас дебют, – говорю ему, беря свой рупор. – Так что не подкачайте. Текст помните твердо?
– Конечно.
Данный нам комбатом провожатый – один из его связных – ведет нас то окопами, в которых бодрствуют только наблюдатели, то напрямик, полем. Вот и позиции роты, откуда поведет передачу Гастев. Договариваемся с ним, что, когда закончим, встретимся на КП батальона.
Командир роты уже в курсе и тут же распоряжается дать Пете одного бойца для прикрытия. Я оставляю Петю и с тем же связным иду дальше.
Идем напрямую полем – в темноте это безопасно. Ночная роса еще не пала на траву, она сухо шуршит под ногами. Все-таки немножко не по себе – до противника, как объяснил провожатый, недалеко: если немцы бросят ракету, то, пожалуй, увидят нас. Но они почему-то не бросают.
– Пришли! – говорит провожатый и вдруг мгновенно исчезает. Слышу его голос откуда-то снизу: – Сюда!
Оказывается, он спрыгнул в окоп, до которого мы дошли. Спрыгиваю тоже. Окоп маленький, тесный, вырытый, видимо, наспех. Меня встречает незнакомый мне лейтенант, говорит:
– Вот вам охрана, – показывает на плотного, богатырского сложения сержанта.
Сержант молчаливо ведет меня через густую заросль, в которой уже промята тропа. В темноте не разглядеть, что тут растет, но по запаху догадываюсь: полынь. В ее нежный, немножко дурманящий аромат, наплывая временами, вторгается трупный запах, вероятно, где-то здесь, в полыни, лежат убитые наши или немцы.
Где-то совсем близко слышны глуховатые удары врезающихся в землю лопат, шелест выбрасываемой земли – там окапываются.
Сержант останавливается. Перед нами небольшой, аккуратно вырезанный окоп. Спускаемся в него. В окопе станковый пулемет, возле дежурный пулеметчик, он же, наверное, и наблюдатель – стоит, припав грудью к брустверу, смотрит. Возле пулемета под плащ-палаткой спит еще один солдат.
– Далеко до немцев? – спрашиваю пулеметчика.
– Метров триста-четыреста…
На таком расстоянии разговор не слышен, но говорим мы почему-то шепотом. Впрочем, немцы могут оказаться и ближе – разведка, например.
– Как там, впереди? – спрашивает сержант пулеметчика. – Немца слыхать?
– Не, – отвечает пулеметчик. – Тоже, наверное, за день навоевался. А это что за труба, товарищ лейтенант?
Я объясняю.
– Нам немец в сорок первом, когда в окружении мы были, тоже в трубу кричал, чтоб сдавались, – вспоминает пулеметчик. – Да только не больно мы его слушали. Навряд и немец вас послушает.
– Время меняется, – отвечаю я. – С учетом этого и строится наша разъяснительная работа.
– А наша вот на нем строится, – пулеметчик кладет руку на щиток «максима».
– Вот и хорошо, одно к одному. – Я поворачиваюсь к сержанту: – Пошли?
Глухо вздохнув, сержант явно ждет: пойду ли я первым? Ну что ж… Выкладываю трубу на бруствер, уперевшись в него руками, выбрасываю тело из окопа. Падаю грудью на прохладную землю, делаю несколько шагов вперед, ложусь. Оглядываюсь: где мой охранитель? Не отстал? Нет, вот он, чуть позади меня. Подымаюсь, быстро иду вперед, снова ложусь. Жду, когда сержант догонит. Он деликатно трогает меня сзади за голенище, шепчет:
– Не надо так далеко…
Но мы проползли – прошли не больше тридцати-сорока шагов. Маловато… Немцы могут и не услышать. Надо продвинуться еще. Подымаюсь, иду, придерживая трубу на весу, чтобы не загреметь ею о землю. Сержант, хочется ему того или нет, вынужден следовать за мной. На ходу приглядываюсь: ямку хоть какую-нибудь приметить, чтоб укрыться на случай обстрела. Но, как на зло, место ровное, никаких укрытий, только невысокая травка. Хотя бы воронку увидать…
Сержант равняется со мной, шепчет опасливо:
– Да куда же вы? Хватит!..
Может быть, действительно, уже хватит? Не было бы далеко бежать обратно, в случае чего.
Еще несколько шагов. Передо мной – высокий, пахнущий пылью, местами измятый бурьян. Ложусь в него.
– Хватит! – снова шепчет мне в ухо мой охранитель.
Пожалуй, сержант прав. Говорю ему:
– Поглядывайте по сторонам!
Поудобнее, лежа, примащиваюсь на упругом, немного колком, пружинящем подо мной бурьяне. Внезапно на какой-то миг вспыхивает воспоминание: на ночных занятиях по тактике в училище вот так же приходилось, ориентируясь чуть ли не на ощупь, отрабатывать тему «Взвод в наступлении ночью», перебегать и ползать… Но там противник был условный, свои же ребята-курсанты. А здесь в каких-нибудь трехстах шагах настоящий враг. А может быть, и ближе?
– Смотрите в оба! – шепчу сержанту. Он молча кивает, ложится, уперев локти в землю, автомат – на изготовку.
Не заметил ли нас противник? Нет. Тишина. Тишина незыблемо лежит над недавним полем боя.
Беру в руки трубу. Но, лежа, держать ее неудобно. Вот если бы приделать к ней сошки, как у ручного пулемета, только подлиннее… Да ладно, рационализаторские предложения потом. Подымаюсь, принимаю положение как при стрельбе с колена, подношу трубу к губам.
– Дойче зольдатен унд официрен!.. – труба так усиливает звук, что я даже немножко пугаюсь собственного голоса. Но надо говорить как можно громче. И как можно быстрее, – пока немцы предпочтут слушать меня, а не стрелять на голос, но не так быстро, чтобы меня расслышали и поняли.
– Дойче зольдатен унд официрен! – возглашаю я еще раз и затем произношу весь заученный текст. Прислушиваюсь. На стороне противника по-прежнему тихо. Слышат ли там меня? Слушают ли?
Еще раз повторяю текст. Теперь делаю это уже спокойнее.
Закончив, зову сержанта:
– Переменим позицию! – и осторожно перебираюсь правее, шагов на сто в сторону. Так наставлял меня Миллер: с одного места долго не говорить, чтобы противник не засек.
Устраиваюсь на новом месте – оно совсем открытое, трава невысокая, редкая, лишь кое-где торчит заметный в темноте широкими листьями репейник.
Снова начинаю передачу. Произношу текст один раз, второй… Начинаю в третий раз. И вдруг вершинки репейника словно вздрагивают в призрачном летучем свете. Камнем падаю. Над головой – дробный глуховатый свист. Не отрываясь от земли, искоса взглядываю вверх. Летучий желтоватый свет трепещет на макушках репейника, бликами проносятся по траве трассирующие пули! Бьет немецкий пулемет. Пули, как бешеные светящиеся жуки, пролетают примерно в полуметре от земли. Кажется, я даже ощущаю рывки пронзаемого ими воздуха. Если вражеский пулеметчик возьмет прицел чуть пониже… Хотя бы маленькая ямка была вблизи перекатиться бы в нее! Бросаю взгляд вправо, влево. Нет, ничего, никакой ямочки… А где же сержант?
Пулемет бьет и бьет. Хочется крикнуть: «Да хватит уже! Сколько можно!» Единственное, что я могу сейчас, – это ждать. Ждать, пока пулемет перестанет стрелять. Перестал, наконец! Скорее переменить место! Но только успеваю опереться руками, чтобы встать, как вновь раздается зловещий посвист. Да что он, немец, всю ленту на меня решил извести?
Действительно, наверное, всю…
Лежа, слышу теперь не только свист пуль, но и приглушенный расстоянием, но довольно отчетливый в ночной тиши стук немецкого пулемета. Сколько до него? По звуку определить трудно. Во всяком случае, не больше четырехсот метров…
Но вот пулемет смолкает.
Перейти на другое место, повторить передачу? Тихонько зову:
– Сержант!
Отклика нет. Где же он? А вдруг в него попало?
Пригнувшись, пробегаю вправо, влево, шарю взглядом по траве, меж стеблями репейника, – может быть, сержант лежит где-то тут, в темноте разглядишь не сразу… Нет, нигде не видно. Что за оказия? Окликнуть? Но если немцы ударят на голос? Все же зову:
– Сержант! Сержант!
Ни звука в ответ. Куда же он девался? Остается идти назад, к окопу. Только бы не сбиться с дороги… Как в тот раз, еще до боев, когда ходил с ночной поверкой и, можно сказать, попал в плен к своим.
Судьба на этот раз благоволит мне. А может быть, не судьба, просто я научился лучше ориентироваться ночью. Вскоре нахожу окоп, откуда мы отправились вещать. Первым долгом спрашиваю пулеметчика:
– Сержант, который был со мной, не возвратился?
– Не видали его.
Моя тревога усиливается. Я делюсь ею с пулеметчиком. Он и его напарник, спавший возле «максима» и поднявшийся при разговоре, разделяют мои опасения: сержанта, может быть, действительно достало пулеметной очередью.
– Сходим, поищем! – прошу я.
Но пулеметчики не решаются оставить свой пост.
– А вдруг немец сунется? Он хоть и не любит ночью воевать, да на войне всякое возможно. Глядишь, разбередили вы его своими речами.
Пулеметчики советуют мне:
– Скажите лейтенанту нашему: может, он кого и пошлет искать…
Ничего другого не остается. Вконец удрученный – может быть, в поле мается раненый сержант, – спешу обратно. Тороплюсь и вместе с тем стараюсь идти как можно осмотрительнее – долго ли без провожатого в темноте сбиться…
Наконец, добираюсь до окопа, откуда уходил с сержантом.
– Беда! – первым долгом говорю лейтенанту, который провожал нас. – С тем сержантом беда, которого вы мне дали…
– Какая беда? – недоумевает лейтенант. – Да вон он, – показывает в дальний край окопа. – Вернулся и спит.
– Вернулся? Спит? – я, кажется, немею от изумления.
– Ну да, вернулся, доложил, что вы ушли из-за обстрела, и лег спать. Я думал, что вы прямиком на КП батальона пошли, не заходя сюда.
– Вот как! – Меня мгновенно охватывает бешеное желание – подойти к безмятежно спящему моему «охранителю», садануть его сапогом в бок и высказать ему все, что я о нем думаю. С трудом сдерживаюсь. Только говорю лейтенанту: – Когда проспится – спросите, почему он удрал от меня! И дайте мне провожатого до КП батальона. Темно, как бы не заплутаться.
– С сержанта спрошу! – успокаивает меня лейтенант. – А заплутаться не бойтесь. Вы теперь даже один, без связного, дойдете, и самым прямым путем. Вечером артиллеристы к своему НП связь протянули, она возле нас проходит и дальше возле батальонного КП. Идите по «нитке» – по телефонному проводу – не собьетесь.
По «нитке» так по «нитке». В самом деле, люди устали после боя, а я еще буду таскать с собой связного. Доберусь сам!
Лейтенант выходит со мной из окопа, нагибается:
– Вот она!
«Нитка» – телефонный провод – в моей руке. Я прощаюсь с лейтенантом. Темнота за время, пока я вел передачу, еще больше сгустилась. Провод, положенный прямо на землю, почти не виден. Только там, где он повис на упругих стеблях бурьяна, его еще как-то можно если не разглядеть, то хотя бы угадать. Поэтому я иду почти все время касаясь «нитки» и очень боюсь ее потерять. Пройдут месяцы, я стану бывалым фронтовиком, и хождение по «нитке» станет для меня делом привычным. Но в ту первую мою ночь на передовой «нитка» была для меня поистине спасительной нитью. Я боялся перепутать ее с какой-нибудь другой: на поле всяких проводов протянуто немало – и своих, и тех, что от немцев остались, пойдешь не по тому, приведет неведомо куда…
…Перебирая провод, иду медленно. Темнота густеет. Небо закрыли тучи, начал накрапывать дождь. Не велик, так, моросит. Однако трава, по которой иду, мгновенно стала влажной, а когда проходишь через бурьян – словно мокрыми швабрами оглаживает. Провод в моей руке стал холодным и скользким, похожим на бесконечно длинного дождевого червя. Скорее бы добраться до КП батальона.
Что это?
Откуда-то из темноты доносятся, еле слышные сквозь шуршащий по траве дождь, звуки музыки – плавной, печальной. Пианино или рояль… Уж не мерещится ли мне: концерт на поле боя. Играет радио? Но откуда оно здесь, в пустынном ночном поле? И почему звучит словно из-под земли?
Прислушиваюсь еще. Да, музыка… Что это? Оттуда же донесся не то стон, не то крик – хриплый, прерывистый. Вот снова… Раненый, которого не нашли?
Делаю шаг в сторону тревожащих меня звуков. Оглядываюсь: не потерять бы провод. Примечаю – вот здесь, он, возле репейников со сбитыми макушками.
Поспешно иду, путаясь ногами в намокшей от дождя траве. Музыка все слышнее… Иду во тьме, как по радиомаяку. А голоса больше не слышно…
Вот музыка звучит уже совсем ясно. Все та же плавная, грустная мелодия, в нее вплетается нежный женский голос.
Передо мной – измятый, перепутанный, намокший бурьян. Не без труда раздвигаю его – и ноги скользят по вывороченной на поверхность глине. Воронка? Кажется, здесь был окоп… Окликаю:
– Есть кто?
В ответ сквозь музыку едва слышен стон.
Делаю шаг – и соскальзываю вниз, едва не упав. Здесь еще темнее, чем наверху, в бурьяне. Но откуда свет – еле заметный, зеленоватый…
Светит зеленый глазок контрольной лампочки полевой рации в железном ящике – она лежит на боку, сверху на ней – перепутанные стебли бурьяна. Прямое попадание. Рацию свалило, но она осталась цела, только сбилась настройка. Иначе бы не звучала музыка; включать рации разрешено только для служебных переговоров.
Но я же слышал стон… Или мне почудилось?
Нет, не почудилось. В нескольких шагах от рации недвижное тело. Я нагнулся. Раненый слабо шевельнулся. Я еле разобрал:
– Помоги, друг…
– Сейчас, сейчас! – засуетился я. Подхватил раненого под мышки, стал приподнимать. Он громко застонал:
– Оставь. Невтерпеж!..
Что же делать? Вдруг у него такое ранение, что его опасно тащить без носилок?
– Куда ранило?
Ответа я не услышал. Раненый лежал недвижно, безмолвно. Только можно было уловить, и то с трудом, его хрипловатое, учащенное дыхание. Наверное, вот так, без сознания, он лежит давно – ранило его скорее всего днем. И не перевязанным остался?..
– Куда тебя ранило? – повторил я вопрос. – Перевязать надо! Где раны у тебя?
– Везде… – шепнул раненый, – осколки… насквозь…
Осмотреть? Найти раны? Но как это сделать в кромешной тьме, под непрекращающимся дождем? Будь у меня фонарик или хотя бы спички. Но откуда у некурящего спички?
– Слушай! – сказал я раненому. – Сейчас тебя к «нитке» подтащу. И схожу за санитарами. Мы придем с носилками. Потерпишь?
В ответ я услышал только горячечное дыхание. Снова впал в беспамятство? Может быть, из-за него и не мог раньше позвать на помощь? Ведь сколько людей за время боя и после прошли мимо и не заметили. Да и не просто разглядеть воронку или окопчик в бурьяне. Кто он, этот человек? Скорее всего корректировщик огня, вон ведь сколько артиллерии понаставлено… Да какое имеет значение, кто он? Раненый. И его надо спасать Надо успеть спасти. Не исключено – каждая минута промедления грозит ему смертью. Может быть, кровью истек…
Я подхватил раненого, приподнял, потащил, стараясь действовать как можно бережнее. Вытащить его наверх было невероятно трудно. Сначала я посадил его спиной к полуосыпавшемуся краю ямы, потом вылез, нагнулся, снова взял под мышки, потянул. Раненый застонал.
– Потерпи, потерпи! – твердил я, пятясь в сторону «нитки» и таща раненого. Ноги его безвольно волочились, руки висели безжизненно. Тащить его по неровной, покрытой клочковатой травой земле, набухшей от дождя, было чрезвычайно трудно, он казался мне колоссально тяжелым. Ноги путались в мокрых, цепких стеблях, скользили по раскисшей от дождя почве. Но я тащил, упорно тащил…
Вдруг раненый проговорил внятно:
– Брось меня!.. Брось! Невмоготу мне… Больно!
Меня обдало жаром: а что, если он умрет у меня на руках? Положить? Но как мы его найдем потом, в кромешной тьме, которая тем больше сгущается, чем сильнее идет дождь. А он идет, идет, и шум его нарастает. Гимнастерка моя уже промокла почти насквозь, промокло все обмундирование, это связывает мои шаги. Раненый, кажется, с каждым моим шагом становится тяжелее.
По моим расчетам, я должен был уже дотащить раненого до провода – ведь идти мне шагов пятьдесят, не больше. Это расстояние, кажется, уже преодолел… Но где же провод? Неужели в темноте я не заметил его, перешагнул… Ничего мудреного, провод мог влипнуть в землю, остаться незамеченным – такая темь и мокреть! Где теперь искать провод? Там, где я уже прошел? Или там, куда еще не дошел?
Кажется, даже холодный пот проступил у меня на лбу. Потерять «нитку», нить жизни для человека, судьба которого сейчас зависит в большой мере только от моей расторопности?
Оставив раненого, пригнулся к земле, не замечая, как в спину мне барабанит дождь, и начал лихорадочно присматриваться, шарить по земле взглядом, ногами и руками. Под пальцы попадало все – стебли травы, комья земли, корни, – все, кроме провода…
Но вот, вот провод! Я его держу в руке. Но тот ли?
Я приподнял, потянул… прикинул направление. Кажется, провод тот. Побежал обратно к раненому, закричал:
– Нашел! Нашел!
Раненый шевельнулся, что-то пробормотал и снова замолк.
– Сейчас, сейчас! – старался я утешить его.
Снова подхватил раненого под мышки и потянул к «нитке». Вложил провод в вялую, прохладную, мокрую руку, сжал ему пальцы:
– Держи, не выпускай! Ни в коем случае не выпускай, слышишь?
– Слышу… Рацию принеси!
– Да шут с ней, с рацией! Тебя спасать надо!
– Принеси! Я за нее отве… Принеси!
Сорвавшись с места, я побежал туда, где осталась рация. Она по-прежнему мерцала зеленым глазком, и все еще звучала музыка – только совсем другая, разухабистая, подпрыгивающая, такая неуместная в этом темном тревожном поле. Я схватил рацию обеими руками, побежал к нитке. Бежал, спотыкаясь, а в моих руках, в скользком холодном железном ящике билась чужая, да, чужая, враждебная музыка – в нее вплелись два голоса, два речитатива, можно было разобрать, что поют на немецком языке.
Я подбежал к раненому:
– Вот она, твоя драгоценная… Успокойся, – и положил рацию возле него. Как только я коснулся ею земли, рация замолкла – наверное, от какого-то моего движения звук выключился сам. Только зеленый глазок продолжал светиться еле приметно.
– Выключи! – вдруг четко, внятно проговорил раненый. – Выключи, а то батарея сядет! – и бессильно откинул голову назад. В темноте матово белело его лицо. Только теперь я разглядел: совсем молодой. Наверное, моложе меня. Снова неподвижен, глаза закрыты. Неужели опять потерял сознание? Нет! Снова слышу тихий, слабый, но требовательный голос:
– Выключи!
– Вот далось! – рассердился я. – Да не знаю, где тут выключается.
– Дай!
Я подвинул рацию к раненому вплотную. Он с усилием поднял руку, тронул какой-то рычажок на панели, и зеленый огонек погас.
– «Нитку» снова зажми! – напомнил я. Раненый послушно потянулся к проводу, но нащупать его не смог. Как и в первый раз, я вложил провод в его пальцы, крепко сжал их:
– Не выпускай! – и побежал вдоль провода, на ощупь бегло перебирая его.
Несколько раз упал, споткнувшись на неровностях почвы или зацепив сапогом за спутанную траву. Вскакивал, хватался за «нитку» и снова бежал, бежал… Мне казалось, бегу целую вечность. А кругом все темнота и безлюдное поле, и шелест неутихающего дождя. Когда же, скоро ли провод приведет меня на КП батальона?
Но вот меня окликнули:
– Стой! Кто идет!
– Свои! – я назвал себя. Оказалось, наконец-то, я уже на КП батальона.
– Товарищ старший лейтенант! – услышал я голос Гастева. – А я вас давно жду…
– Потом, потом поговорим, – отмахнув дверной полог, я влетел в землянку комбата. Он спал.
– Санитаров! – прокричал я ему. – Товарищ капитан, срочно санитаров!
Через пять-шесть минут я с двумя солдатами, один из которых нес свернутые носилки, и с батальонным фельдшером Заборовым, моим приятелем еще с тех дней, когда я служил в батальоне, бежал обратно, снова ориентируясь по нитке. Капли дождя падали на наши разгоряченные лица.
Вот мы и добежали. Радист лежал возле провода, но не держась за него.
– Скорее, Миша! – торопил я Заборова. Он опустился возле раненого, смахнув с бедра толстую, набитую бинтами сумку, склонился, что-то делая обеими руками.
– Пульса нет! – Заборов поднялся. – Напрасно спешили…
«Это я виноват, я! – жестко сказал я себе. – Долго провозился! И на то, чтобы принести рацию, потратил какие-то минуты. Может быть, этих самых минут и не хватило…»
И только теперь я заметил, что зеленый огонек рации снова светит. Значит, в самые последние мгновения радист снова включил ее? Зачем?
Я смотрел на зеленый огонек, еле теплящийся в черной темнотище пасмурной ночи. А вокруг по измятой за день траве затихшего бранного поля бесстрастно, равнодушно шелестел, шелестел дождь.
Прошло много лет, а я все помню того радиста. Человека, которого я не сумел спасти…
Поздно ночью вернулся на полковой КП. Все, кто мог спать, уже спали бодрствовали только наблюдатели и телефонисты. Да в землянке, в той самой, в которой днем я допрашивал пленных, за столом, на котором мерцала трофейная плошка, сидел Карзов, склонившись над какой-то тетрадью.
– Что сочиняешь? – спросил я его. – Дневник?
– Вроде того, – оторвался Карзов от тетради. – Делаю запись за сегодняшний день в журнал боевых действий полка. На передовой уже побывал, уточнил рубежи, донесение отправил, теперь вот фиксирую для истории. Ты знаешь, сколько раз сегодня немцы переходили в контратаки? Восемь раз! Танками и пехотой. Перед передним краем полка десять сожженных немецких танков красуются…
– За каждый день в журнал записываешь?
– За каждый! С самого начала войны. Про все дела… Когда я еще командиром роты был, на Северо-Западном, и про меня запись сделали.
– О чем?
– О том, как я со своей ротой, в сорок втором дело было, полтора месяца в лесу, у фрицев в тылу, им всякие неприятности чинил. По дорогам они ездить опасались…
– О! Значит, ты в историю попадешь.
– Все мы, брат, в историю попадем. Если возьмем Тросну.








