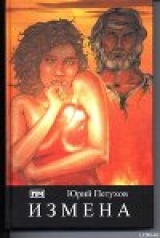
Текст книги "Измена, или Ты у меня одна"
Автор книги: Юрий Петухов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Сергей, скашивая глаза направо, завидовал Суркову.
Тот был всего в полуторах метрах, но как раз через них пролегала невидимая граница в грунте – Сурков метал изпод себя жирный и мягкий чернозем. Он уже наполовину вырыл свой окоп. А у Сергея и первая и вторая половина были еще впереди.
Отрывая от неподатливой земли по крохотному кусочку, он частил, надеялся быстротой взять свое и не отстать от прочих. Спина взмокла, по лицу катил смешанный с пылью пот. Копать приходилось лежа на боку, как в "боевой обстановке".
Сержант издалека наблюдал за работой взвода, и под его внимательным взглядом переменить положение или хоть чуть приподняться не было возможности. Приходилось выносить и боль в затекшей пояснице, и пот, застилающий глаза, и все прочие неудобства. Сержант засек время и следил теперь, чтобы все постарались уложиться в нормативы. Объяснения и неудобства в расчет не принимались.
Сергей знал об этом и вгрызался в глину с остервенением, с лютой злостью на нее, не обращая внимания на усталость.
– Ну до чего ж ты ретивый малый, как я погляжу! – донеслось слева.
Там ковырялся в такой же глине Черецкий. Слова его прозвучали зло, несмотря на явную одышку.
Сергей молчал, делал свое дело, даже не повернул головы, будто Черецкий не к нему обращался.
Но тот был настырным.
– Слушай, Серега, ну чего выкладываться? Мы ж в этой глине, как черви, завязнем, все равно не уложимся. – Черецкий заговорил мягче, ему было так же нелегко. И он искал поддержки.
– Дело хозяйское, – не оборачиваясь, буркнул Ребров. Черецкий сорвался:
– Да ты, баран, простых вещей усечь не можешь! Не соображаешь, что ли, если мы все скажем, что грунт паршивый, что только динамитом возьмешь, – ну чего он нам сделает?! Ты оглох, что ли?! Серый, балда! На нас же, на дураках таких, мир стоит! А мы – терпеть, да! Пускай другой участок дает! Вон хотя бы как у этого салабона Сурка!
– Встать нельзя, а то б я тебе по роже дал, – без особого пыла произнес Сергей. – Тебя ж никто не обзывает!
– Да ладно, фрайср нашелся, обиделся на слова! Я ж не со зла, а ж для общей пользы…
– Да как хочешь! А я буду здесь рыть, уложусь или нет – видно будет, не расстреляют же, чего боишься? Не-е, Боренька, сам ты фрайерок!
Черецкий перевалился на спину, раскинул руки по сторонам. Ему надоело упрашивать и разобъяснять – верно говорят, каждый сам за себя, думалось ему.
– Ну и рой, чтоб тебя…! – процедил он уже без злости, почти спокойно.
Сурков доканчивал свой окоп. Он вполз в него и старательно оглаживая лопатой земляную насыпь перед собой, бруствер укреплял. Уши его, обычно нежно-розовые, побагровели, он тяжело, но удовлетворенно сопел, поглядывал по сторонам.
– Радуется, ударничек, всех обошел… – с сарказмом выдавил из себя Черецкий. На лице его горела недобрая ухмылка. – Эй, Сурок, ты чего это там – быстрее положенного, что ли, перестраиваешься?! Думаешь, на лычку больше дадут или в прорабы назначат, а? Эй, Хомяк, твою мать! Ты что, старших не уважаешь? А ну ползи сюда, старику подмоги!
Несмотря на то что предложение Черецкого об искусственном разделении ребят в учебном взводе на «стариков» и «салаг» не прошло в силу своей очевидной бестолковости и надуманности, сам автор этой новации не отказывал себе в удовольствии иногда помечтать, вообразить себя старослужащим, даже «дедушкой». Правда, на этой почве Борька уже получил пару оплеух, да и сам раздал не меньше – но уж очень ему, видно, было приятно, ну никак не мог смириться.
– Ничего, Боренька, тебе-то вот настоящие старики, как распределят по частям после учебки, устроют житуху, попомни мое слово! – сказал Сергей, не переставая орудовать коротенькой лопаткой, будто заводной.
– Я сам кому хошь устрою! А эту помесь Сурка с Хомяком сегодня же вечером научу быть почтительным, он у меня еще солдатской присяги не проходил! – отпаривал Черецкий. Он по-прежнему отдыхал, благо, что сержант на дальнем фланге возился с кем-то, что-то показывал и растолковывал. – Он у меня настоящим солдатом станет!
– Тебя самого присягать надо! – выкрикнул молчавший до этого Леха Сурков.
– И это запишем, и это учтем! – Черецкий залился ехидным, нервически-деланным смехом.
– Боря!
– Чего тебе?
– Я все хотел спросить у тебя – чего это ты такой злойто, тебя чего, обделили чем-то в розовом детстве или папа тебя с яслей пивком подпаивал, да не допоил?! Ответь, пожалуйста! – Сергей, перевернувшись на другой бок, уставился на Черецкого.
Тот ошалел, выпучил глаза – то ли от неожиданного вопроса, то ли от прямого попадания.
– Ну, не хочешь – не отвечай.
Сергей снова судорожно вцепился в лопату. Опустил лицо вниз: из-под глины начинал проступать песок. Он копнул еще несколько раз и, убедившись, что не ошибся, крикнул:
– Нажми, Борька, дальше легче пойдет!
Черецкий недоверчиво поглядел на Реброва, но, увидав выбрасываемый тем наверх желтенький песочек, схватил брошенную лопату и с силой вонзил ее в глину.
Новиков не спускал глаз с циферблата часов, наверное, время, отпущенное уставами на окапывание, подходило к концу. Проще было самому рыть землю, чем наблюдать за этим процессом и бездействовать, по крайней мере, ему так казалось.
Наконец он приподнялся с бугорочка, на котором сидел последние пять минут, и не спеша пошел вдоль линии окопов, отмечая что-то у себя в блокнотике.
Сергей чувствовал, что он не успевает, но поделать ничего не мог – Новиков подходил все ближе и ближе. И если бы в запасе оставалось хотя бы две-три минуты, он отрыл бы до конца эту ненавистную земляную щель. Но в запасе не оставалось и минуты!
Черецкий уже понял, что дело безнадежное, и сидел рядом с неглубокой своей ямкой, прямо на травке, терпеливо ожидал приближения сержанта. Но не так-то он прост был. Сергей заметил, что Борька успел вымазать грязными, глинистыми руками все лицо и принялся вдруг дышать словно загнанный жеребец, почти так же поводя боками, а уж рот разевал – куда там жеребцу! Но получалось довольно-таки натурально.
Когда сержант подошел вплотную, Черецкий с маху ткнул лопаткой в землю, да так, что попал в камень или кирпич – конец лезвия чуть согнулся, и Черецкий будто в сердцах хлопнул ладонью по колену.
– Кремень, зараза! Ну не берет, товарищ сержант, хоть ты лопни!
Новиков поковырял мыском глиняные комья и кивнул понимающе, поставил галочку в своем блокноте.
Черецкий почти сразу же перестал «задыхаться» и чертыхаться и незаметно подмигнул Сергею: знай, мол, наших.
– У вас, Ребров, то же самое, грунт тяжелый? – на ходу произнес Новиков, уже собираясь поставить еще одну отметку.
– Нормальный грунт, – ответил Сергей, глядя в сторону. Ему только ваньку валять еще не хватало. – Глина с песком.
– А что ж не уложились-то? – Новиков хотел, чтобы вопрос прозвучал как можно более бесстрастно. Но ему это не удалось – легкий оттенок сожаления лег сверху и придал его словам некоторую глумливость.
Сергей не оправдывался.
Неизвестно, как бы складывались события, но многие ребята из взвода уже сгрудились вокруг, прислушивались. Новиков успел пожалеть, что не поддержал просьбу Сергея о переводе в другой взвод, его рапорт Каленцеву. Но сказал то, что должен был сказать:
– Придется повторить.
Все замерли. Кто-то присвистнул. И ждали, ждали продолжения. Черецкий из-за спины сержанта выразительно пощелкивал себя пальцем по лбу. Сурков сочувствующе разводил руками. Хлебников виновато улыбался.
– Зачет сдавать будете сегодня, в свободное время. Лично мне, рядовой Ребров. Ясно?
– Так точно, товарищ сержант, – ответил Сергей.
У него в глазах мельтешила нахальная, ухмыляющаяся рожа Черецкого. И никак Сергей не мог избавиться от этого гнусного видения.
"Салага, зелень пузатая, котелок медный! – И снова: Салабон! Внучек! Учить тебя и учить! Зелень! – звучало у него в ушах противным шепотком. И шепоток тот по тембру и высоте явно принадлежал Борьке Черецкому. Са-ла-женок!" Но сам Борька стоял себе рядышком и рта ке раскрывал, лишь кривился и щурился – эдак по-стариковски, поглядывал свысока. И надо бы ему врезать было хорошеньхо! Да не место и не время. Сергей только сплюнул под ноги сильно похлопал себя ладонью по пояснице.
Новиков объявил перекур и вновь двинулся вдоль окопов, вытаскивая на ходу из кaрмана брюк пачку сигарет.
На фоне серого облачного неба фигура его казалось черной.
В обед Сергею передали письмо.
– Ты извини, – сказал парень из второго отделения, принесли вчера еще, да тебя не докричались, я дневальным был, вот запамятовал немного.
Сердце екнуло и забилось часто-часто. Сергей не обратил внимания на извинения – какие мелочи! Но… письмо оказалось от брата:
"Сергей, привет, братуха!
Видишь, как получилось, – я приехал, ты в армию ушел, забрили, что называется. Ну да ладно, служи! Мне все четыре довелось отпахать на флоте – от звонка до звонка, сам знаешь. А пишу тебе не просто так. Так бы и не стал зря сантименты разводить. Хочу тебя порадовать – мать пошла на поправку, и врачи-то не ожидали, и никто. Хотя ты, я знаю, этого еще не просек, ты вечно сам в себе. Но все равно, не бревно же ты, должен чувствовать. Скоро она сама тебе напишет… Ну давай, не буду тебя отвлекать от службы да про дом напоминать, а то еще, глядишь, и расплачешься, а тебе еще трубять и трубить, только начал. Пока! Привет отцам-командирам и братишкам-годкам!
Ю. Ребров (без даты)".
"Не то, чего ожидал! Но все же, дай бог, мать поправится. Что ж это ему выпало-то – и с одной стороны, и с другой, и с третьей! И сам – хорош гусь! Все о себе да о себе, про мать и вовсе не думал, верно Юрка пишет: бревно оно и есть бревно!" Сергею стало хуже, чем было, хотя казалось, что хуже некуда. Но нет, есть, есть куда. Он представил себя со стороны, ну как бы сам посмотрел на такого? Как? Да очень просто – гад он и есть гад: невесту у служивого человека увел? увел! мать чуть не в гроб ложилась, уже при смерти была, а он? хоть бы хны! все о себе да о себе! друзьями надежными, верными – и то обзавестать не сумел! Точное есть выражение: дерьмо в проруби! Очень точное! А Новикову Коляне надо в ножки еще поклониться, что чан не своротил на сторону, а ведь своротил бы – и правда его! Совсем Сергей расстроился, донельзя.
Пересдавать зачет, как и сказано было, пришлось после обеда, когда все отдыхали. А отдых мимолетный в первые месяцы службы почитался за высшее благо, за дар несказанный, чуть ли не сказочный.
Ребята провожали Сергея сочувствующими взглядами.
Мишка Слепнев задрал вверх большой палец: мол, не отчаивайся, все путем. Ему легко было желать удачи, сидючи-то в курилке!
Обед был сытный – каши не жалели, гороха тоже, отпускали всю пайку на пятьдесят шесть копеек в день, как и полагалось. А потому и голодных не было, каждому желающему, если, конечно, укладывался по времени, без скаредности наливали добавку – одинаково жидко-вязкую: где суп, где каша – спервоначалу и не разберешь. И теперь большинство сидело у казармы – немного осоловелые, разморенные. Какой-то счастливчик или просто нахальный тип умудрился даже вытянуться на травке, под прикрытием кустов. Сергей, разумеется, завидовал ему. Но случай у него был особый, и потому молить сержанта о снисхождении было совестно, невмоготу. Да и не желал он никого просить!
Шли молча, Новиков чуть впереди, Сергей за ним. В поле было безлюдно и ветрено. Новиков остановился у облюбованного им пригорочка, уселся на траву и жестом предложил Сергею сделать то же самое. Сергей сел.
– Ну что, потолкуем, – сказал Новиков, – здесь нам никто не помешает.
Сергей вздрогнул. И надо бы пойти навстречу, и мешало что-то.
– Я сюда пришел окоп отрывать, – тихо проговорил он, растегивая чехол саплопаты.
Новиков занервничал:
– Да погоди ты, нароешься еще за два года, горы земли перелопатишь! Думаешь, я слепой? Думаешь, не видел, что и у тебя грунт был паршивый, похуже, чем у этого Черецкого?! Считай, все в порядке!
– Ну, если в порядке, так пошли назад, я тоже имею право передохнуть малость.
– Та-ак, не хочешь опять, значит? Уворачиваешься? А чего ты боишься?! Ты же мне подлянку подкинул, а я теперь вокруг тебя должен на цыпочках ходить да уговаривать?! – Новиков вцепился рукой в плечо Сергею, повернул того к себе лицом, закричал, брызжа слюной и стервенея: – Я тебя, сука, обхаживать должен?! А у меня, думаешь, нервы железные?! Ну ты, тварь!
Ярость налетела внезапно, помрачив рассудок. Сергей резко вскинул саплопату над головой… еще бы секунда и он размозжил бы череп этому потерявшему над собой контроль крикуну. Но Новиков тут же перехватил его руку.
– Ты та-ак?! – выпалил он в лицо. – Да я ж тебя придавлю, гада, и тут же закопаю! Ишь чего удумал, на кого руку поднимаешь?! А ну, начинай окоп отрывать, живо! Засекаю время!
Вспышка безумия, овладевшая Сергеем, была мимолетной. Он почти сразу же расслабил руку, сжимавшую черенок лопаты, и отвернулся от Новикова еще прежде, чем тот разразился своей тирадой.
– Отпусти! – сказал он.
Новиков лишь теперь разжал пальцы. – Все, время пошло! – выкрикнул он.
– Пошел ты сам к черту! – ответил Сергей. – Если хочешь, чтоб все по службе было, так и сам давай-ка по-уставному, чего орешь-то и оскорбляешь? Вырвался в командиры, так и глотку драть можно? Врешь, Колюня! Так у тебя не получится!
Новиков опешил.
– Ладно, – проговорил он помягче через минуту, – что наорал на тебя, так извиняй. Тебя, вижу, ничем не проймешь. Может, правда, попросить ротного, чтоб он тебя перекинул куда подальше с глаз моих, а? Мне пять месяцев всего-то трубить осталось, а из-за тебя концы отброшу или в дисбат еще попаду!
Такой поворот удивил Сергея. Но в нем словно черт какой-то поселился. И откуда взялось это тупое, самого его раздражавшее упрямство?
– Да чего теперь-то пыль поднимать? Мне в учебке чуток поболе трех месяцев осталось, продержусь, – сказал он.
– Ага, начать и кончить! – съязвил Новиков. – Ну, как знаешь. Только мне на глаза помимо службы не попадайся, понял?! Ладно, пошли!
Разговора опять не получилось.
Да и нужен ли он был, разговор этот самый?
"Люба, здравствуй!
Прости, что не писал две недели. Была причина. Ты, наверное, и сама догадываешься – какая. Довелось мне встретиться тут с одним нашим общим знакомым, узнать кое-что… Ничего, встретимся, поговорим. Месяца через полтора, раньше не получится. А может, ты напишешь, как дело было? Ну что мне, все из третьих рук узнавать? Думай! У меня все нормально. Служба идет.
Сергей, 30 мая 199… г."
Славка Хлебников был на полгода моложе Сергея, в июне ему должно было исполниться девятнадцать. Когда его спрашивали, почему он попал в армию не со своим призывом, а на год позже, Славка отшучивался и сокрушенно пожимал плечами, дескать, он вообще никуда и никогда не поспевал вовремя, и ничего удивительного нет в том, что его и здесь обошли!
На полголовы ниже Реброва, худой и мосластный, Хлебников не выделялся среди остальных солдат. А внешне ему можно было дать и восемнадцать, и даже меньше. И только глаза, зеленовато-серые, с чуть расширенными, наверное от легкой близорукости, зрачками, были не по возрасту глубокими, грустными. Постоянная хитроватая улыбка на лице сглаживала это впечатление от глаз. Но те, кто знал Хлебникова ближе, давно приметили, что улыбка была всего лишь маской, за которой скрывался не очень-то веселый по своей натуре человек.
Сергей не искал дружбы со Славкой. Но относились они друг к другу по-приятельски и вместе с тем со взаимным уважением. Если бы пришлось кому-либо во взводе раскрыться, довериться, то Сергей свой выбор остановил бы, пожалуй, именно на Хлебникове. Постепенно их отношения начинали перерастать в дружбу. Нет, они не липли друг к другу с дружескими излияниями и откровениями, но каждый знал, что в случае чего есть на кого положиться, а ощущая рядом надежное плечо и служилось полегче.
К отбою выматывались до изнеможения. И все-таки не так, как в первые дни, приходила привычка.
– Еще денек долой! – Черецкий, заштриховав в календаре число, щелчком закрыл блокнот и аккуратненько запихнул его под подушку. – Тянуть лямку остается – всего-навсего, э-э семьсот три денечка, так-то салаги!
День, на который по его расчетам приходилась демобилизация, был обведен красным кружочком. Для пущей убедительности рядом стоял огромный восклицательный знак, а сбоку на полях краснела приписка: "дембель!" В отделении ни для кого не было секретом, что с первого дня службы Черецкий, как, впрочем, и множество других новобранцев, вел этот счет. Но не у каждого хватало выдержки и последовательности, чтобы изо дня в день заштриховывать квадратики да еще и дрожать постоянно за свой "дембельский календарик", который рано или поздно отберут – если не сержанты здесь же, в учебке, так «старики», которые не допустят всякой там «салажне» по первому году свой счет вести, «старики» в тех частях, куда их распределят после окончания учебы.
– Считай не считай, а время – оно все равно наше, хоть ты здесь, хоть дома, – пробасил из своего угла Слепнев.
Он уже лежал под одеялом, ждал, когда свет выключат.
– Много ты понимаешь! Молодой еще! Наше? Вот вернусь на гражданку, тогда – точно, мое будет. А пока казенное!
Черецкий поправил сложенное на табурете обмундирование, откинул край одеяла, лег. Пружины панцирной сетки заиграли под ним, заскрипели.
– Шоферить буду, вас, олухов, катать, – сквозь зевоту продолжал он, – деньжат скоплю, свой мотор куплю. И все остальное…
– Да слыхали, Боря, надоел уже. Ты б чего новенькое загнул!
– Ага, разбежался! В другой раз… – Черецкий вдруг встрепенулся, приподнялся, свесил ноги с кровати. – Чуть не забыл! – Он хлопнул себя по лбу. – Эх, старость – не радость! Сурок, а ну-ка припомни, зеленка, ты сегодня, когда тебя просили, помог старшим, а? Чего молчишь?!
Леха Сурков помалкивал, наверное, уже спал. А может, и просто затаился.
– Не-е, на этот раз у тебя номер не пройдет! Ты же в коллектив не вписываешься! Ты ж товариществом армейским не дорожишь! Да ты спроси у любого, вон, хоть у Слепня спроси: пошел бы он с таким в разведку?! Чего примолк – язык в задницу уткнул, что ли?!
– Отвяжись от него, – сказал Сергей с лендой, вставать ему не хотелось. А не вставая, он знал, Черецкого не урезонишь.
– Ты сам помалкивай, салабоном себя показал перед всем взводом, так и дыши в тряпочку! – отпарировал Черецкий.
Очень не хотелось Сергею вставать.
– Эй, Хомяк!
Суркову надоело, видно, и он ответил:
– Ори, сколько хочешь! А если кличками звать будешь, так, считай, что я тебя не слышу, Чирей!
– А-а-а, вот ты как заговорил, деревня! – Черецкий начинал заводиться. – Ну, лады! Ну, придется тебе, точно, присягу устроить! А ну вставай, салага! Вставай, кому говорю!
Сам он лежал. Да и знал, конечно, что Сурков не встанет. А если встанет, так добром дело не кончится. Но надо было как-то свернуться, так, чтобы и достоинство сохранить, и Суркову досадить. И он решил этот вопрос просто.
– Ладно, село, уговорил дедушку. На первый раз прощаю, не стану о тебя пачкаться. Но проинструктирую на будущее, понял?!
– Да заглохни ты! – проворчал Слепнев. – Славик, руби провода!
Их рота размещалась на втором этаже старого, еще довоенного здания. Скорее всего, постройка была вовсе не казарменного типа и лишь позже она перестроилась под солдатское жилье. На каждый взвод, а то и отделение приходилось по комнатушке или, как называли некоторые, по кубрику – совсем по-флотски. Первые дни свет гасить приходил сам сержант, иногда он присылал дневального. Потом стали доверять. Но проверять. Дольше пяти минут после вечерней поверки и отбоя свет гореть не должен был. И точка! Никаких объяснений не принималось в расчет. А тем, у кого на сей счет было иное мнение, запросто устраивались учебные подъемы и отбои на время. Рисковать и играть с судьбою не стоило.
Хлебников, лежавший на крайней койке, почти у самой двери, протянул руку и щелкнул выключателем. Разлившаяся темнота отозвалась скрипом, шуршанием одеял – устраивалиь поудобнее, предвкушая целую ночь отдыха – ночь, такую долгожданную с самого утра, желанную после заполненного до отказа беготней и занятиями дня и наконец-то наступившую.
– Итак, инструкция для салабонов по принятию солдатской присяги! – торжественно объявил Черецкий. – Слушайте старика, да запоминайте хорошенько! Это ж не хухры-мухры, это же традиция!
– Да не болтай ты! Традиция! – проговорил Хлебников. – Вот из-за таких, как ты, болтунов всякие газетчики шустрые и позорят армию, понял. Сами-то они не служили, и детишки их! Наслушаются таких вот парашников…
– Не мешай, – коротко оборвал Черецкий. – Я для Сурка говорю. Да и Слепню не мешает прислушаться, тоже зеленка еще та.
Слепнев громко и показушно вздохнул.
– Солдат должен быть готов к любым испытаниям, ясно, салажня?! А ежели для него самая обычная солдатская присяга страшна, так на хрена в армию пошел?! Какой из него защитничек? Не-е, не каждый может с честью пройти через это, прямо скажу, почетное и нелегкое испытание! – Черецкого понесло. И остановить его было невозможно, это уже знали все. И потому думали: пускай травит, лишь бы рукам воли не давал.
– Короче, Сурок, запоминай. Вот, табурет, сечешь? Ставим его на попа, эт-то, значит, ножками кверху, ясно?!
– Заткнись ты! – не выдержал Сергей и сунул голову под подушку. Все равно все было прекрасно слышно.
Но Черецкий снизил тон, хотя уверенности не поутратил, будто давая понять, что он здесь хозяин и плевать хотел на всякую там мышиную возню из угла.
– Так вот на этот табурет ставим салагу. То есть молодого бойца.
– То есть тебя самого и ставим! – вставил Хлебников.
– Не надо, Слава, не надо, и помоложе найдутся. Значит, ставим салагу – скажем. Сурка! А делается эт-то так: чтоб всеми четырьмя конечностями он на торчащих вверх ножках табурета стоял. Усекли? Поза, я думаю, ясна! Первый элемент присяги – выработка уважения к солдатскому хлебушку. Чтоб от домашних галушек поотвыкли! Берем ложку, черенок – к полотенцу покрепче привязываем, а потом за другой конец этого полотенца – и с оттяжечкой, раз десять, с отмашечкой по заднице! Чтоб уважал!
– Э-хе-хе, ну и обалдуй же ты, Боря! – сказал Слепнев. Но Черецкий уже никого и ничего не слышал. И слышать ничего не хотел.
– А в эт-то время сводный оркестр салабонов зеленопузых, не прошедших присяги, вовсю марши наяривает – на губах, расческах, да кто на чем сумеет. И в руках у самого достойного – знамя всей объединенной полковой салажни, оно же швабра с полотнищем из мешковины – реет, реет над головами! И чтоб стоять на табурете насмерть! Не шелохнувшись! Иначе – все насмарку, все по новой!
Чья-то подушка на мгновение попала в голову Черецкому и заткнула ему рот. Но лишь на долю секунды! Он тут же послал подушку обратно, в темноту.
– Второй этап – все то же самое, но сапогом. Чтоб, значит, одежку казенную ценили да обувку не стаптывали почем зря! Ведь вам, салажне, в сапогах этих топать и топать еще, верст по тыще!
– Бред какой-то! – возмутился снова Слепнев.
И Сурков застонал вполголоса.
– Тихо! Старика не уважаете! – деланно обиделся Черецкий. – Я им, можно сказать, по-отечески все растолковываю, а вместо благодарности – одни упреки! Ну, дела! Ну, молодежь! Да разве ж мы такими были, а?!
– Да не скули ты! И не паясничай! – прервал его Хлебников. – Давай уж досказывай по-быстрому и закругляйся, хватит!
– Да, чуть не забыл! – спохватывается Черецкий. – После каждого раза надо с табуретки-то соскочить, обежать вокруг нее круга по три да к знамени приложиться! Ну вот, хорошо вспомнил… На третий раз – бляхой! Тоже десять раз! С отмашечкой! Видали бляху мою ременную?! Блестит не хуже лампочки нашей! Так вот, чтоб и у салажат на лицах блеск и удовольствие сияло, ясно? И опять пробежечка. Эт-то чтоб привычка к марш-броскам была! Ну, дальше я особо останавливаться не буду, там еще несколько вариантов есть – флягой, и саплопатой… Последнее, хе-хе, это Сереге нашему дорогому Реброву не помешало бы, чтоб копать научился…
Сергей привстал и ударил Черецкого подушкой по голове. Но тот успел подставить руку, смягчил удар.
– Чего ты волнуешься? Эт-то еще пока только инструкция, ты потом волнуйся, когда до практики дойдет!
– А это тебе волноваться надо, такому болтуну – точняк, достанется, нарвешься! – беззлобно сказал Сергей, снова укладываясь.
– Ничего, ничего! – продолжил Черецкий, вошедший в раж. – Ваше место на табурете, заняли? Продолжим! Сейчас начнется испытание по-серьезнее! Берем кого поздоровее, скажем, Васю Удалова из второго взвода, битюга, и привязываем для него к полотенцу каску. Ну, тут держись, Сурок, тут главное – не скувырнуться, а то пиши пропало, заново все! Итак, противогаз на голову, а сверху ведро! Позиция та же! И держаться, держаться! Вася отпускает для начала касочкой десяток горяченьких, чтоб шрапнель не брала. А потом… Внимание! – Черецкий от возбуждения перешел чуть не на крик, он в упоении, в грезах, в своем нелепом представлении по уши. – Внимание! Имитация ядерного взрыва! Запоминай, Сурок, на учениях и покруче придется! Короче, берем мы эт-то с Васей табурет, вздымаем… Да сверху, по ведру – хлобысь!
Слышно его тяжелое дыхание.
Но Сергей уже снова вскочил, застыл рядом с койкой Черецкого, навис над ним.
– Щас я тебя самого так хлобыстну табуреткой по чану, что и ядерный взрыв будет и имитация вместе, усек?!
Черецкий устал, выдохся.
– Лады, отставить! – проговорил он. – Мое дело проинструктировать, а внедрять в жизнь потом будем. Отбой!
Минуты на две воцарилась долгожданная тишина. Сергей начал успокаиваться. Но заснуть ему так и не дали. На этот раз Славик не дал. Говорил он, правда, шепотом, но как уснешь, когда каждый шорох напряженные нервы чуют?
– Да-а, – говорил Хлебников, – ты, Боренька, находка кое для кого, таких ценят у нас, особенно в прессе, когда хаять армию начинают, там таких-то и подавай. Не спорю, есть и дедовщина, и всякое случается, на гражданке, кстати, почаще даже раз этак в сто, а то и в двести. Но кое-кому выгодно, чтоб армию хаяли, чтоб недоверие сеяли между служивыми и штатскими. Это вот точно! А таких, как ты, болтунов они как тараны используют, как бревно, понимаешь, возьмут его, раскачают – да как долбанут в армейскую стену, разок, другой! К общественности возопят, похиляются на нелегкую службу чьих-то там сынков… А сами колотят и колотят, брешь пробивают. Я вот давненько думаю: а чего это такую кампанию развернули, а? Чем это им армия именно так не угодила? Ты, Боренька, тоже на досуге-то подумай.
– Подумаю, – отозвался Черецкий грубо.
– А традиции не трожь! Ты русских армейских традиций не знаешь, не слыхал, видать, о них. А лапшу на уши вешаешь. Вся Россия, весь Союз на армии нашей держится, все развалится, а если она устоит, сохранит свои традиции, так и Россия устоит и другим народам пропасть не даст. Так что, не трожь ты традиций российских и не пачкай их, а парашу свою присяжную для себя прибереги да для тех, кто на анекдоты падок, понял?!
– Славик точно говорит, – согласился так же, шепотом, Мишка Слепнев.
Черецкий помалкивал. Утомился, видно.
Сергея начинала одолевать дрема. Но как-то не до конца, оставляя краешек сознания свободным. Вместе с темнотой к нему обычно приходили одни и те же мысли, мешали уснуть – и даже когда им сопротивлялось все тело, измученное дневными нагрузками, требовавшее покоя и сна. Чем старательнее Сергей пытался избавиться от этих мыслей, тем навязчивей липла к нему клейкая смесь воспоминаний и представлений о расплывчатом, непроницаемом, как эта послеотбойная темнота, будущем.
Словно через стенку до него доносились притихшие голоса товарищей, больше по инерции, чем по необходимости, продолжавших переговариваться, травить байки на сон грядущий. Эти голоса переплетались в голове Сергея в путаном клубке с внутренними голосами, и все терялось в невообразимой мешанине слов, мыслей, предчувствий. Но, как ни странно, путаница эта приносила с собой облегчение, погружала мозг в дремотное оцепенение, за которым следовал глубокий, без запоминающихся сновидений беспробудный сон. Так было всегда, весь последний месяц бесконечный и очень нелегкий. Так было бы сейчас, если бы из общего легкого гомона не выделился один голос, подчинивший себе все остальные и потому звучавший теперь в одиночестве, мягко и убаюкивающе, так, что не сразу доходил смысл. Поневоле Сергей начал прислушиваться, пытаясь понять, о чем речь идет. Но дремота брала свое, и он мог уловить лишь малосвязные обрывки, немало удивившие его.
Говорил Славка Хлебников – неторопливо, без нажима, говорил будто с самим собрй про какую-то зубчатую стену, из-за которой выползало солнце, и про зарубки на каких-то непонятных и не воспринимающихся сего дня, всерьез копьях, про неспешные и ласковые воды Дуная, и осаду никому не известной крепости со странным названием… Сергею даже показалось на мгновенье, что кто-то из них двоих бредит: или Славка, или же он сам. О чем они обычно трепались? О футболе и экономике, с ее вечно меняющимися моделями, о службе, о былой гражданской житухе и, разумеется, о женщинах, о тех девчонках, что ждали их, да и о тех, что не ждали, – о многом трепались. Но такое Сергей слышал впервые. Славка говорил как-то просто, не выбирая нужных слов, лишь бы передать смысл рассказываемого. Но в голове у Сергея все складывалось в невероятную картину и звучало совсем иначе – образно и красиво, складно, будто в книгах, нет, еще лучше! И он не понимал – и в самом ли деле он слушает чей-то рассказ или же ему просто-напросто снится необыкновенный сон, в котором звучит совсем иной, сказочный голос и видится все, как наяву, лишь ускользает смысл, суть видимого и слышимого, но остается ощущение, вполне реальное, что все это имеет и к нему, Сергею Реброву, какое-то отношение – и потому: треп ли это, бред или просто сон не имело ровно никакого, ни малейшего значения…..солнце выползало из-за бревенчатых зубьев высоченной стены, той, что у Западных ворот, освещало лагерь ромеев на холме, прокатывалось по невидимой дуге небосвода и падало за такую же зубчатую стену, но уже с другой стороны. И когда оно посылало сквозь бревенчатые бойницы свои последние угасающие лучи, многие делали очередную зарубку на древке копья – прошел еще один день.
А всего их прошло в этой крепости восемьдесят и еще семь.
Восемьдесят семь дней и ночей стояли друг против друга два огромных войска, восемьдесят семь дней и ночей чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону, но ни одна из них не могла перевесить.
Месяц назад в крепость, зажатую в кольцо осады, пробралась голодная смерть. И с тех пор не проходило ни единой ночи, ни одного дня, чтобы она не уносила из жизни тех, кто прошел от полянской земли до дальних берегов Русского моря через Муром и Булгар, через Итиль и Белую Вежу, через Хазарское царство и Тмутараканское княжество, тех, кто пришел со Святославом сюда, на болгарскую землю, задавленную тяжелой пятой Византийской империи, тех, кто выжил в кровавых сечах. Были и те, что прошли этим путем, знакомым русичам еще задолго до князей киевских Аскольда и Дира. не первый раз, что доходили с Олегом и Игорем до самого Царьграда и оставляли на его воротах щиты свои. Их тоже уносила смерть, не разбирая – юнец ли ты безусый, ветеран ли, видевший полмира и ведущий счет годов своих многими десятками.




