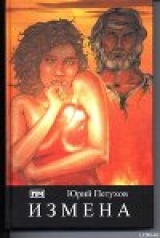
Текст книги "Измена, или Ты у меня одна"
Автор книги: Юрий Петухов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– А как же я? – выдавил Черецкий.
– А что ты? Во-первых, вас через два месяца – тю-тю! – Оля махнула рукой куда-то вдаль.
– А во-вторых?
– Во-вторых – будь мужчиной, не раскисай!
– Что ж, так и разъедемся? – горько усмехнулся Борька.
– Не ломай голову раньше времени, что-нибудь придумаем.
Черецкого такой ответ не устраивал. Он взял девушку за руки, привлек к себе так, чта сознание опять затуманилось от чистого пряного духа, исходившего от ее волос. Прижался губами к ее губам. Она ответила на поцелуй.
Тело ее стало податливым, уступчиво нежным.
– Все намного серьезнее, чем тебе кажется, по крайней мере с моей стороны! – прошептал он прерывисто, осыпая поцелуями шею, прижимая ее к себе все сильнее, теряя самообладание.
– Ого! – Оля рассмеялась ему прямо в лицо.
– Ну выслушай, погоди же!
– Извини, мне пора, – девушка осторожно, но настойчиво высвободилась. – Не стоит стариков на ненужные мысли наводить.
– Мы ж только вышли, – Борька тяжело дышал.
– Сорок минут ходим. Кстати, если б ты не был столь увлекающейся натурой – мы бы гуляли уже часа три.
– Ну виноват, Оль. Я же тоже не мог просто так оборвать твоего отца и сбежать.
– Рассказывай, видела я твои блестящие глаза!
– Было, чего там, – Борька сделал попытку вновь обнять любимую.
– Пусти! Не последний раз видимся, пусти!
Он виновато заулыбался, опустил голову.
– До встречи!
Ольга помахала рукой перед Борькиным носом, повернулась и уже на ходу бросила:
– Только ты не думай ничего лишнего. То, что я с тобой встречаюсь, обед этот и вообще все – еще не повод!
– Как это? – удивился Борька.
– Не обольщайся в мыслях, вот как!
Игриво-дружелюбный тон, которым было произнесено, совсем не вяжущийся со смыслом слов, окончательно сбил Борьку с толку. Немного постояв, проводив глазами светлую тоненькую фигурку до подъезда, он совершенно растерянный побрел в часть.
Ветер усиливался и шорох листвы становился резким, надоедливым. Где-то высоко в небе замаячила ущербная луна. По-прежнему выла одинокая собака. До вечерней поверки оставалось еще полтора часа, Новиков встретил Черецкого с усмешкой на губах.
– Как отгулял? С голодухи не помер?
Борька неопределенно махнул рукой. Намека не понял.
На все формальности ушло не больше полминуты. Увольнительная записка была сдана, и надо было как-то убить время до отбоя. Черецкий загадал, что если встретит Славку одного, то тут же выложит все. Если же тот окажется в компании – беседу придется отложить: горький опыт подсказывал, что с глазу на глаз такие эксперименты более безопасны, чем при свидетелях.
Чутье подсказало ему, где можно найти Хлебникова в такой час. Борька пошел в бытовку и оказался прав – Славка был там один. Он сидел на табурете и читал книгу. Отступать было поздно.
Все ушли в клуб, там показывали новую кинокартину.
Славка частенько променивал это удовольствие на другое чтение, времени было в обрез и из-за этого приходилось жертвовать фильмами.
Второго такого случая в ближайшие дни Борьке могло и не представиться. Он принялся заводить себя изнутри, стараясь сохранить бойцовский настрой.
– Чего ты пыжишься? – поднял голову Славка. – Хочешь сказать чего-то – говори.
Черецкий побагровел, но сдержался. Даже сделал первый встречный шаг к примирению:
– Если ты того разговора забыть не можешь, так напрасно…
– А я-то думал – это ты на меня зол остался.
– Было, – снова стерпел Борька, – было, да прошло. Тогда тебя все поддержали, а могло и иначе обернуться. Везучий ты во всем. Славка, сам об этом навряд ли догадываешься – какой везучий!
– Есть немного, – Хлебникову начинал надоедать этот бестолковый разговор.
– Думаешь, я на публику работал?
– А хрен тебя знает!
– Ладно, верно говоришь, чего там! Но не в этом дело.
В чем дело, Борька не договорил – все не мог никак приступиться. Но желание разложить Славку, сбить спесь с него не пропадало.
Какие-то невнятные опасения снова сбили Черецкого с прямого пути, понесли совсем в другую сторону – он начал с того, о чем не помышлял говорить кому бы то ни было.
– Тебе приятель твой, Ребров, – спросил он, подозрительно прищурив глаза, – не говорил, что это он в офицерском городке делал?
– А ты откуда знаешь?
– Неважно, отвечай прямо. Или вы с ним заодно?
– Сам там был?
– Может, был, а может, не был.
– Значит, был! – твердо сказал Славка.
– Ну допустим! – признался Черецкий. – Была причина, а его что занесло в офицерскую общагу?
Славка развел руками.
– Там, кстати, Каленцев наш живет. Не доходит?
– Пока нет.
– Может, он про нас про всех ему докладывать ходит: мол, то да се?! Стучит себе настукивает за дополнительную пайку, а? А мы, лопухи, довольные – ах, Сереженька…
– Придержи язык! – резко оборвал его Славка. – Может, ты сам стукарь?! А на Серегу поклеп наводишь, чтоб глаза отвести, а?!
Черецкий не ожидал такого и искренне изумился, не успел даже обидеться, а Славка продолжил:
– Не нравится? Чего же ты, проглотил свое помело поганое, парашник?! Давай мети!
Борька промолчал, сглотнул накопившуюся во рту слюну.
– Не нравится! Так и других не поливай, Боря. Думаешь, я не помню, как ты шороху давал трепачу, тому самому, что про тебя с Кузьминой сплетни разводил. Помню! Тогда ты весь прямо кипел от благородного гнева, а сам?!
– Да я только спросил, – возмутился Борька и махнул рукой. – А вообще-то бывает, тянет за язык сила какая-то: и не хочешь иной раз ляпнуть чего-нибудь, а все равно ляпнешь, черт бы ее побрал!
– Ага, вроде бы не вина твоя, а беда?!
– Получается так.
– Про силу никто не знает, а погань всякая из твоего хaвала вырывается! Ты это прочувствуй, Боря, тебе же легче станет.
– Ну ты не перебарщивай, – остановил его Борька, – а то и по морде схлопочешь, мне рог сшибить, как плюнуть, понял?!
– Ладно, – согласился Хлебников, нe фига мусолить – сами не без недостатков, – добавил он самокритично. – Ты из-за Сереги пришел?
– Да нет, – оживился Черецкий, – хотел с тобой потолковать.
Славка с тоской поглядел на отложенную книгу.
– Я тут поднабрался немного, по истории, – продолжил Черецкий, – есть, как говорится, предмет для обсуждения.
– Ну так выкладывай.
– Сейчас. Не гони. Ты вот травишь свою… – Черецкий хотел сказать «тюлю», но сдержался и решил вести спор, что называется – корректно. – А все уши распахнули – рады верить.
– И очень хорошо.
– Ага, хорошо для тебя.
– Это почему же? – удивился Славка.
– А потому, что ты пуп земли – вот, думают все, какой умный, все-то он знает. А ты и рад лепить что ни попадя! – не сдержался Борька. – А лепишь-то – горбатого, лапшу на уши вешаешь!
– Не понимаю.
– Погоди, погоди! Щас я все по полочкам разложу. Начнем… с середины. У тебя воев Святославовых сожгли, и все, так?
– Да, – Славка не понимал, куда клонит Черецкий.
– А вот и нет! – Борька торжествовал. – Язычники на Руси как погребали мертвых? Раз ты такой начитанный, должен знать.
– Сжигали, потом тризны, поминки с воинскими игрищами устраивали, – ответил Славка.
– Так-с, с этим ясно! – засиял Черецкий. – Игрища, пиры!
– Мне-то ясно, – осек его Славка, – а тебе вот, видно, не очень.
– Ясней некуда – перепутал все, а выкрутиться слабо! – Черецкий успел перекинуть костяшку на мысленных счетах в свою сторону – "один – ноль".
– Пускай. Ну, а как ты представляешь: после сражения воины – раненые, усталые – вынуждены были рыскать в поисках леса, рубить деревья, складывать огромные срубы ведь хоронить надо было сотни погибших товарищей, в полях их не бросали, да потом еще насыпать сверху курганы, так, что ли? На чужой территории, под носом у вражеской армии, бросив все военные планы, так? А потом пировать на виду у всех и игрищами себя тешить?
Борька нахмурился, сказать было нечего – «костяшка» вернулась на свое место. Немного помолчав, он проговорил:
– Согласен. Ну, а насчет судьбы? Что ты тогда говорил, припомни?! Мол, судьба властна над византийцами, а нашим все нипочем – мистика какая-то!
– Может, и мистика, для тех, у кого уши к заднице пришиты. Вот слушай, в хрониках есть записи о славянах.
И в них говорится, что для византийцев-ромеев судьба, фатум– по-гречески, было все: без воли рока ни туда ни сюда, все заранее предопределено! А славян они понять не могли, удивлялись – как это: существует народ, который ни в грош не ставит высшие силы и рассчитывает только на свои? Свобода воли, независимость в делах и решениях для русичей было чем-то естественным, как сама жизнь, и в этом их не мог разубедить никто. Свои победы и свои поражения они приписывали не воле рока, не провидению, как ромеи, а себе, своему умению, силе и даже справедливости. Вот о чем я говорил.
– А как же языческие, славянские боги? Выходит, и в них не верили?!
– С ними проще! Предки наши признавали влияние богов на природу – и дождь, и гром, и наводнения, и лесные пожары, все это было в руках богов, по их представлениям. Даже смерть человека, болезни, все так, но воля, способность поступать в сообразии со своими решениями, убеждениями – оставались свободными, независимыми ни от каких богов, полностью принадлежали людям. Вот и приходилось полагаться на себя.
– Интересно. – Борька не знал, как парировать Славкины доводы.
Он начал судорожно искать в памяти какой-нибудь неопровержимый аргумент и вдруг поймал себя на мысли, что не очень-то хочет распластывать Славку, гораздо интереснее было слушать его. Но против натуры не пойдешь. Борька не мог просто так сдаться.
– Все, последний пункт, но это уж точно на засыпку. Здесь не отвертишься.
– Попытаемся, – вставил Славка.
– Вот Святослав у тебя – он что: простой воин или князь все-таки? В первой шеренге, в обычном доспехе, плечо о плечо рубится рядом с каким-то никому не известным Радомыслом, демократ! Ни в одном солидном труде я об этом что-то не читал.
– А что ты вообще-то читал?
– Многое, – соврал Черецкий, – хотя бы энциклопедию, там уж точно – одни факты. Да и сами кое-что понимаем: князь все же, феодал, эксплуататор, угнетатель трудового люда!
– В энциклопедиях все очень сжато. Это первое. Феодал? Феодализм был в зародыше – так что насчет эксплуататора ты тоже в лужу сел. А вот с демократом в точку попал. Тот период так и называется "военная демократия". И сам князь-воин лишь первый среди дружинников. – Славка перевел дыхание. – Радомысла я выдумал, согласен. Им мог быть любой войн, десятник, здесь не вранье, художественный прием. Ты, вообще-то, "Повесть временных лет" читал, летопись?
Борька покачал головой:
– Даже не слышал.
– А в боях Святослав с трехлетнего возраста бывал. Еще когда с древлянами бились, перед началом сечи, он, чуть не младенец, сидя на коне, бросил маленькое копьецо в сторону полков древлянских. А воевода, дядька его, говорит: "Князь уже почал, почнем, дружина, за князем!" Правда, копье-то еле-еле через конскую голову перелетело, у копыт упало, но сам факт, а?
Несколько минут они просидели молча: Славка просто отдыхал после рассказов, Черецкий переваривал услышанное, припоминая вместе с тем строки из энциклопедии, к его счастью оказавшейся в доме у Кузьмина. Расхождений между услышанным и прочитанным он не находил. Не находил теперь, после этого разговора.
Барьера, разделявшего его со Славкой Хлебниковым в течение двух месяцев, почти не существовало.
– Вот, кстати, Боря, – Славка полез в карман брюк, нашел твою книжечку. Аккуратней надо быть.
– Где? – остолбенел Черецкий.
– Убирался утром, глядь, а она под кроватями валяется. Славка протянул записную книжечку Черецкому. Тот принял ее на ладонь, перевернул, не придерживая пальцами, и припечатал к колену.
– Мог бы и не подбирать.
– Что так?
– Да ничего, – устало проговорил Черецкий.
Он на глазах у Хлебникова разорвал книжечку на две половины, сложил их, но повторить не смог – обложка оказалась довольно-таки прочной. Тогда Борька выскочил из комнаты, быстро прошел по коридору и выбросил остатки своего «дневника» в четырехугольную зеленую урну, стоящую в туалете; Вернулся в комнату.
– Ну ты даешь! – встретил его Хлебников.
– Знаешь, Славик, твоим осажденным еще куда ни шло зарубки на копьях ставить, дни считать, а я и так обойдусь!
Черецкий встал, заходил по комнате, глубоко засунув руки в карманы, ссутулившись. Остановился у окна и, стоя к Славке спиной, будто пытаясь высмотреть что-то в вечерней тьме, заговорил.
– Знаешь, Слав, мы все чего-то ждем, ждем без конца. Все у нас должно случиться не сейчас, потом. Строим планы, предвкушаем, высчитываем, вон как я, например, а толку-то?! Считай не считай, а время идет и то, что было будущим, становится настоящим, а мечты, планы отдаляются, переносятся… И опять: сказка про белого бычка – все по новой: опять ждем, надеемся. Надоело!
– Ну и что ты предложить хочешь? – почти шепотом спросил Славка.
– Ничего не хочу! Может, это я для себя открыл то, что всем давно известно – так что ты уж прости, не смейся над дурачком!
– Да я не смеюсь.
Черецкий отвернулся от окна.
– Получается: или одни фантазии или суета сплошная, мельтешение. Надо середину искать!
– Кто бы спорил, Боря.
– Тут и спорить ни с кем не надо. Каждый сам, в одиночку, должен решать.
– Ты решил?
– Решить – полдела, даже меньше, надо понять!
Борька выдохся, но почувствовал облегчение и даже какую-то непонятную радость оттого, что сумел все-таки выговориться. Не нужны ему были ни Славкины ответы, ни советы. Да и убеждал он, по сути дела, не Славку, себя.
– Ребров.
– Я!
Сергей скосил глаз, шепотом спросил у Хлебникова: – Где Леха-то?
Тот пожал плечами.
– Слепнев.
– Я!
– Сурков.
Новиков вышел на шаг из шеренги.
– Сурков не возвращался из увольнения.
По строю прокатился приглушенный рокот. Кто бы мог подумать, что Леха Сурков, боящийся всего на свете, а пуще всего даже самых малых отклонений от распорядков, уставов и всего строго армейского образа жизни, тот Леха, который страдал от малейшей своей оплошности, может опоздать к вечерней поверке. Не только рота, взвод, но и сам Новиков, привыкший за время своего сержантства ко всему, были в растерянности. Подвел тот, от кого уж никак не ожидали неприятностей.
Прапорщик закончил перекличку. Прозвучала команда «Отбой». Небольшими группками расходились по комнатам. И ни пересуды, ни догадки, ни просто сомнения не могли отбить у них сейчас охоту ко сну.
5 Мишка Слепнев был не так прост, как это казалось со стороны. В нем видели малость дурашливого, открытого и недалекого парня. И он подыгрывал окружающим, будто поставил себе целью и прослыть таковым. Черецкий видел в нем «салагу», "зелень пузатую" и зачастую вслух об этом заявлял. Но он очень ошибался, и, если бы до конца почувствовал, с кем связывается, может, его бы потом холодным прошибло.
Да только Мишка смотрел на жизнь проще. Роль ненавязчивого рубахи-парня была для него несложной и удобной, так он мог спокойненько вклиниться в любую компанию и чувствовать себя в ней своим. А в случае чего также и выбыть из нее, «отчалить» по-тихому.
В силу своей осторожности, граничащей с подозрительностью, Мишка все присматривался, принюхивался, выжидал чего-то. Если бы его спросили: чего именно? – ответить не смог бы. Но и изменить тактику не хотел. Ребятам что? Они с ним неровня, что у них за спиной? А ничего – пустое место. А его жизнь колотила! Да так, что вместо воинской части мог бы сейчас Мишка куковать совсем в других местах, о каких им наверняка и задумываться не приходилось. Трое дружков прежних там и пребывали в зонах республики Коми.
Воспоминания о прошлом холодили Слепнева. Выбора перед ним не было: два пути – или в омут с головой, или же все по новой. А для того чтобы все "по новой", приходилось приглядываться, держать себя в узде да забывать помаленьку старые замашки.
Временами он впадал в прострацию, из которой редко кто мог вывести Мишку, часто было это время хлебниковских рассказов. Все слушали, слушал и он. Вернее, только казалось, что слушал. Оттого и смеялся не к месту, а там, где можно было бы, напротив, молчал, не слышал. Виделось ему свое.
… Вечер. Полутемный сквер. Над головой на фонарном столбе тусклая лампочка. Промозглый ветер, забирающийся под торчащий воротник плаща и леденящий шею.
Ветер раскачивал лампу, и окружающие лавочку деревья словно приседали в ее непостоянном свете.
На лавочке, верхом на спинке и ногами на сиденье, несколько парней. Среди них и Мишка Слепнев, попросту Слепень. За лавочкой четыре пустые бутылки из-под вина, дешевой и крепкой бормотухи. Это она горячила кровь, не давала ветру согнать с лавки. Звенела гитара. Пели лихо, с надрывом:
Расстаюсь я с тобой, как с любимой, Воля вольная, жизнь без забот, – Под конвоем меня на чужбину Поутру эшелон увезе-о-от!
И верилось, что так оно и будет, что вечер этот последний. Жалость к себе и злая отчаянность захлестывали сердце. По щекам катила одинокая слеза. И непонятно было: от песни ли она, от ветра ли?
Поющим – по восемнадцать-девятнадцать, всем, кроме Мишки, – он моложе: семнадцать лишь два с половиной месяца назад стукнуло. Но приводов в милицию у него было не меньше, чем у других. А как же, отставать не годится, уважать перестанут! Блатная грусть, блатное единство – весь мир против нас, а нам хоть бы хны! Катись все в преисподнюю, плевать хотели!
Не придешь ты на перрон вокзальный – Не для нас придумали вокзал, Так прости иеред дорогой дальней, Той, что прокурор &ше указал!
Двое из сидящих послезавтра должны были прийти на призывной пункт, с вещами. Повестки лежали в карманах. Хоть и о другой доле грезилось, другая романтика манила, а у этих на душе спокойней – все же армия, как бы друг перед другом не выкаблучивались, слаще лагеря.
Остальным тоже недолго оставалось сидеть вот так.
Кто куда разойдутся они: по кривой ли дороженьке в темноту, на свет ли? Никто не знал. Но уж весенний призыв, тот точно должен был очистить лавочку для следующего, если оно собьется в ватагу, поколения для очередной партии блатарей-романтиков, зашибал и бузотеров.
Объединяли не только гитара и выпитое вино, и не лихость напускная, хмельная. Скука да стремление хоть какнибудь убить свободное после работы время приводили сюда и Слепня, и остальных.
– Стопари машину, Сеня, рви струны!!! – оборвал песню Витек, лохматый, мосластый верзила, пользующийся непререкаемым авторитетом. – Душа иссохлась!
Сеня отложил гитару в сторону, откупорил еще бутылку, передал Мишке, взялся за шестую, и палец его, заскорузлый от струн, вдавил пробку внутрь горлышка. Бутылки переходили из рук в руки, взлетали донышками вверх, пустели – без тостов, без пожеланий, без закуски.
Редкие прохожие, хмуро и испуганно поглядывая в сторону лавочки, обходили ее стороной.
Песня зазвучала разухабистей, с подвыванием срывающихся в крике голосов, залихватски и свирепо:
Не пиши мне и не жди ответа.
Верь, я обязательно вернусь.
От зимы и мрака к лету, к свету Возвращусь, свободою упьюсь!
Где-то разошлись их пути с одноклассниками, где Мишка не помнил – может, после школы, а может, и значительно раньше. Да и неважно это: тех не было здесь на лавочке. Кто-то в институт поступил. Что им – десять лет школы, пять института – по инерции! При родителях сейчас, телевизоры смотрят, маменькины сынки! Мишка презирал их еще со старших классов, когда учуял всю прелесть свободы и несдерживаемой силы в кругу таких же, как он. Понял, что с ними вместе он могуч, бесстрашен, ловок. Тех, кто после школы разбрелся по заводам, фабрикам, тоже не шибко уважал – серые лошадки, рабочая косточка!
Сам пристроился в приемном пункте, на сборе макулатуры, подсобником – то грузил, то бегал за водкой или еще за чем. На подхвате. Прибылями с ним не делились: раз в неделю – червонец в зубы, и гуляй, малый. Но Мишка не обижался, он свое еще возьмет! А сейчас лишь бы убить время до армии, если только…
Это «только» поджидало его тут же, за углом.
Не жалею я о горькой доле:
Лагерями через жизнь иду.
Но за день один лишь вольной воли
Все другие дни отдам в году!
Витек достал еще бутылку бормотухи. Звонко шлепнул ладонью в кондовое донце.
– Перебор будет, Витюнь, – заскулил Сеня. Его уже пошатывало на спинке лавочки. – Рухнем прям на поле боя, а мне доползти бы до хазы!
– В самый раз, маэстро!
Снова бульканье. Бутылка присоединилась к своим предшественницам за лавочкой. Темное небо каменным куполом сжимало свет лампы над головами. Время к десяти. Идти домой? А что там – упреки родичей и надоевший телик? Нет уж!
Накрапывал мелкий дождик. Тоска. Даже проводы дружков не вносили в привычное оцепенение живой искорки. Завтра у них будут сроводы дома, официальные со всей родней. С навязшими в зубах наставлениями и похожими друг на друга, как солдаты в строю, пожеланиями.
Это будет завтра, и Мишка Слепнев там будет, а сейчас заевшую печаль будила гитара, да нестройный рев голосов, в которых сквозило все выпитое.
– И-эх! Все-е другие дни отдам в году. Опа!
– Стоп, ребятки, – шепнул, приложив указательный палец к губам Витек. – Явился дружочек по наши души, минтяра поганый!
Метрах в двадцати из мрака выросла фигура участкового.
– Пусть идут неуклюже пешеходы по лужам… – быстро перестроившись, загнусавил Сеня.
Участковый подошел ближе:
– Опять горлопаните?! Люди спать укладываются, а вам и дня мало. Доиграетесь! Давно на параше не сидели?!
Он явно не увидел пустых бутылок за лавочкой, а то бы разговор состоялся иной. Участковый Схимников был мужиком крутым, сам из блатных, лет двенадцать назад срок мотал по молодости.
– Не надоело балдеть все вечера? Как ни пройду мимо, ваша ко дла тут!
– Надоедает, ох как надоедает, начальник! Да, видать, такая уж судьбина наша! – схохмил Сенечка. – Долюшка нелегкая, тяжкая!
– Ну, ну! Через полчаса пойду назад – чтобы духу вашего здесь не было! – Схимников ухмыльнулся. Заметил все-таки, что сидящие торчат. Но уличать нечем. И побрел дальше.
– Друзей в армию провожаем! – вдогонку крикнул Слепень. – Уж и попеть нельзя!..Демократию зажимаешь, плюрализму не даешь!
Участковый на ходу обернулся, укоризненно погрозил пальцем.
Дождь не переставал. Те двое, с повестками, допив оставшуюся бутылку, ушли. У них свои заботы. Да и вообще – не те они, что прежде, вино их не брало, в глазах отчуждение, отрезанные ломти!
А ветер леденил, не давал покоя. Раскачивал лампочку, мигающую во тьме.
– Давно пора кокнуть заразу! – зло буркнул Витек и встал.
Пошел камень искать Но его внимание отвлеклось – по дорожке к лавочке топал невысокий паренек в надвинутой на глаза черной кепке. Заметно было, что он спешит, наверное, домой.
Витек подмигнул Сенечке, и тот с ходу затянул:
И я скромно так им намекаю, Что им некуда больше спешить!
Парень приближался, будто не замечая, что на него обратили внимание, что кодла затаилась, предчувствуя потеху.
– Постой, фрайер, – прохрипел Витек, – дай в зубы, чтоб дым пошел?!
Тот вынул кз кармана пачку, протянул молча. Но Витек взял ее из руки, достал оттуда одну сигарету, ткнул в нос пареньку, пачку сунул себе в карман.
– Угостись, не побрезгуй, ну чего же ты! – захихикал он.
Но не успел договорить, как полетел спиной на мокрый асфальт. Парень стоял и потирал ушибленный кулак.
В груди у Мишки все замерло. Ну теперь держись! Сенечка перегнулся за лавочку, резко взмахнул рукой и – в воздух, сверкая зеленым боком в тусклом свете лампы, взвилась порожняя бутылка. Миг – и она в руке у Витька. Сеня встал, бережно положил гитару на лавку. За ним еще двое, последним – Мишка.
Дальше все словно в дурном, кошмарном сне. Вскрики, хряск разбиваемого стекла, кровища, черные корчащиеся тени и… свет фар.
А потом – черный калейдоскоп: отделение, камера предварительного заключения, перевод в другую камеру, уже не в простом районном отделении, зловонный дух параши, допросы, издевки сокамерников, следствие – полтора бесконечных месяца и в конце – суд.
Мишка ничего не видел, не слышал, он сидел на скамье, будто рыба, вынутая из пруда, и не мог вдохнуть в себя воздух полной грудью, хотел, но не мог! То, о чем пели там в скверу, свершалось наяву. Хотелось вскочить, закричать: неправда! все это сон! Но за спиной – охрана. Впереди… а что впереди? Неужели это все, конец?
Витек, Сенька, еще один получили свое. Мишка чувствовал спиной на себе их злобные взгляды. А в голове вертелись слова приговора: "Условно, условно, условно…" Он был самым молодым, не было и восемнадцати. Он стоял рядом, когда происходившее на его глазах объединило их для будущей скамьи подсудимых. Он не бил. Это учли.
Но он, сам Мишка Слепнев, знал ведь совершенно точно, что грехов за ним, пускай нераскрытых, все равно, на пять сроков, что получили Сеня с Витькой, наберется.
Время шло. Прошлое не забывалось. Не могло забыться. В сердце поселился страх. Как спасения Мишка ждал призыва в армию – уйти ото всего как можно дальше, забыться, не вспоминать, жить жизнью, привычной для всех, слиться со всеми. И не намеком, ни словом, ни полусловом не дать понять людям нового окружения о своем прошедшем.
Лишь раз Мишка чуть не сорвался. Это случилось в разговоре со Славкой Хлебниковым. Они вкалывали вдвоем в наряде по кухне, в посудомойке. Работы было много, очень много. Некогда было оттереть со лба набегавший пот. Пока вертелись вокруг чанов с горяченной водой было не до слов, только поспевай! Но потом в белом густом пару, напоенном испарениями прогорклого жира и остатков каши, вытирая о фартук подрагивающие от напряжения руки, Мишка со злостью прохрипел:
– Заперли в клетку и измываются как хотят! Суки! Ни туда ни сюда – знай одно, или бегай, или паши до одури! Хуже, чем в зоне!
– А чего бы ты хотел? – не принял всерьез Мишкины слова Хлебников.
– Чего?! Свободы! Вот чего!
– Свобода, знаешь что?
– Поучи, – ехидно улыбнулся Слепнев, – поучи!
– Осознанная необходимость – вот что! – Хлебников расхохотался.
– Болтовня! Живем тут как прикованные: ни туда ни сюда. Хуже кандалов такая житуха! Да вот беда, бежать некуда!
Мишка замолчал. Он жалел, что завел этот разговор.
Но уж слишком сильно хотелось за забор, в большую жизнь. Для того чтобы это желание в себ е усмирить, не дать ему истерично вырваться наружу, надо было и в самом деле быть по большому счету – свободным человеком. Человеком, чувствующим себя личностью в любых условиях, пускай даже самых невыносимых… А здесь. А что здесь? Просто работа, непривычная, тяжелая, но не Соловки же, не Колымские лагеря и не Туруханский край, не архипелаг Гулаг! Все понимал Мишка. Но душа его рвалась на волю.
Сергей провел предыдущий вечер в беспокойстве и наутро проснулся с нехорошими предчувствиями. Скорее это были даже не предчувствия, а неосознанная гнетущая уверенность – внеочередное увольнение срывалось. Крохотный огонек надежды теплился где-то в глубине души: "А вдруг? При чем тут я? Сурков провинился – его и накажут, а мое дело – сторона!" Но рассудок не поддавался уговорам надежды, разумом Сергей понимал: чуда не будет.
Так оно и получилось. Во время утреннего построения на плацу, когда Каленцев, обходя строй, чуть приостановился напротив и взглянул ему в глаза, Сергей понял – это все! Последний жалкий огонек погас в душе. Безразличие захлестнуло сознание: "Пускай! Так даже лучше: не нужно будет утруждать себя заботами, хлопотами". Он еще раз равнодушно смерил глазами фигуру стоящего на плацу перед строем Суркова и поймал себя на том, что судьба товарища его мало волнует, а вернее – вообще не трогает. Более того, все происшедшее с Лехой показалось Реброву таким пустяком, что о нем и думать не стоило.
Сурков думал иначе, и это явно читалось во всей его растерянной позе. Об этом говорили опущенные вниз, к бетонным плитам, глаза, подрагивающие, то сжимающиеся, то разжимающиеся руки, и признак основной, всем в роте, да и, наверное, во всей части известный – побагровевшие набухшие уши.
Кузьмин, появившись на плацу, скомандовал: "Вольно!", приложил руку к козырьку. Солнце светило командиру части в спину, и оттого лицо его казалось более мрачным, чем было на самом деле.
Говорил он негромко, но из-за тишины, воцарившей вокруг, каждое слово Кузьмина было слышно даже в задних рядах. Слушали с любопытством, с тревогой – такого еще никогда не случалось на недолгом солдатском веку стоящих.
Сурков же с появлением командира части невольно, не желая того, напрягся, тело его одеревенело. И теперь от каждого слова, произнесенного Кузьминым громче или резче обычного, он вздрагивал и ничего не мог поделать с собой.
Заложив руки за спину, полковник прохаживался вдоль шеренг, не обращая внимания на провинившегося, и только в самом конце своей длинной и грозной речи он повернул голову к Суркову, минуты полторы пристально вглядывался в лицо солдата, потом спросил жестко, требовательно:
– Так, ну и что вы можете сказать в свое оправдание?!
Сергей отчетливо увидал, как затряслись у Лехи губы.
– Я жду, рядовой Сурков!
Тот приподнял подбородок, развел руками, ответил совсем не по-уставному, еле слышно:
– Ничего.
Полковник подошел ближе. Было заметно, как заиграли желваки на его скулах.
– Хорошее начало, не так ли?! – сказал он с ощутимым сарказмом. Но тут же повернулся к строю, громко отчеканил. – За нарушение дисциплины во время увольнения объявляю рядовому Суркову трое суток ареста.
Сурков молчал.
– Вы поняли меня?!
– Так точно! – опомнился Леха. – Есть трое суток ареста.
Кузьмин кивнул головой, в последний раз оглядел выстроившихся на плацу солдат, откашлялся.
– На будущее воскрсенье все увольнения для рядового состава части отменяются, – сказал он и, уже уходя, бросил офицерам: – Продолжайте занятия по распорядку.
Сергей смотрел в широкую спину Кузьмина и думал, что иначе и быть не могло. Все летело к черту: и увольнения, и разговор с Любой… и многое другое.
Тут же, на виду у всех, у Суркова отобрали ремень и пилотку, повели в сторону караульного помещения, туда, где находилась загадочная губа.
Сурков часто вспоминал русскую деревеньку, где провел всю свою жизнь, где дотянул до восемнадцати лет, почти не выезжая. Две короткие поездки с отцом в Москву сохранились в памяти как какие-то смутные сновидения. Спешка, суета, грохот, удушливый воздух раскаленных улиц и площадей – все это было не для него. И потому городская жизнь никогда не прельщала Леху, не манила.
Молодежи в деревне почти не было. И, наверное, поэтому сельский клуб, в который правление колхоза вбухало немалые средства, по вечерам пустовал. Даже когда привозили новую кинокартину, в просторном зале собиралось не более десяти человек, остальные пятнадцать коротали вечера у телевизоров. Опустела коренная Россия, прозванная недобрыми людьми Нечерноземьем.
Если кого сельский уклад отпугивал, заставлял искать более оживленных мест, то только не Леху. Неспешная, размеренная жизнь: работа летом от зари до зари и уютные зимние вечера в жарко протопленной избе, где кроме него жили отец с матерью и две младшие сестренки, – все это было по душе Суркову. Шумных компаний он не любил, если и доводилось попадать в таковые, долго не выдерживал, бежал оттуда. Сторонился подгулявших беспечных сверстников, которые в один голос с вызывающим откровением заявляли, что мол, в такой дыре задерживаться не подумают! И на самом деле они не задерживались – редко кто после армии возвращался в родной дом. Большинство оседало в городах или на крупных стройках, где всегда требовались крепкие молодые руки. Да и зорили села по-всякому, безжалостно и люто – то сселяли, то расселяли, сплошь и рядом объявляя "неперспективными".




