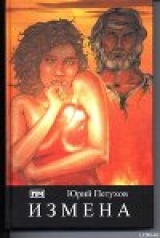
Текст книги "Измена, или Ты у меня одна"
Автор книги: Юрий Петухов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Надюшеньку ты нашу знаешь, так ведь? – просипел желтолицый, – правильно я говорю? Или ошибаюсь?
– Все верно, знаю! – отрезал Мишка. – Чего надо?
Косматый ощерился:
– Ну, ты опять грубить!
– Да, знаю, – повторил Мишка, – но вы-то здесь причем?
– Как это причем? – вновь влез щуплый. – Ты парнишечка городской – наших обычаев не знаешь, а мы тут все как родня, что ли, – в голосе его дрожа-то ехидство и ирония.
– Одна она, – буркнул Мишка, – сама себе хозяйка!
– Ты склеротик прям какой-то, – косматый перестал хихикать, – совсем с памятью плохо. Тебе что, еще разок напомнить – кто тут хозяева?!
Мишка промолчал. Он пожалел, что начал объясняться с ними: сама не сама, не их собачье дело! Пускай делают что хотят, хоть убивают, а стелиться перед ними не буду!
– Так вот, поговорили мы вдосталь, а теперь я один буду говорить. – Желтолицый глубоко затянулся и выпустил густую струю дыма прямо Мишке в лицо. – Надюху оставь, прошу тебя. Пока прошу! Дальше этого бревнышка ты все равно ни шагу не сделаешь – только назад, в часть свою, усек?!
Слепнев мотнул головой, чувствуя, как возвращаются к нему силы, а с ними вместе неуемная остервенелая злость что он, в драках не бывал?! "Тоже фрайерочка нашли, ребятки! Да костьми лягу – не отступлюсь! Бейте, суки!" Он стал выжидать момент.
Долго ждать не пришлось.
– Что ж ты дяде не отвечаешь, невежа? – Косматый, будто в истоме, полуобернувшись к Слепневу, раздул и вытянул грудь, задрав вверх полусогнутую руку. – Видать, придется тебя…
Договорить он не успел – Мишка резко выбросил локоть вправо, туда, где должно было быть солнечное сплетение верзилы. И почувствовал, что не промахнулся, – локоть глубоко погрузился в жирную грудину, под ребра, так, что даже сам Мишка почувствовал острую боль в суставе. Еще он успел ощутить в долю секунды, как обмякло огромное тело. И медленно поползло куда-то в сторону. Куда именно, рассматривать было некогда, – он резко вскочил на ноги, встал напротив желтолицего, который по-прежнему сидел с самым невозмутимым видом. Боковым зрением он заметил, как щуплый, с побледневшим от страха лицом, заходит ему за спину.
– Не суетись, сынок, – сказал желтолицый, обращаясь непонятно к кому – то ли к щуплому, то ли к Мишке. – Мимо меня не проскочишь.
В руке его совершенно неожиданно оказался нож. Причем держал он его как-то расслабленно, играючись, видно не предполагая в Мишке серьезного противника.
– С Бугаем ты посчитался, хвалю, – на губах, таких же желтых, как и само лицо, зазмеилась ухмылка. – Но сказанное мною остается в силе. Пойми это, дорогуша, и не перешибай плетью обуха.
Чувствуя, что щуплый почти дышит ему в ухо. Мишка наотмашь хлестанул ребром ладони назад. И промазал – удар пришелся не по горлу, ребро врезалось щуплому прямо в левое надбровие. Мишка успел это заметить, скосив глаз.
Щуплый истошно заверещал на всю округу, ухватившись руками за лицо, заливаемое кровью. Но он не интересовал Слепнева. Шестерка, холуй! Мишка стоял с выпученными от удивления глазами – желтолицего не было.
Когда он успел удрать, да еще так незаметно, – этого понять было невозможно. Но одно Мишка понял, что именно желтолицый был за главного. Ведь не шелохнулся же он, когда беззвучно свалился Бугай, который, кстати, так и лежал до сих пор. И только истошные вопли щуплого спугнули его, ведь на них могла сбежаться вся деревня.
И она сбежалась. Пускай не вся, пусть даже меньше половины, но вокруг Мишки и тех двоих собирался народ. И не просто стоял – угрожающий шепот нарастал, переходил в прямую брань, кольцо сжималось. Где-то вдалеке топали сапогами – бежал участковый.
Но что больше всего поразило Мишку, так это то, что в толпе, разъяренной и неуправляемой, стояла вся сжавшаяся в комок, с посеревшим до неузнаваемости лицом Надежда. Из всех глаз, смотревших теперь на Слепнева, пожалуй, только в ее глазах стояла какая-то исступленная жалость.
Но не только жалость, заметил Мишка, – он видел теперь лишь ее, одну – в этих глазах была любовь. Она одна понимала, что здесь произошло минуту назад.
– Ну так что же делать будем, Миша? – Кузьмин откинулся на спинку кресла.
– Что ж ты воды в рот набрал?
Слепнев как стоял, так и продолжал стоять, белея все больше. Он видел перед собой не начальника школы, не полковника Кузьмина, а лишь ее, Надюшины, глаза.
– Скажи спасибо, что мальчишечка этот в суд побоялся подавать – за самим, видать, делишки темные имеются. Да участковому в ножки поклонись – он эту гоп-компанию так охарактеризовал, что ты чуть ли не герой у нас получаешься. – Кузьмин расслабился, усмехнулся. Затем встал из-за стола, лицо его посуровело. – Ну, а от меня: за самовольный уход из части – пять суток! Выйдешь – получишь еще пять за драку. А потом… потом поглядим. Но из нарядов вылезать не будешь, попомни мое слово, – он снова сел за стол, нажал кнопку. Сказал вошедшему сержанту: Увести арестованного.
– Ну что ж, сдавайте пилотку, ремень, рядовой Слепнев, – сказал Мишке начальник караула, – камера в вашем распоряжении. И время будет, чтоб все обдумать.
Мишка не возражал. Он был готов просидеть на губе хоть до второго пришествия. Не нужны ему были ни лычки, ни звания, ну их' Все равно дольше двух лет не продержат – не такое уж он преступление совершил. А как выпустят, сразу к ней! И плевать на всех.
Перед глазами у Мишки стояла Надюша. И никого между ними не было. Ничто их не разделяло.
"Николай, дорогой мой, это ведь черт знает что! Я тебя жду уже третью неделю, глаз не смыкаю… А только сомкну – опять ты являешься. И такое вытворяешь, что все бывшее – цветочки. Но это сон. Когда же ты возникнешь передо мною наяву?! Или тебе что-то не понравилось? Но ведь последние два раза мы были одни. И нам ведь было хорошо, да? Ты ведь сам мне так говорил. Или все придумывал, а?!
Тут заходил три дня назад этот подонок кучерявый. Квасцов, ты его помнишь хорошо, мой милый! В дымину пьяный, чуть не на карачках. Приперся с какой-то драной рыжей кошкой, ее и женщиной-то назвать нельзя. Ее усадил на диван, меня загнал на подоконник. Сорвал все с себя, побросал в углы. И орет: " Я вам щас любовь втроем продемонстрирую! Опа!" И тянет за руки, смеется. А сам шарахается из стороны в сторону. Два раза упал. Свинья свиньей! Я его выпроваживать стала. Так он мордобой устроил и мне глаз подбил – до сих пор вся в пудре хожу. Я сперва кошку драную за волосы вытащила. А потом и его пинками! Еще сосед помог, старичок наш, да ты его видал! Не-ет! Больше Мишка ко мне ни ногой! Такой мальчик был славненький, так подъехал! И на тебе! Да это ж забулдыга и хмырь какой-то! И как с ним бабы ходят, срам! Ну да хватит о нем, не стоит он того.
Ты приходи немедленно! Жду! Никуда ты от меня теперь не денешься, мой милый! И про Любашу забудь, все равно тебе ее не видать. Мы с ней, кстати, разъезжаемся не жить нам под одной крышей! Так что не задерживайся, жду!
Твоя Валя, 10 августа 199… г." Николай сунул письмо в карман. Все, что сообщалось про Мишку-оболтуса, пропустил, ну его! Он и не сомневался, что Мишка временная залеточка, случайная. Мишка просто не мог быть с кем-то постоянно. А вот она… О ней надо было помозговать. Но потом. А сейчас надо идти и хлопотать об увольнительной.
Николай уже встал с табурета, и вдруг всплыло в его памяти изможденное лицо Тоньки Голодухи. А почему, он так и не понял, не вспомнил.
Черецкий ходил мрачнее тучи. На расспросы ничего не отвечал, даже отшутиться не мог. Лишь отворачивался, когда особо допекали.
Он надеялся, что сумеет развеяться, что дня через два, а может, и три все само собою пройдет. Но не проходило. Наоборот, с каждым днем ему становилось все хуже. К концу недели он извелся окончательно, превратился в оголенный комок нервов. Он совсем не спал ночами, лишь иногда, вне зависимости от времени суток, впадал в прострацию на несколько минут, отключался от мира сего.
Каленцев даже сделал ему замечание. Но потом, приглядевшись, сказал:
– Вы бы в санчасть, что ли, сходили! Что с вами, Черецкий, съели что-нибудь не то, а?
Борька не ответил. Вернее, он ответил, но про себя, послал ротного на три буквы. А к врачам идти отказался. Ничего!
В субботу вечером ему стало совсем невмоготу. Жизнь не мила стала. Днем он повздорил из-за пустяков с Новиковым. Тот мог бы наказать подчиненного, но, видя его состояние и ничего не понимая, спустил все на тормозах, простил.
После ужина Борька стоял у дерева за курилкой, смолил одну за другой. Думал об Ольге, о себе, о том, что впереди еще двадцать месяцев службы и что деваться некуда, хоть вой!
Мимо проходил Леха Сурков. Заметил Чсрецкого.
– Ты чего? – спросил он.
– Вали отсюда, салабон! – прошипел Черецкий.
Леха застыл в недоумении. Давно Борька не называл его так, казалось, прошла эта временная дурь, растворилась в череде бесконечных дней. АН нет, не прошла, видно. Леха поежился, ему стало вдруг зябко.
– Ты чего сказал? – переспросил он.
– Чего слыхал!
– Я ж по-человечески поинтересовался только, – возмутился Леха, – а ты чего?!
– А ну вали, дундук деревенский, чего встал, спрашиваю! Давай катись!
– Черецкий отбросил сигарету. – Не понял, что ли?!
– Уйду! Но сам уйду! – уперся вдруг Леха. – Раскомандовался тут, начальничек!
Черецкий был уже на взводе, его трясло. Переполнявшая его злоба, многодневные терзания – все это требовало выхода. И сдерживать себя в эти минуты он уже не мог.
– Считаю до трех, зелень пузатая! – процедил он сквозь зубы.
– А хоть до ста, мне-го что, – спокойно ответил Леха и упер руки в бока.
– Раз!
Леха улыбнулся, выставил вперед ногу. Но ему стало не по себе, и он пожалел об упрямстве. Надо было отступить, да теперь поздно.
– Два!
– Давай, давай, мне торопиться некуда.
– Три!
Черецкий выждал еще полсекунды и резко ткнул Леху кулаком в грудь. Тот откачнулся назад, но не потерял равновесия.
– Еще?! – спросил Черецкий.
– Попробуй!
От следующего удара Леха полетел на землю, поднялся он не фазу. Вставал медленно, придерживаясь рукой за горящую скулу.
– Вали, я тебе говорю, а то еще получишь! – громко сказал Черецкий.
Но в тот же миг сам полетел вниз. Лехин кулак не просто сбил его с ног, но и отбросил назад метра на три, в кусты.
Борька вскочил моментально, словно кошка. И сразу же прыгнул вперед. Но его кулак просвистел у самого уха Суркова. Тот успел увернуться. Они вместе упали, сцепившись в падении. Черецкому недолго пришлось удерживаться наверху. Леха перекинул его через себя. Оттолкнул. И быстро встал на ноги. Он собирался было отряхнуться. Но Черецкий вновь набросился на него. На этот раз удар пришелся Лехе прямо под левый глаз. От боли он остервенел, потерял над собой контроль – Борька полетел снова в кусты.
Но поднялся он не сразу, видно, удар был серьезным.
– Ну что, хватит? – спросил Леха. Он тяжело дышал.
Но злости в нем уже не было.
Черецкий не ответил.
– Ну, а теперь я пойду, Боря, – мягко проговорил Сурков. – Ты только не злись! Я же все вижу и все понимаю. Да наплюй ты на нее!
Он и не заметил, как Черецкий оказался рядом. Удар ослепил Леху, лишил слуха. Он рухнул лицом в землю.
– А ну повтори! – прокричал Черецкий, наклонившись над ним и держа кулак наготове. Из губы у него сочилась кровь, лицо было припухшим и грязным.
Леха молчал. Когда он попытался было приподняться на локтях, Черецкий отвел ногу, собираясь, видно, врезать Лехе в грудь сапогом. Но не успел. Сам полетел наземь.
Он даже не понял – почему! Лишь потом заметил Хлебникова, приподнимающего Леху. Догадался, что ударил он. Встал.
Сурков тоже встал. Он удерживал Славку за локоть.
– Не надо, пошли отсюдова, – проговорил Леха, даже не глядя на Черецкого.
– Ну его, псих настоящий.
Хлебников напоследок сказал, полуобернувшись:
– Боря, ты, если некуда силы девать, бейся вон лбом о дерево! Чего ты свое зло на других срываешь?!
– Ладно, валите оба! – просипел Борька.
К вечерней поверке они кое-как привели себя в порядок. И все же прапорщик подозрительно косился на их побитые лица. Но вопросов он не задавал, видно, деликатный был, а может, и просто опытный, не хотел подливать керосину в огонь.
А ночью Борьку совсем приперло. Он тихо стонал, уткнувшись в подушку, рвал наволочку зубами. Потом забылся не надолго, на несколько минут. Но в эти минуты во сне к нему опять явился отец – огромный и безликий.
Борька звал его, кричал. И опять не мог докричаться. Тогда он подпрыгнул, уцепился за рукав и дернул к себе. Отец склонил над ним лицо. Но это было совсем другое лицо, не отцовское неузнаваемое, а лицо Кузьмина. "Ну что, брат, – сказал Кузьмин неестественно весело, – хочешь я тебя в увольнение отпущу! На денек, а?!" И захохотал. Черецкий проснулся.
Рядом с его койкой стоял Леха Сурков.
– Ты чего так кричал? Я даже испугался!
– Да ладно! – вяло ответил Борька. – Все в норме.
Леха покачал головой, вздохнул.
– Слушай, – сказал он, – ты не сердись на нас, хорошо? Мало ли чего бывает.
– Уговорил, не буду! – Черецкий отвернулся к стенке.
Но Леха не отставал.
– Нет, правда, не злись. Зря я завел это дело, надо было пройти мимо, да и все. И Славик тоже… Но, сам понимаешь, всякое бывает, извини! – Он слегка коснулся Борькиного плеча.
– Да иди ты уже! Я про вас и думать забыл.
Леха лег, заснул.
Черецкий тоже заснул. А может, ему только казалось, что он спит, ведь не могли же сниться так долго темнота, мрак кромешный совсем без просветов – и во мраке этом сам он, одинокий и несчастный. Потом из мрака выплыла Олина фигурка, приблизилась. Черецкий даже отпрянул на миг, испугавшись неведомо чего. Но Оля сказала: "Не бойся, ты что это, совсем забыл про меня? Приходи сегодня на нашу лавочку, я буду ждать!" И растворилась.
Проснулся Борька в поту. В первый миг пробуждения он еще верил, что все вернулось на круги своя, что она и вправду назначила ему встречу, на заветной лавочке, что жизнь начинается снова… Но он тут же все вспомнил, стиснул зубы.
Борька полежал еще с полчаса. Потом встал, пошел в уборную.
Дневальный сообразил, что дело неладно минут через двадцать. Но было поздно.
Вместе с дежурным по казарме они вытащили тело из петли, положили его на кафельный пол. Через двенадцать минут приехали санитары на «уазике» с красным крестом в белом круге, вынесли тело на носилках, загрузили его в свою машину. Умер Черецкий в санчасти. За полтора часа до подъема, когда вся рота еще спала.
"Лешенька, дружочек, привет!
Ты мне сегодня опять приснился. И опять в самом развратном и похотливом виде. Ну что же ты за человек такой! Как тебе не стыдно! Ладно, шучу. Я все время шучу, а самой плакать хочется. Поглядела назад – а там пусто, вперед – темно. И страшно стало. А ведь я тебя старше на четыре года, так-то, дурачок ты мой. Старуха я! И мысли меня одолевают старческие. Хочется на покой, на травку, к коровкам, на лужайку. Так что ежели ты тогда не шутил, то напиши мне, ладно? Только напиши точно – возьмешь меня, старуху, в свое село гиблое или нет! Если возьмешь, я все бросаю и еду за тобой, я твою часть разыщу. И устроюсь или в ней или рядышком, чтоб на глазах на твоих. И лучше меня ты, Лешенька, никого на свете не найдешь, понял?! Я не хочу, чтобы ты мне снился, я хочу, чтоб ты живой был рядом. Только учти, я не навязываюсь – не хочешь, не надо. Тогда просто не присылай ответа, и все.
Твоя Тяпочка (без даты)".
Радомысл осторожно, словно боясь спугнуть кого-то, приоткрыл один глаз. И тут же в затылок вонзилась тупая игла. Он тихонько застонал. Приподнял голову.
Половина лож была опрокинута. Тела лежали вповалку. Было душно и смрадно, но светло – свет пробивался в большие круглые дыры шатра сверху, как и надлежало. А значит, на дворе рассвело, значит, утро! Он опоздал!
Радомысл протянул руку к кубку, стоявшему на ковре у изголовья. Рука дрогнула. Но он все же поднял посудину, вылил в глотку вино. Почти сразу по телу побежал огонек, тело ожило. И Радомысл приоткрыл второй глаз.
Чернокожая великанша лежала позади, мирно посапывала. Рот ее был полуоткрыт, виднелись жемчужно-белые зубы и кончик языка. Радомысл машинально протянул руку, положил ладонь ей на грудь, качнул упругую плоть. Чернокожая заулыбалась во сне, потянулась Но Радомысл ничего не почувствовал, он был еще полумертв. Голова раскалывалась, сердце билось тяжело, с натугой. Во рту и горле, несмотря на выпитое вино, опять пересохло. Стало трудно дышать.
В полуметре от него в обнимку с черноволосой красавицей, которую Радомысл вчера прогнал, лежал Бажан. Он громко, с присвистом храпел. Смотреть на него было тошно. Радомысл потеребил между пальцев твердый сосок, огладил грудь, потом другую. Рука его соскользнула, прошлась по всему телу спящей, застыла на большом и мягком бедре, вжалась в него… но ничего в его теле не откликнулось.
Он протянул руку к кувшину, налил себе еще, выпил.
Глаза прояснились, словно с них пелена какая-то спала. Эх, опоздал, опоздал он! Войско наверняка ушло, оно всегда выходило засветло. Ну да ничего – догонит! Он обязательно нагонит их!
Приподняв голову повыше, Радомысл увидел спящего на помосте Цимисхия. Тот лежал обрюзгшим красным лицом в собственной блевотине, пускал пузыри. Был он совершенно гол и противен. Над Цимисхием стоял раб и смахивал его опахалом, не делал даже попытки поднять, почистить своего хозяина. Раб казался неживым. И движения-то его были какими-то заученно-однообразными, неживыми.
В ногах у Цимисхия сидела девушка, беленькая, худенькая, та самая. Она длинным павлиньим перышком щекотала базилевсу икры. Но тот спал беспробудным сном, ничего не замечая, ни на что не обращая внимания.
У входа в шатер каменными изваяниями стояли «бессмертные». Было их не меньше трех десятков. И они оберегали сон базилевса, всех приглашенных, которые не смогли выбраться после пиршества на собственных ногах из шатра. Да и не полагалось, в общем-то, выбираться. Ведь базилевс был прост – не пьешь, не веселишься с открытой душой и беспечным сердцем, значит, скрываешь что-то темнишь, вынашиваешь заговор, значит измена! И пили, гуляли так, что до смерти упивались, лишь доказать свою верность, свою чистоту в помыслах. Сам император не отставал.
Беленькой девушке надоело щекотать спящего. Она встала, побрела между тел, переступая, обходя развалившихся поперек ее пути. Она так и не накинула на себя ничего, она уже не стеснялась своей наготы.
А Радомысл смотрел, и ему казалось, что это сам христианский ангел спустился с небес и бродит меж них, грязных, бесчестных, подлых, гнусных и отвратных животных.
И созерцает этот ангел род человеческий, копошащийся во тьме, сопящий, храпящий, хлюпающий и стонущий, с тоской и жалостью. Но ни чем не может ему помочь, только лишь слезы льет над ним да грустит. И Радомыслу стало страшно за этого ангела – вдруг одно из спящих животных проснется, протянет лапу, сомнет его, испакостит, не даст подняться на незримых крылах в небо!
И настолько Радомысла резанула эта мысль по сердцу, что он дернулся, намереваясь вскочить, защитить слабенькое беленькое существо. Но что-то удержало его. Радомысл даже не понял, что именно. Он повернул голову. Чернокожая улыбалась ему в лицо. И были глаза ее, белые, огромные, чисты, словно и не спала. Она удерживала его рукой, обхватив тело, удерживала ногами, обвив ими его бедра и ноги. И он не мог шелохнуться. Он дернулся еще раз, потом еще – со всей силы, во всю мощь. Но она была сильнее, избавиться от нее было невозможно.
Радомыслу стало страшно. Так страшно, как ни в одной из битв. Он вдруг почувствовал, что удерживает его чернокожая совсем по иной причине, не так как вчера, как ночью. И пот побежал по его спине.
– Эй! – выкрикнула вдруг чернокожая громко. – Подойди сюда! Живей!
Радомысл услыхал шум шагов, лязг доспехов. И перед ложем выросла фигура коренастого и высокого «бессмертного». Воин супился, переводил глаза с Радомысла на чернокожую, потом обратно. И ничего не понимал. Зато Радомысл все понял. Нет, ему уже никогда не догнать своего войска! Он снова рванулся. Но она удержала его, как ребенка удержала, вжимая в себя, наваливаясь сзади исполинскими, непомерными грудями, вдавливая его в свой живот, обхватывая ногами.
Голос ее прозвучал глухо и неожиданно ласково:
– Видал?
Воин кивнул. Не ответил.
– Плохо работаете, – проговорила чернокожая, – вон, устроился, отдыхает… А его, между прочим, никто сюда и не приглашал. Понял?!
– Понял, – ответил воин. И стал вытягивать меч из ножен.
– А ты не бойся, – шепнула чернокожая в ухо Радомыслу, – раньше надо было бояться, когда шел сюда, а сейчас поздно, сейчас мы о тебе позаботимся. – А потом она обратилась к воину: – Надеюсь, ты понимаешь, что этот лазутчик не должен сам выйти из шатра.
– Сделаем! – заверил "бессмертный".
Радомысл ощутил на своем лице ее огромную мягкую ладонь, все пропало, исчезло – она закрыла ему глаза, оттянула голову назад. И в тот же миг сталь меча вонзилась в его горло.
"Командиру части
полковнику Кузьмину В.А.
от командира учебной роты
старшего лейтенанта Каленцева Ю.А.
РАПОРТ
Прошу Вашего разрешения обратиться к командованию округа с просьбой о переводе меня в другую часть. Прошу не отказать.
29 августа 199… г. Подпись".
– Ну чего ты выдуриваешься? Толком можешь объяснить?
– Да тут, по-моему, и так все ясно, Владимир Андреевич.
– Это тебе ясно, а мне-не очень! Из-за Ольги, что ли? Чтобы, не дай бог, не подумали, мол, в зятьях у начальника ходишь, так?!
– И это тоже.
– Ну, ну! Так и будешь прыгать всю жизнь?
– Да уж и не слишком-то я распрыгался, Владимир Андреевич, разве в этом дело! Ну сами подумайте, как мне теперь на этом месте жить?
– Ага! Вот в чем оно дело-то! Так бы и сказал, Юра! Боишься, призраки по ночам захаживать станут? Что это ВДРУГ, совесть замучила?!
– И совесть тоже. Парень-то ни за что сгинул, чего уж теперь…
– Ты не вали на себя давай! Понял?! А то и на меня вроде бы пятнышко ложится, так?! Не-е, шалишь, Юра! Мы тут ни при чем! Пускай они там, в военкоматах, проверяют получше! А то шлют всяких – у одного нервишки на пределе, другой вообще получокнутый! Ведь так! Ведь сам знаешь все! Они уже из дурдомов стали присылать да из школ для недоумков, тебе же известно! А у нас не богодельня, не ясельки, а армия! Понял?! Не-е, ты не перекладывай с больной головы на здоровую…
– Я все это знаю, Владимир Андреевич. Да только ведь случившегося не исправишь – кого ни вини!
– Понятненько! Слушай, а ты случаем в петлю не полезешь, а? Еще с тобой потом разбираться? Слюнтяй ты, вот кто, баба, гимназистка сопливая, понял!.. Кстати, тело родным отправили?
– Да, три дня назад. У него мать только, больше никого.
– Хреново, конечно! Тяжко ей придется. Но жизнь-го идет, Юра, знаешь, сколько всего за день на белом свете происходит?! Одних детей сорок тыщ гибнет за день, вот так! А ты нюни разводишь, обабился!
– При чем тут статистика?.. Да, забыл сказать, и Ольга меня поддерживает, говорит, лучше немного самостоятельно пожить.
– Знаю!
– Тогда подписывайте, Владимир Андреевич, чего нам попусту друг другу нервы тянуть? Все равно ведь уйду, не так, так эдак! И для дела лучше – будем просто родственниками, меньше языки трепать будут склочники да сплетники, им ведь только повод дай…
Резолюция на рапорте старшего лейтенанта Каленцева
Ю.А.: "Просьбу о переводе поддерживаю, буду ходатайствовать об ее удовлетворении перед командованием округа. Полковник Кузьмин В.А.,
29 августа 199… г. Подпись".
Сурков пришел к Мехмету, когда стемнело. Он чуть не полетел вниз головой со скользких и засыпанных угольной крошкой ступеней. Но удержался. Вцепился левой рукой в косяк. Спросил без вступлений, грубо и зло:
– Где Голодуха?
Мехмет плюнул Лехе под ноги и отвернулся. Он лежал на своей койке в обычной позе, задрав ноги на спинку и подложив руки под голову. Трехлитровая банка из-под браги была пуста. А значит, и настроение у Мехмета было паршивым.
– Отвечай!
Мехмет, глядя в потолок, сказал равнодушно, без выражения:
– Пашел отсюда, ишак! Не утомлай старика!
Леха подошел ближе, ухватил лежащего за грудки и сбросил с кровати в кучу хлама.
Мехмет тут же вскочил на ноги. Но Лежа не дал ему опомниться. Он сшиб его таким мощным и классическим ударом в челюсть, что Мехмет минуты три ползал вдоль стены и, судя по всему, не мог понять, где он находится. Он вообще был слабеньким, хилым. Леха знал, да и другие ребята знали, что Мехмету раз в неделю присылают из дому конверт, в котором лежит вовсе не письмо, а лишь листок бумаги. Но в листке этом зеленовато-серая пыльца анаша. Мехмет любил забить косячок, высмолить масгырку. Но никогда ни с кем не делился, хотя в части и была пара-другая дуремаров, привыкших к дури-анаше еще на гражданке. У дуремаров дурь была чуть не на вес золота. Но жизнь показала, что и без нее они могли обходиться.
Наконец Мехмет встал. Вытаращил на Леху непроницаемые черные глаза. Брезгливо скривил губы. И Леха понял, что истопник пока не созрел. Он двинул ему в брюхо, потом в нос – чуть не обломал костяжки пальцев, нос у Мехмета был крепким.
– Где Голодуха? – повторил вопрос Леха.
Мехмет лежал мешком. И его пришлось отволочь к кровати, взвалить на нее. В тумбочке Леха нашел флакон одеколона «Фиалка», отвернул крышечку. И половину выплеснул Мехмету на рожу. Тот пришел в себя, застонал, захрипел. Но похоже, он не собирался говорить.
Последний раз Леха видал Тоньку возле санчасти. Она выглядывала из кустов. И тут же пряталась. Лицо у нее было грязным, почти черным. И оттого еще контрастнее пылали горящие глаза на нем. Тонька выглядела законченным скелетом, узником лагеря, не хватало лишь полосатой каторжной робы или, на худой конец, телогреечки с номером.
Леха понял сразу, что она пришла к Борьке, что она думает, будто он лежит там, в санчасти. А его ведь давнымдавно увезли! Он бросился тогда за Тонькой. Но лишь напугал ее. Опять удрала, оставляя клоки от своих лохмотьев на ветках.
Он знал и другое, последние два месяца, по рассказам ребят, Тонька ни разу не была в «блиндаже». От нее отвыкли и начали забывать. Правда, крутилась возле части совсем молоденькая девчоночка, которая по своим замашкам вполне могла стать достойной заменой Голодухе. Но она была еще неопытна да и трусовата – больше двух клиентов за раз она опасалась принимать, причем и тем приходилось вылезать наружу, за заборчик. Девчоночка всегда чего-нибудь требовала взамен: есть деньги – хорошо, нету – давай чего-то другое, хотя бы самую мелочь, портянки новые, рубаху нижнюю, пригоршню патронов от АКМа. За пару сапог ею можно было пользоваться неделю. Короче, двигали этой девчоночкой совсем иные помыслы, не похожа она была на Голодуху, совсем не похожа. А потому и кличку ей дали простую и соответствующую – Дыра. Кто-то якобы видал Тоньку разок вместе с Дырой, может, врал, может, нет.
Леха подождал, пока Мехмет прочухается. И ухватил его за горло правой рукой, начал сдавливать. Мехмет был толковым малым, он понял, что можно запросто попасть в райские сады к гуриям. Но ему хотелось еще немножко пососать бражки из баночки тут, в подвальчике. И он бешено завращал глазищами, давая понять, что расколется.
– Не скажешь, тут и схороню! – заверил его Леха.
Мехмет долго приходил в себя, набирал воздуха в грудь, дрожал. А потом пробурчал злобно:
– Сапсэм ишак! Дурья башка! Вон там сматры, мэшок двыгай!
Леха сдвинул мешочную занавесь и увидал в стене дверь. Дернул на себя ручку.
За дверью оказалась клетушка, два на три метра, с нарами и столиком. В клетушке было темно. Но Леха увидал сидящую на нарах Дыру. Та, поджав под себя ножки, привалившись спиной к бетонной голой стене, штопала лифчик. И вид при этом у Дыры был невероятно серьезный, задумчивый.
– Чего надо? – спросила сна, не испугавшись Лехи.
Тот не сразу нашелся.
– Меньше рубля не беру! – твердо сказала Дыра и насупилась. Потом тут же, словно спохватившись, добавила: И для этого болвана чего-н ибудь!
– Какого? – не понял Леха.
Дыра рассмеялась и выпростала из-под себя ножки.
Они оказались худенькими, как у подростка, и голенастыми. Лицо у Дыры отражало все, что происходило в глубинах ее совсем простенькой и немудреной души.
– А ты думал, меня этот деятель за бесплатно в аренду сдает, так. что ль? – И рассмеялась еще заливистее. – Он где там, дрыхнет, что ль?
– Считай, что его нету! – успокоил Леха.
Дыра с сомнением покачала головой. И светленькие подвитые кудельки ее затряслись.
– Он всегда там! – сказала она. – А кто ж еще тебя мог впустить, а?
– Где Тонька? – спросил Леха.
– Да на хрен тебе дурища эта, чокнутая! – удивилась Дыра. – Погляди-ка на меня, лучше не найдешь! – Она задрала юбочку повыше, вытащила груди из-за пол рубашечки, явно мужской, подаренной кем-то. Вообще-то она была достаточно соблазнительной девочкой.
Только Лехе сейчас не до нее было.
Он уже разинул рот, чтобы повторить вопрос. Но увидал, что лицо у Дыры стало вдруг вытянутым.
– 0-ой!!! – закричала Дыра. – Тычего-о?!
Леха обернулся вовремя. Он резко прижался к косяку, убрал ногу, втянул живот. Лопата просвистела в трех миллиметрах от его лица и вонзилась в деревянный пол. Мехмет подкрался бесшумно, тайком. Но он просчитался.
Леха не стал ждать, пока истопник во второй раз поднимет лопату. Он так врезал ему ногой в пах, что тот заорал, скрючился и кубарем покатился назад, на середину кочегарки. И затих. Видно, от боли сознание потерял.
Леха попробовал рукой мысок сапога, не попортил ли казенную обувку. Да нет, все было нормально, немного почистить – и хоть на плац выходи!
– Видал?! – спросила у него Дыра. – Вон он какой!
Этот гад меня посадил сюда и продает каждому! Вот ведь сволочь! Почти все себе забирает! А я скоро опухну тут без света, без жратвы! Кормит объедками какими-то, ругается, бьет, по четыре раза на день топчет! Да так, что потом все потроха болят!
– Ну-у, теперь он немного поутихнет по женской части, – успокоил Леха. – Где Голодуха?
– Чего ты ко мне привязался?! Залезай лучше, поговорим, побесе-еду-ем, – кокетливо предложила Дыра и повела плечиками. – Такому красавчику и толстячку я и за так удружу! – Она выглянула из-за Лехиного плеча, убедилась, что Мехмет в отключке и добавила: – Да за одно за это, что поучил хмыря поганого, я тебя все три удовольствия гарантирую.
Лехе не нужны были "три удовольствия", ему надо было разузнать про Тоньку, и все! Он схватил Дыру за руку, сдернул с нар. Но та оказалась хитрой, и вместо того, чтобы слететь на пол, встать, она оттолкнулась легонько ногами, усилила Лехин рывок и прямиком упала ему на шею, вцепилась" повисла.
– Я тебе покажу, потом!
– Что?
– Где твоя дурочка обретается, вот что! – разъяснила Дыра.




