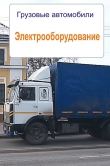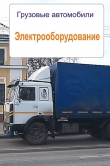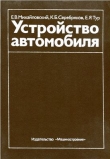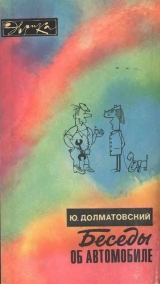
Текст книги "Беседы об автомобиле"
Автор книги: Юрий Долматовский
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Но таких машин продашь немного. Как расширить круг покупателей? В этом фабрикантам помогли… плохие дороги. Конструкторы легких автомобилей в то время еще не умели делать машину прочной. На плохих дорогах машина с примитивной подвеской колес подвергалась жестокой тряске, а мощность одно– или двухцилиндрового двигателя была недостаточной для быстрого движения по неровной дороге. Производство автомобилей было еще кустарным и не давало возможности сделать маленький, легкий автомобиль действительно надежным и дешевым.
Преимущества тяжелых и мощных автомобилей на плохих дорогах того времени отчетливо выявились в эпоху так называемых «больших пробегов», из которых самые знаменитые – Пекин-Москва-Париж и Нью– Йорк-Владивосток-Москва-Париж (1907-1908 гг.). В обоих пробегах победу одержали солидные «дорожные» машины («итала» и «томас-флайер»), а принявшие вместе с ними старт легкие вуатюретки выбыли из соревнования еще на начальных этапах. По тем же причинам большие машины побеждали и в скоростных соревнованиях, проводившихся тогда на обычных шоссе и сельских дорогах.
Создавалось впечатление, что хороший, добротный автомобиль должен быть непременно большим.
В 20-х годах, когда уже получили заметное распространение сравнительно скромные автомобили, «погоду» все еше делали так называемые представительские. Рабочий объем их двигателей достигал 12 литров, а длина превышала пять метров («большой рено»). Для сравнения стоит отметить, что рабочий объем современных самых больших двигателей на легковых машинах не превышает восьми литров, а у наиболее распространенных – одного литра. Причем мощность последних лишь вдвое меньше, чем у двенадцатилитрового «рено», то есть нынешние двигатели стали в шесть раз производительнее.
А «большой рено» через каких-нибудь пять лет после начала выпуска «вырос» еще на полметра. Масса многих автомобилей-гигантов перевалила за три тонны. Причина утяжеления заключалась не только в размерах машины и в изобилии ее специального оборудования. В те тревожные годы выполнение представительских функций великими мира сего было связано с опасностью, и кузова автомобилей обшивали изнутри броневыми плитами, устанавливали в окнах толстые пулестойкие стекла.
В 30-х годах был оставлен позади шестиметровый предел длины представительских автомобилей. Кое-где, особенно в США, за ними потянулись «средние» машины, за средними – «малые». По мере повышения покупательной способности населения, с одной стороны, и усовершенствования технологии массового производства – с другой, фирмы увеличивали мощность двигателей, размеры, массу (и цены!) автомобилей, потакая престижным настроениям определенных кругов покупателей. На смену «выросшей» модели, как правило, появлялась еще одна «малая», предназначенная для вербовки нового контингента автомобилистов, но и она вскоре начинала «расти»…
С той поры надолго установилась «тяга к большим машинам», от которой еще и сейчас люди не избавились.
Дух престижного соревнования не чужд и советским автомобилистам. Не секрет, что владелец маленького ".Запорожца» стремится заменить его «Москвичом» или '‹Жигулями», а затем и «Волгой». А конструкторы, идя навстречу этому желанию (которому они и сами подвержены!) и отчасти учитывая экспортные соображения, разрабатывают все более крупные и мощные автомобили. «Растут» «Запорожцы», «Москвичи», «Жигули»… Мощность двигателя современного «Запорожца» вдвое, а у «Москвича» втрое больше, чем у первых моделей, масса (вес) возросла на 15-20 процентов.
Но вернемся к классу «больших» автомобилей. Не всякая страна способна их выпускать. Для этого необходима развитая промышленность, производящая и мощнейшие двигатели, и особо выносливые шины, и автоматические коробки передач, и установки для кондиционирования воздуха, и сложные электронные приборы, и многое-многое другое. Единственный французский автомобиль, близкий к рассматриваемому классу («Ситроен-СМ»), снабжен двигателем итальянского производства, хотя в самой Италии «настоящего большого автомобиля» нет в списках выпускаемых. «Настоящие» производятся лишь в США, Англии. ФРГ и СССР.
Не все показатели «больших» автомобилей так же противоречат прогрессу техники, как их размеры. Конструкторы стараются вложить в них все лучшее, что есть на данный период в автомобильном деле. Здесь можно применить любые дорогостоящие механизмы и устройства, еще недоступные по стоимости для машин массового производства.
– Но ведь сейчас подавляющее большинство автомобилей сравнительно маленькие. Не свидетельствует ли это, что тяга к большим машинам кончилась?
– Нет, она существует и в наши дни. Но примерно в начале XX века автомобилей стали выпускать гораздо больше, чем нужно было для богачей – покупателей дорогих автомобилей. Часть заводов вынуждена была искать новых покупателей и работать под девизом «Понемногу прибыли со многих машин!». Эти-то заводы и возродили идею автомобиля-минимума, которая, впрочем, никогда не оставляла конструкторов.
Ранние конструкторы маленького автомобиля снаб жали его обычно двухместным кузовом. В борьбе за облегчение и упрощение машины были найдены хитроумные конструктивные решения, ставшие впоследствии общепринятыми для автомобилей всех категорий. Так, «рено» 1898 года был первым автомобилем с карданным приводом вместо цепного, с вполне работоспособным дифференциалом и рулевым штурвалом вместо поводка– рычага (чтобы представить себе этот «рено», нужно вспомнить, что его высота, когда он не нагружен и рессоры свободны, почти равна длине – около двух метров). На вуатюретке «де-дион-бутон» была установлена оригинальная задняя подвеска колес с качающимися полуосями, карданными шарнирами на них и трубчатой соединительной балкой. Дедионовский задний мост применяют по сей день на многих автомобилях, которые оказались довольно устойчивыми и обладают плавностью хода. Забавная деталь: кузов «де-диона» – трехместный, причем пассажир переднего сиденья сидит лицом назад; если же он «хочет смотреть опасности в лицо» (так писал журнал «Отокар»), то сиденье поворачивают и откидывают подножку.

Попытки создания мини-автомобиля возобновились с новой силой после первой мировой войны, когда нужда в транспорте была велика, а платить за обычный, «средний», автомобиль, не говоря уж о «большом», было не по карману «среднему» человеку. Подчас возникали весьма оригинальные конструкции «простейших» автомобилей, например «ганомаг». Его авторы правильно ставили задачу: сократить число мест и размеры машины, устранить все, без чего она может двигаться, так разместить ее узлы, чтобы лучше использовать объем кузова. Ширину "автомобиля определило двухместное сиденье. Пространство между передними колесами освободили от оси и продольных рессор для размещения ног седоков, а между задними колесами – для механизмов. Отпали крылья, подножки, карданный вал. Сами того не ведая, конструкторы предвосхитили схему автомобиля, получившую распространение три десятилетия спустя. Массовому выпуску «ганомага» помешали его необычная форма и несовершенство механизмов. Пользовалась популярностью частушка: «Немного жести, дым и лак – таков малютка «ганомаг».
Еще один пример «простейшего» – автомобиль «граде». Беглого взгляда достаточно, чтобы угадать прежнюю – авиационную – профессию его конструктора (самолетостроение было запрещено послевоенной Германии Версальским договором). Над коническими дисковыми колесами аэропланного типа разместился заостренный спереди и сзади фюзеляж без дверей, с люком на два человека. Вместо радиатора красуются решетчатые окна для входа воздуха. Сходство с аэропланом усиливают крылья, они вытянуты почти в одну линию с высокими подножками. Так и кажется, что это остаток отрезанных настоящих крыльев. Ансамбль дополняет целлулоидный козырек вместо ветрового стекла. Аналогичная картина и внутри фюзеляжа. Цилиндры с ребрами – от авиадвигателя. На конце коленчатого вала вертится пропеллер, выполняющий роль вентилятора охлаждения. Рулевой привод тросовый. В трансмиссии нет шестерен; вместо них два больших диска под прямым углом, обшитые кожей.
Простота устройства «граде» на деле себя не оправдала. Кожа замасливалась, стиралась и проскальзывала. Двигатель перегревался. Управление требовало особой ловкости. «Граде», как и другие автомобили-примитивы, был пригоден лишь для коротких поездок и не получил сбыта.
Успех сопутствовал автомобилям не примитивным, а действительно простым. Наиболее знаменитые из них – «Ситроен-5С» и «Остин-7».
У «ситроена» сведены к минимуму размеры и масса машины, мощность двигателя, расход топлива и, конечно, продажная цена. Однако в его конструкции все осталось как у «большого» – четырехцилиндровый двигатель, складной тент, электрические фары, рычаги внутри кузова.
В узком хвосте кузова находится третье сиденье, которое в шутку называли «тещиным местом».
Нелегко было «теще» взбираться на заднее крыло, а потом опускаться в глубокое гнездо. Тем не менее известный знаток автодела Бодри де Сонье (его труды изданы и у нас) писал: «Ситроен» – это образец автомобиля, которого ждал послевоенный мир. Его купят и врач для своих визитов, и промышленник для деловых поездок. Женщина может им так же легко управлять, как опытный шофер…»
Четырехместный «Остин-7» сразу же получил в народе кличку «малютка» («беби»), но по всем признакам это самый настоящий автомобиль. Он даже обладал тормозами на четырех колесах, что еще не часто встречалось и на дорогих машинах. Правда, его пассажиры возвышались над бортами, но это давало возможность сократить длину машины. Было укорочено до предела и место, занимаемое двигателем, – цилиндры вытянули в высоту, вентилятор устранили. Чтобы уменьшить массу «остина», конструкторы рассчитали на прочность каждую его деталь (чего раньше делать не умели), применили качественные стали и свели толщины всех деталей к минимуму. В кузове было только две двери и никакого оборудования, кроме жестких сидений.
С «ситроена» и «остина» начинается длинный ряд все более массовых автомобилей малого класса. Однако каждый такой автомобиль, едва появившись, начинал «расти».
– А мне сейчас хотелось бы вернуться к «среднему» автомобилю. Все-таки автомобиль высшего класса – это для избранных. Вуатюретка, или двухместный, нечто неполноценное. Когда произносишь слово «автомобиль», представляешь себе «Волгу», «Москвич» или «Жигули», то есть «средние» автомобили.
– Или «малые», но полноценные.
– Так что же такое «средний» автомобиль? Укороченный «большой» или увеличенный «малый»?
– Чтобы выяснить это, нужно перенестись из Европы, родины автомобиля, на его вторую родину – в США. Прародителем «средних» автомобилей был «Форд-Т», впервые выпущенный в 1908 году и выпускавшийся до 1927 года.
В заслугу Генри Форду ставят два дела: создание остроумной, простой конструкции автомобиля и введение в производство конвейера. Наверное, стоит добавить третье: перспективное определение типа автомобиля. Успех «Форду-Т» обеспечили не только его рациональная конструкция и дешевизна (благодаря массовому конвейерному производству), но не в меньшей степени то, что машиной Г. Форд угодил среднему американцу. Почему это удалось? Вероятно, потому, что в период создания модели «Т» Г. Форд еще не был крупным про

мышленником и его самого можно было назвать средним американцем, но в отличие от других средних обладавшим талантами конструктора, технолога и организатора. В те времена многие в США бросали свою прежнюю, нередко выгодную профессию и устремлялись в еще более выгодное автомобилестроение. При этом либо копировали чужие конструкции, либо создавали оригинальные во имя оригинальности, На обоих этих путях вспыхнули и сгорели тысячи (тысячи!) автомобильных фирм-однодневок.
Модель «Т» появилась в момент, когда настоящим автомобилем стали считать уже описанную огромную машину с роскошным кузовом и мощным двигателем, стоившую несколько тысяч долларов. Модель «Т» стоила в десять раз дешевле большой машины, но выпускалась сотнями тысяч в год. Каждый ее экземпляр приносил скромную прибыль, но все они вместе сделали Г. Форд а одним из самых богатых людей на земле.
«Форд-Т» обладал всем необходимым (по тому времени) для безопасного движения, но был свободен от излишеств. Простота начиналась с двигателя. Четыре цилиндра были отлиты в одном блоке (на других тогдашних автомобилях – по отдельности или попарно); охлаждение – термосифонное, без насоса (кругооборот воды происходил за счет того, что, нагретая цилиндрами, она вытесняла остуженную из радиатора); топливо подавалось самотеком из бака, расположенного под сиденьем; в трансмиссии особого устройства было только две передачи; вместо четырех продольных рессор – две поперечные; аккумулятора не было – фары получали ток от системы зажигания двигателя.
Покупатели «Форда-Т» расплачивались за его дешевизну своим трудом. Для заправки пассажир должен был освобождать сиденье. При малых оборотах двигателя фары светили тускло и мигали, поэтому водители нарочно двигались в темноте на низшей передаче, чтобы увеличить обороты. Зимой застывшее масло залепляло коробку передач, и двигатель соединялся напрямую с колесами; вращая заводную рукоятку, водитель… катил автомобиль, и, когда двигатель начинал работать, нужно было увертываться от машины и прыгать на ходу в сиденье. Со всем этим мирились. А днем, в теплую погоду, на ровной дороге машина уверенно работала, что вполне удовлетворяло тогдашних автомобилистов. Многим нравилось даже то, что в ней нужно было копаться, и для этого имелся солидный набор инструментов.
На первых «фордах» удивляло левое расположение руля (движение по дорогам США – правостороннее). Оно считалось небезопасным, так как конных повозок и пешеходов на мостовой (справа) было гораздо больше, чем встречных автомобилей (слева). Переносом– руля Г. Форд облегчил вход в кузов с тротуара и как бы объявил о наступлении новой эры – эры дорог, заполненных автомобилями.
Модель «Т» выпускалась почти без изменений в течение жизни целого поколения – с 1907 по 1927 год. Машин этой марки на дорогах мира было больше, чем всех других, вместе взятых.
В Европе эра автомобилизации наступила позже. Следы ее начального периода еще хорошо видны, например, на улицах Праги, где среди современных машин преспокойно ездят автомобили выпуска 20-х годов.
Чаще всего попадаются «татры» моделей «11» и «12». До наших дней они дожили благодаря их исключительной прочности и выносливости. Крылья откидываются вместе с капотом для доступа к механизмам. Спереди под капотом видны два лежачих ребристых цилиндра двигателя, их охлаждает встречный поток воздуха. Радиатор не нужен; а об отоплении кузова водой еще не помышляли. Конструкция «татры» необычна. Ее автор Г. Ледвинка заменил раму трубой, проходящей вдоль середины автомобиля. Двигатель и главная передача заднего моста крепятся на концах трубы. Полуоси же заключены в кожухи, качающиеся на петлях. Когда колесо взбирается на бугор или опускается в выбоину, шестерня его полуоси перекатывается по зубцам одной из двух шестерен на продольном валу. Поэтому в трансмиссии нет карданных шарниров.
Простота, как и у «форда», одна из причин долговечности «татры». Она дает еще одно качество: внешний вид автомобиля не надоедает, не кажется устаревшим.
«Татры» моделей «11» и «12» выпускались в течение пяти лет, потом принципы их конструкции были применены на других моделях фирмы, вплоть до тяжелых грузовиков. Появились у «татры» «родственники» и в Германии («штёвер», «рёр»), и в Советском Союзе (НАМИ-1).
Перед второй мировой войной вновь преуспел француз А. Ситроен. Его очередная модель – так называемая «траксьон аван» – была одной из первых массовых машин с приводом на передние колеса, безрамным несущим кузовом, торсионной подвеской, верхнеклапанным двигателем. Эта модель продержалась на производстве в различных вариантах 20 лет и получила дальнейшее развитие на позднейших моделях Ситроена и ряда других фирм. Существенно, что А. Ситроен, как до него Г. Форд и Г. Ледвинка, не просто создал удачную конструкцию, а правильно определил назревшую потребность в новом классе автомобиля.
Автомобили класса «Форд-Т» в США, а в Европе – «татры» и «ситроена» положили начало «малым» (но не вуатюреткам!) и «средним» автомобилям, которых теперь большинство.
– Мне кажется, что мы слишком много говорим о легковых автомобилях и совсем забыли о грузовых.
– Да, в ярком автомобильном спектакле легковые автомобили – это актеры. А грузовые – рабочие сцены.
– Но когда надо передвинуть на сцене рояль, мы зовем не тенора, а рабочего.
– Ну что ж, давайте позовем его.
Началось-то все, если разобраться, с грузовиков и автобусов (точнее, омнибусов). Было бы неправильно, ведя отсчет автомобильного века с изобретения «безлошадного экипажа» К. Бенцем и Г. Даймлером, забывать об их предшественниках -«паровой телеге» Н.-Ж. Кюньо (Франция, 1769 г.), предназначенной для перевозки артиллерийских снарядов, и английских паровых омнибусах первой половины XIX века. Попытки создания легкового автомобиля в то время не увенчались успехом, так как паросиловая установка была слишком громоздкой и тяжелой. Когда же появился сравнительно легкий двигатель внутреннего сгорания, его тотчас приспособили к карете и пролетке (так что и конный экипаж следует отнести к предшественникам автомобиля) и на целое десятилетие настолько им увлеклись, что о замене автомобилями грузовых фур, дилижансов и омнибусов не задумывались. Сказалась и ненадежность ранних автомобилей. Если с ней мирились энтузиасты-спортсмены, то для регулярного коммерческого транспорта она была серьезным препятствием. Грузовыми автомобилями занялись после того, как это препятствие было в какой-то степени устранено. Так в 90-х годах прошлого века появился, вернее возродился, грузовой автомобиль.
Фабриканты чаще всего заменяли заднюю часть пассажирского кузова большой легковой машины ящиком и создавали таким образом фургончики, обладавшие теми же ходовыми свойствами, что и их прототипы.
Но если легковой автомобиль успешно соревновался с конной пролеткой в скорости и экономичности, то фургон на его базе уступал конному. Объем кузова был очень мал. На так называемых «развозных» перевозках (например, почтовых или от складов к магазинам) много энергии расходовалось во время частых остановок. Поэтому именно здесь по-прежнему царил гужевой транспорт, а также электромобили. Тип легкого грузовика поначалу не привился.

Новая волна развития грузовиков была вызвана тем, что военные ведомства нуждались в средствах доставки войск и вооружения к месту военных действий, а железные дороги – грузов к станциям и от них. Автомобилестроители пошли им навстречу, создавая машины все большей грузоподъемности, уже не связанные с легковым прототипом, от которого сохранялась только общая механическая схема и двигатель. Они существенно упрочняли детали и стремились создать безрельсовое самоходное подобие товарного вагона или платформы.
Так грузовики начала XX века приобрели собственный характер. Они резко отличались от легкового автомобиля большей площадью кузова, массивностью ходовой части, двойными скатами задних колес, грузолентами вместо пневматических шин и отсутствием каких-либо удобств на рабочем месте водителя, которое напоминало облучок ломового извозчика. Работа водителя на грузовиках требовала больших физических усилий.
При всей примитивности этих сооружений они превосходили гужевую повозку по скорости и грузоподъемности. Отношение массы полезной нагрузки к массе конструкции у них было в два-три раза выгоднее, чем у легковых автомобилей.
Транспортные возможности автомобиля в полной мере раскрылись в ходе первой мировой войны. Автомобили с их подвижностью, свободой в выборе трассы, высокой средней скоростью, пригодностью к маскировке от нападения с воздуха стали важным средством военного транспорта, а в отдельных случаях и незаменимыми боевыми единицами.
Большим прогрессом в конструкции грузового автомобиля было в 20-х годах введение пневматических шин вместо грузолент, карданной передачи вместо цепной, электрооборудования. Грузовик как бы снова сближался с легковым автомобилем. К тому же многие заводы, выпускавшие и те и другие машины, унифицировали узлы кузова, капота, крыльев.
Грузовой автомобиль окончательно сложился в его классическом виде в 30-х годах. Появились тормоза на всех колесах с гидравлическим или пневматическим приводом, дизели, амортизаторы, закрытые кабины. Но сохранившаяся от легкового автомобиля механическая схема мешала эффективному использованию длины и конструктивной массы грузовика, ибо задняя стенка кабины находилась примерно посередине колесной базы. Полезная площадь кузова составляла лишь около половины всей площади автомобиля.
Незадолго до второй мировой войны у классической конструктивной схемы появилась соперница – схема грузового автомобиля с так называемой передней (то есть смещенной вперед) кабиной. Ее основное преимущество: длина машины хорошо используется по прямому назначению, для груза.
Появление машин этого типа именно в 30-х годах объясняется не одним стремлением автомобильных заводов угодить транспортникам и не одной изобретательностью конструкторов. Ведь передняя кабина встречалась уже на отдельных моделях ранних грузовых автомобилей. Но она смогла получить распространение лишь после существенного улучшения дорог. Дело в том, что при такой кабине неизбежна повышенная нагрузка на передние колеса. Но на хорошей дороге она не препятствует нормальному движению машины. Переходу на новую схему способствовало также усовершенствование шин, подвески и других механизмов.
При проектировании таких машин конструкторы встретились с трудностями. Можно было бы предоставить кабине и двигателю совсем короткий участок длины автомобиля, соответственно увеличить платформу или укоротить и облегчить всю машину. Но тогда передние колеса оказались бы непомерно перегруженными, а задним не хватало бы сцепной массы, особенно когда автомобиль идет порожним. Конструкторам пришлось пойти на компромисс и искусственно удлинить кабину, снабдив ее спальным местом позади сидений. Двигатель в этом случае располагался под задней частью кабины, а платформу несколько отодвинули назад. Несмотря на некоторые потери, компоновка получилась более рациональной, чем прежняя «капотная».
На этом трудности конструкторов не кончились. Как обслуживать упрятанный под кабину двигатель? Как защитить водителя от шума и запаха? Откидной капот внутри кабины не решал этих задач: обслуживать двигатель в тесной и темной кабине неудобно, а через щели по контуру капота в кабину проникали шум и загрязненный воздух. Вывод? Раз уж отказались от капота перед кабиной, то стоит отказаться от него вовсе! Так превратился он в жесткую коробку, слившись в одно целое с кабиной. Для доступа же к двигателю сама кабина откидывается вперед на шарнирах и поддерживается в поднятом положении пружинами и подпоркой.
Это смелое решение вызвало горячие споры. Опасались, что кабина может откинуться во время движения автомобиля или, наоборот, опуститься в момент, когда под ней находится человек, что на него будет стекать грязь с днища кабины. Кроме того, при обслуживании двигателя не только водителю, но и его спутникам нужно непременно выходить из кабины…
Все же откидная кабина сохранилась. Ее самопроизвольное опрокидывание предотвращено особыми фиксаторами, а обслуживание двигателя обычно стали производить в гараже, когда автомобиль помыт, а пассажиры отсутствуют.
Так что теперь грузовой автомобиль с кабиной над двигателем получил полные права гражданства, откидная кабина также.
При создании новых типов грузовых автомобилей конструкторы все реже используют капотную схему. Из советских автозаводов ульяновский, минский, кутаисский, новый камский отказались от нее полностью, Горьковский и некоторые другие – для части выпускаемых ими автомобилей.
Развитие автобусов идет теми же путями и даже опережает во многом развитие грузовых автомобилей,
В начале нашего века были сконструированы многоместные (с числом пассажирских мест более девяти) автомобили-омнибусы. Они представляли собой грузовые шасси с установленными на них кузовами каретного типа. Можно себе представить их скорость и удобства! В конструкции кузова широко применялось дерево, оно игл о на каркас, внутреннюю обшивку в виде нарядных полированных планок, так называемой «вагонки», на боковые решетчатые фальшборты, подножки, дверные и оконные рамы. Постепенно в узлы кузова внедрялся металл, но автобус оставался производным от грузового автомобиля вплоть до 30-х годов, когда появились городские машины так называемого вагонного типа.
Что такое автобус вагонного типа? Чтобы разместить в прежнем автобусе число пассажиров, соответствующее грузоподъемности базового грузовика, пришлось бы удлинить таковой на два-три метра (пассажиров ведь не упакуешь как груз!). Он стал бы неповоротливым, тяжелым, занимал бы много места на улице. В вагонном же автобусе двигатель устанавливают рядом с сиденьем водителя, под кузовом или сзади, и тогда почти вся длина машины предоставляется пассажирам. Тем самым устраняется несоответствие между вместимостью, длиной и грузоподъемностью машины. Перевозка одного пассажира обходится в вагонном автобусе в полтора раза дешевле, чем в капотном.
Особенность, типичная теперь почти для всех автобусов, – несущий кузов вместо рамы. Прежняя рама весила полтонны-тонну; и было очень обидно возить эти сотни килограммов вместо десяти-пятнадцати пассажиров! Причем никак не удавалось ее облегчить. Даже наоборот, чем мягче выполняли рессоры, чем эластичнее крепили кузов к раме для улучшения комфорта, тем более жесткой приходилось делать раму, чтобы она не прогибалась, не скручивалась и не ломалась. Кроме того, она была помехой для понижения пола кузова. До тех пор пока кузова были каретными, деревянными, казалось, что выхода нет. Он наметился, как только распространились металлические кузова. Их коробчатую конструкцию ведь можно использовать в качестве несущей системы, жестко соединив кузов с рамой и соответственно облегчив ее. А затем и вовсе устранили раму и все механизмы стали крепить непосредственно к кузову (у грузовиков с бортовыми платформами такой жесткой коробчатой конструкции нет, и рама у них до сих пор сохраняется).
В новейших автобусах жесткие металлические рессоры уступили место накачанным воздухом резиновым баллонам. Водитель автобуса находится даже в лучших условиях, чем на легковом автомобиле, – его сиденье регулируется по высоте, по углу наклона и установлено в самой передней части кузова", откуда хорошо видна дорога. Ему не нужно тратить силы и внимание на переключение передач – трансмиссия автоматическая, а рычаг передач и педаль сцепления устранены.
Эти достижения техники не повредили бы и любому иному автомобилю. Но на автобусе их применение объясняется (несмотря на сложность и дороговизну некоторых устройств) тем, что автобус – транспорт общественный, коммерческий. Пусть он стоит дорого; если это позволит перевезти больше пассажиров, то расходы оправдаются. Пусть он по внешности напоминает вагон, лишь бы вмещал больше пассажиров, которым внешность машины гораздо менее важна, чем возможность быстро доехать. Подвеска на баллонах – это тоже забота не только о плавности хода, но и о том, чтобы пассажиры быстро входили и выходили на остановках. Ведь при пневматической подвеске пол кузова всегда находится на одном уровне. А автоматическая трансмиссия – это забота не только о водителе, но и о высокой средней скорости движения, и о безопасности.
У междугородных автобусов двигатель расположен чаще всего сзади. Чтобы сделать сиденья над колесными кожухами удобными, конструкторы подняли боковые части пола, а проход оставили на прежнем уровне. Подъем сидений дал возможность устроить под ними вместительные багажные ящики с доступом к ним снаружи, через запираемые водителем люки. Эта принципиально новая схема междугородного автобуса стала, в свою очередь, типичной.
– А с чего начинали советские конструкторы?
– Почти на голом месте. В сундуке с наследством, которое нам оставила дореволюционная Россия, автомобиля не было.
– Но ведь был Русско-Балтийский завод, АМО в Москве…
– Сегодня мы назвали бы эти заводы слесарными мастерскими.
– И ведь еще страшная послевоенная разруха…
– Да, разруха, и никакого опыта конструирования.
В. 1924 году началось производство грузового автомобиля АМО-Ф15, значительно улучшенного советскими специалистами по сравнению с принятым еще до революции фиатовским образцом. Все же его конструкция была рассчитана не столько на требования эксплуатации, сколько на максимальное использование имевшегося производственного оборудования. Транспортники были готовы принять от промышленности любой автомобиль, но они и сами еще не знали, какой нужен. Автостроители заботились об одном: чтобы их машины были надежными. И это стало традицией советского автостроения.

Та же забота лежала в основе проекта первого советского легкового автомобиля НАМИ-1. В его конструкции уже заметна попытка выбрать из множества сложившихся к тому времени в мировой технике типов автомобилей самый подходящий для тогдашних условий нашей страны.
«Выбрать» понимали так: организовать пробег разнообразных автомобилей через всю страну и посмотреть, какие из них лучше справятся с «расейскими» дорогами. С трассой пробега успешно справились лишь немногие машины, среди них маленькая чешская «татра». Ее схему и принял в 1927 году для будущего автомобиля НАМИ-1 молодой конструктор К– Шарапов, но внес поправку в «формулу выбора». Конструкцию не копировали. Сохранили ее принципы – очень жесткую, трубчатую, хребтовидную раму, воздушное охлаждение двигателя, независимую подвеску колес, простой открытый кузов. Конкретные же решения были свои, например усиленные подвеска и шины, принудительный обдув двигателя. Было проявлено творческое, в самом лучшем его виде освоение мирового опыта!
НАМИ-1 – очень непритязательный, подходящий для тяжелых дорожных и климатических условий авто мобиль. Но его конструкция еще не предназначалась для массового производства, и выпуск ограничился пятьюстами штук. Одна из машин хранится в Политехническом музее в Москве.
На подступах к первой пятилетке партия и правительство поставили перед автостроителями задачу – создать отечественное массовое автомобильное производство!
Времени и опыта для самостоятельного проектирования массовых моделей у конструкторов не было. Приходилось снова выбирать из готового. Но тут сложились особые обстоятельства, о которых стоит рассказать.