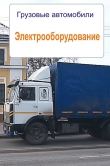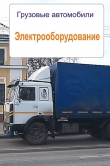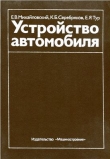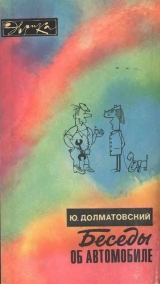
Текст книги "Беседы об автомобиле"
Автор книги: Юрий Долматовский
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Конкуренты ставят на опытные образцы автомобилей фальшивые марки, эмблемы, облицовки радиатора, колесные колпаки причудливой формы. Но и вооруженные современной техникой репортеры-сыщики и многие автомобилисты-любители замечают имеющиеся в новой, хоть и закамуфлированной, машине части предыдущей модели, порой сохранившиеся основные размеры и пропорции, отдельные черты «фамильного» сходства. Подкупленные фирмами фоторепортеры охотятся за испытываемыми машинами других фирм, нередко используя для этого вертолеты. Рассказывают, что такой репортер несколько недель дежурил с телекамерой у чердачного окна, из которого был виден кусочек заводской территории перед экспериментальным цехом фирмы «Рено». Ведь должны же были когда-нибудь выкатить из цеха новую модель! И ее выкатили, и она была сфотографирована, и фирма-соперник успела учесть некоторые важные особенности будущего «рено» при разработке своей модели. Во избежание подобной утечки фирма «Форд» круглогодично арендует номера одной гостиницы, из окон которой просматривается участок фордовского испытательного полигона.

Вот почему автомобили с табличкой «испытания» сейчас редко встречаются на улицах или загородных магистралях. Но это не единственная причина.
В течение десятилетий советские автостроители проводили испытания на дорогах общего пользования. Движение на шоссе еще не было столь интенсивным, и в ранние утренние или обеденные часы удавалось, никому не мешая, совершать скоростные заезды, разгоны и торможения, замеры расхода топлива. Неподалеку всегда находились и булыжные дороги, а уж проселков и непролазного бездорожья – хоть отбавляй! Но поток машин на шоссе с годами становился все более плотным. Ожидания момента, когда шоссе освободится, вели к потерям времени. Булыжник залили асфальтом. А число опытных автомобилей не только не сокращалось, но все возрастало.
Так что испытывать их на обычных дорогах было все труднее, Не достигалась и сравнимость результатов испытаний разных машин из-за изменений состояния дороги, разницы в режимах движения. Точность секундомеров и других давнишних приборов перестала удовлетворять испытателей, потребовалось оборудование самой дороги более совершенной аппаратурой.
Над всеми этими проблемами задумывались еще на заре нашей автомобильной промышленности. В 30-х годах по дорогам Московской области колесил видавший виды «газик», пассажиры которого то и дело высаживались, вооружались биноклями, делали снимки, зарисовки, записи. Они искали участок для устройства автомобильного испытательного полигона. Он должен быть и уединенным, и равнинным, и холмистым, и песчаным, и глинистым, а также не слишком ценным для сельского хозяйства и не слишком отдаленным от мощной электростанции.
Война помешала строительству полигона. Оно развернулось в 50-60-х годах в восьмидесяти километрах от Москвы, под Дмитровой, уже в новых, гораздо больших, чем это мыслилось пассажирам «газика», масштабах.
Теперь полигон, один из лучших в мире, действует. На его территории – десятки километров специальных дорог, оборудованных сложной электронной техникой и недоступных ни для кого, кроме испытателей. И тут при въезде висит «кирпич». Для посторонних.
Вдоль западной границы полигона по просеке идет динамометрическая дорога. Она вдвое шире хорошего шоссе, защищена по бокам упругими барьерами, с часто нанизанными на них автоматическими фотоустановками, с подъемами и песчаными участками по концам для гашения скорости. На параллельных просеках – грунтовая дорога, опоясывающая весь полигон, и скоростная.
Грунтовая дорога следует профилю местности, взбирается на холмы, ныряет в овраги, петляет, бросает автомобиль из стороны в сторону. Колеса вязнут в лужах, песке, глине. Не всякая машина справляется с этой, с позволения сказать, дорогой. Но автомобили для села, для геологических экспедиций должны справляться, и полигон выявляет их возможности.
Скоростная дорога – это самый длинный в мире – 14 километров – цементобетонный трек, по которому днем и ночью со скоростью до двухсот километров в час бегут машины, присланные автомобильными заводами со всех концов нашей страны. На заднем буфере многих машин смонтировано «пятое колесо» с прибором-самописцем, измеряющим скорость. «Пятое колесо», легкое и всегда прижатое к дороге сильной пружиной, никогда не проскальзывает, как это часто бывает с колесами автомобиля при торможении, на поворотах, при разгоне. Оно аккуратно наматывает на себя нитку пройденных километров. На скоростной дороге можно наездить при трехсменной работе водителей 50 тысяч километров за месяц – одно-двухгодичную норму эксплуатации автомобиля. Движение здесь одностороннее, по четным дням по часовой стрелке – об этом напоминает большая вывеска при въезде на дорогу, по нечетным – наоборот. Так обеспечивается равномерный износ шин на наклонных виражах.
Внутри скоростного проложено булыжное кольцо. Одна его половина сравнительно ровная, другая изобилует ухабами и как бы продавлена колеями. Когда-то так были «шоссированы» проезжие тракты, с той лишь разницей, что они строились на песчаной подушке, а булыжник полигона заделан в бетон; его профиль сохранится долго, несмотря на давление тысяч колес больших и малых машин. Нужно ли испытывать автомобили на булыжнике, если он почти полностью изжит на теперешних дорогах? Дело в том, что пробег по булыжнику позволяет судить о надежности машины. Испытатели давно провели сравнения, подсчитали и знают, скольким километрам обычного пробега автомобиля соответствует километр булыжника.
По круглой, диаметром 120 метров, площади, с ровностью покрытия до 3 миллиметров, как дрессированные лошади на манеже, мчатся автомобили, а оптический прибор фиксирует, насколько точно они вписываются в размеченные на асфальте окружности, слушаются ли руля. На другой, прямоугольной площади расставлены красно-белые конусы, объезжая которые автомобили, со свистом шин выполняют «слалом».
Водители этих автомобилей, как, впрочем, и всех других на полигоне, пристегнуты к сиденьям ремнями. Водитель-испытатель – главное действующее лицо на полигоне. Он должен быть человеком сильным, выносливым, смелым. Но и такой не выдержал бы здешнего режима работы, если бы не разумно распланированные смены, перерывы для отдыха и ежедневный врачебный контроль.
Внутри всех колец – короткая трасса, но настолько широкая к многополосная, что ее и не назовешь дорогой. Скорее это опять-таки площадь. Ее называют комплексом специальных дорог. Вот «стиральная доска», на ее бетонных поперечных волнах машину трясет так, что, кажется, она того и гляди рассыплется. Соседняя полоса называется «бельгийской мостовой», она воспроизводит старинные, грубо мощенные крупной брусчаткой дороги Европы. Достаточно наездить по ней полторы-две тысячи километров, чтобы выявить долговечность автомобиля. Рядом тоже брусчатая, но более ровная дорога. Движение по ней вызывает вибрацию машины а значит, и шум. Испытатели оценивают его уровень. Потом идут две полосы булыжных дорог: ровная и ухабистая. А по самому краю – бетонные полосы для испытания тормозов, оценки устойчивости автомобилей, полосы для проезда вспомогательных машин с наблюдателями, кинооператорами или с устройствами дистанционного управления при испытаниях автомобилей без водителя.
Испытания без водителя – повседневное дело на полигоне. Если машина выдерживает иную дорогу в течение многих часов непрерывной езды, то самый опытный испытатель – не более получаса. Невдалеке от «комплекса» можно увидеть, например, большегрузный самосвал, который, перекашиваясь и, если так можно выразиться, извиваясь всем своим телом, словно огромное упрямое животное, преодолевает одно за другим стальные сменные препятствия (не переломился бы он пополам), а кабина самосвала пуста! Как ни в чем не бывало он совершает полукруг и даже делает на мгновение рывок колесами в сторону стоящей неподалеку группы инженеров, но тут же возвращается на курс – шутка оператора, наблюдающего за испытаниями из застекленной будки.
Немного дальше площадка с полосатым бетонным кубом величиной с избу. Испытуемая машина делает здесь свой последний заезд. Она разгоняется и наезжает на куб. Разбита передняя часть, но корпус кузова не деформировался. Заменяющий водителя манекен остался «жив». Значит, конструкторы позаботились о безопасности в случае аварии автомобиля. Киноаппараты ускоренной съемкой запечатлевают на пленке все фазы наезда.
Есть на полигоне ванны-броды, пылевая камера (не нужно ехать в пустыню, чтобы испытать действие пыли на стенки цилиндров двигателя, на систему вентиляции кузова!), есть лесные и горные трассы, подъемы с уклонами до 60 процентов. Ко всем испытательным участкам проложены служебные дороги. И конечно же, есть солидная дорожная служба, следящая за состоянием покрытий.
В зданиях на окраине поселка – большие гаражи, мерительные и весовые площадки, лаборатории испытания двигателей и других механизмов.
Во что же обошлось сооружение полигона, во что обходится ежедневно его работа, оправдываются ли расходы, измеряемые десятками и сотнями миллионов рублей, вконец изношенными и разбитыми автомобилями? Ответить на этот вопрос помогает несложный расчет. Наша промышленность выпускает ежегодно миллионы автомобилей, они пробегают в эксплуатации миллиарды километров. Если в результате испытаний на полигоне каждый автомобиль будет облегчен на десяток-другой килограммов, будет сэкономлен на каждой сотне километров литр топлива, на десяток тысяч километров будет продлен пробег машин до капитального ремонта или списания, то расходы на существование полигона давно окупились!
– Ну а теперь-то, когда машина прошла все испытания, можно начинать ее серийное производство?
– Нет еще. Машине предстоит новое, очень серьезное испытание, а производство требует подготовки.
– Неужели мало того, что уже сделано?
– Не мало, но недостаточно. Наступает этап подготовки производства, во время которого конструкция сдает экзамен на технологичность.
Дана команда «готовить!». В работу включается целая армия проектировщиков, технологов, работников служб управления, снабжения и сбыта. Особенно разнообразно войско технологов. Среди них конструкторы нестандартного производственного оборудования и оснастки, специалисты по холодной обработке металла, ковке и литейному делу, штамповке, сборке и сварке. Они не сидели без работы и до команды, консультировали дизайнеров, делали расчеты и проекты. Но главная их работа еще впереди. Ее объем может быть разным.
Вариант первый: новый автомобиль ставится на производство на существующем заводе, где имеется все необходимое оборудование, нужно лишь его приспособить к выпуску данной машины.
Вариант второй: создание совершенно нового завода, как это было в годы первых пятилеток или при сооружении Ижевского, Волжского, Камского автозаводов. Объем работы в этом случае гораздо больший, чем в первом варианте, но сама работа более привлекательна. Завод можно оснастить современной техникой, новую

конструкцию автомобиля не нужно так строго «привязывать» к имеющемуся оборудованию.
Есть во втором варианте одна особенность. Раз не построен завод, значит,, нет и конструкторского отдела. Его либо организуют заранее, и тогда одновременно с созданием автомобиля формируется коллектив, либо разработку автомобиля поручают одному из действующих КБ. Первую модель «Запорожца» "проектировали москвичи, от них же получили свои начальные объекты ижевские и камские автостроители, а ульяновские – от горьковчан. Оттолкнувшись от готовой основы, конструкторы рождающегося автозавода вскоре предлагают свое решение. Им хорошо видны недостатки пришедшей как бы извне конструкции, да и всякому творческому человеку, всякому молодому коллективу хочется себя проявить. Свежий пример – ижевский. Не прошло и пяти лет, как из столицы Удмуртии побежали по дорогам страны грузопассажирские модификации «Москвичей» и фургоны увеличенного объема, о которых давно мечтали транспортники торговли, почты, бытового обслуживания.
Наиболее типичный вариант, однако, средний. Имеется завод, но, чтобы он выпускал новый автомобиль, приходится значительно пополнять оборудование, перестраивать цехи – словом, проводить реконструкцию.
Такое не раз переживали московские автозаводы. И тут своя особенность и трудность. Желательно ни на день не прерывать выпуск машин, иначе на автомобильном рынке будут перебои. Да и как поступать с выпестованным коллективом; не увольнять же людей с завода! Вот почему в период перестройки предприятие в течение долгих месяцев живет как бы двойной жизнью. Работают конвейеры, а рядом налаживают новое оборудование, чтобы в определенный момент, иногда за одну ночь, перейти от сегодняшней модели к завтрашней; или эту, завтрашнюю, в продолжение какого-то срока собирают во временных помещениях, на временных конвейерах, пока на месте старых все будет должным образом подготовлено.
Еще задолго до окончания испытаний автостроители начинают подготовку к производству новой машины. Но и после испытаний им отводится немалый срок: от одного года до нескольких лет в зависимости от сложности автомобиля, его новизны, отличий от предшественника; да еще от того, насколько назрела необходимость в смене моделей. Если сегодняшняя конструкция была достаточно перспективной и пользуется неослабевающим спросом, то всем (кроме неугомонных конструкторов!) выгодно держать ее как можно дольше на конвейере. Так было, например, с автомобилем повышенной проходимости УАЗ-69, который на двадцатом году производства все еще занимал первые места в сравнении с новейшими зарубежными моделями. Давно подготовленный ему на смену УАЗ-469 должен был ждать своей очереди.
Вот почему от одной модели до другой проходят годы. Это, конечно, не оправдывает тех автостроителей, которые, бывает, растягивают сроки еще больше, чем это вызывается необходимостью.
Хорошо, если творческий коллектив завода настолько силен, что может работать параллельно над несколькими моделями автомобилей. Скажем, одна выпускается и требует от конструкторов лишь так называемого «авторского надзора»; другая находится в подготовке производства; образцы третьей еще колесят по трассам полигона; четвертую конструируют; пятую только компонуют и макетируют, а для шестой ведут изучение рынка. В таких условиях новая модель может появляться чуть ли не ежегодно. А если у коллектива хватает выдержки не торопиться с информацией широкой общественности о своих проектах, тогда новая модель появляется как бы «вдруг», не портит до поры до времени коммерцию своей предшественнице и никого не вводит в заблуждение.
А то бывает, что построят опытный образец (над ним еще работать и работать!) и тут же начинают его рекламировать. Потребители подумывают, не подождать ли до, казалось бы, скорого появления новой модели. А годы идут (см. выше), и создается впечатление о медлительности автостроителей. Так бывало и с отечественными автомобилями, в особенности в те времена, когда медлительность объяснялась не только недостатком сил в заводских коллективах, но и ограниченным числом выпускавшихся автомобилей: чтобы окупить средства, вложенные в производство той или иной модели, нужно было очень долго держать ее на конвейере.
Впрочем, ранняя огласка созданной модели может быть в отдельных случаях оправдана необходимостью в «зондаже» или формировании общественного мнения, а может быть, и по другим соображениям.
Итак, идет подготовка производства.
Прежде всего составляется технологическая схема, или, как говорят, цепочка производства нового автомобиля. На чертежах цехов выстраиваются ряды станков, автоматических линий, прессов, сборочных кондукторов.
Чем больше готовых изделий включено в данную конструкцию, тем проще подготовка к производству и самое производство, меньше новых цехов и пролетов. С другой стороны, каждое покупное изделие – особая проблема: позволяет ли мощность завода-смежника рассчитывать на бесперебойные поставки? Где находится смежник: не получится ли «за морем телушка – полушка, да рубль перевоз»? Снова решается вопрос о габаритах и массе машины. Ведь ее габариты – это ширина цеховых пролетов, длина конвейеров, размеры окрасочных камер. Если последние, например, сохраняются от производства предыдущей модели, то одно это обстоятельство может заставить конструкторов изменить проект слишком длинной машины (правда, им полагалось учесть все заранее). Масса будущего автомобиля – это грузоподъемность кранов и рольгангов, размеры площадок для приемки поступающего на завод металла, длина подъездных железнодорожных веток и разгрузочных рамп, объемы складских помещений.
Еще и еще раз пересматривается конструкция каждой (а их тысячи!) детали автомобиля. Нельзя ли сделать ее дешевле, долговечнее? Изготовить из стандартного профиля? Упростить обработку? Уменьшить отходы металла? Поставить вместо новой детали 'схожую, уже освоенную в производстве?
Какими бы важными ни были эксплуатационные требования к автомобилю, какие бы остроумные технические и эстетические замыслы ни вкладывал в свое детище конструктор, ему приходится чутко прислушиваться к голосу производственников. Чаще всего бывает так, что разумные технологические требования не противоречат разумным же эксплуатационным, конструктивным или эстетическим.
Возьмем для примера окраску автомобиля. Когда-то художники-конструкторы отстаивали традиционные, еще из арсенала каретных дел мастеров, тонкие цветные полоски, так называемые цировки, на кузове. И. Ильф и Е. Петров писали на эту тему в «Одноэтажной Америке».
«Это был маляр, на обязанности которого лежало проводить тонкой кисточкой цветную полоску на кузове. У него не было никаких приспособлений, даже муштабеля, чтобы поддержать руку. На левой руке его висели баночки с разными красками… Это был свободный художник, единственный человек на фордовском заводе, который не имел никакого отношения к технике, какой– то нюрнбергский мейстерзингер, свободолюбивый мастер малярного .цеха. Вероятно, в фордовской лаборатории установили, что проводить полоску именно таким средневековым способом выгоднее всего».
Позже нанесение полосок все-таки механизировали, придумали цировочную машинку. А потом… цировки и вовсе устранили, и от этого внешность автомобиля нисколько не пострадала. Ей также не повредила окраска колес в белый или серебристый цвет, гармонирующий почти с любым другим, вместо цвета кузова, применявшегося до 50-х годов. Наоборот, машина со светлыми, отличными от кузова колесами выглядит даже элегантнее. А какое упрощение дала в производстве эта единая окраска колес!
Можно привести еще примеры Так, обтекаемость обтекаемостью, эстетика эстетикой, а скругленные формы кузовных облицовочных панелей стали возможными и оправданными лишь в результате прогресса холодного прессования и электросварки. Выбор четырехцилиндрового, а не шестицилиндрового двигателя был сделан в свое время для «Победы» (и оправдал себя в эксплуатации!) в первую очередь с учетом наличия на заводе станков, рассчитанных на четыре цилиндра.
Есть, однако, и противоположные примеры. Взять хотя бы ту же окраску. Крайне важно, чтобы все автомобили-такси были одного цвета. Тогда пассажиру легко их распознать на улице, а таксомоторным паркам – наладить ремонт. Требования таксомоторной службы оказали влияние на технологию: на заводе, где такси собираются в одном потоке с прочими автомобилями, ввели дублирующие окрасочные трубопроводы, чтобы не промывать основные при переходе от одной машины к другой. Да и «шашечки» наносит не «свободный художник», а на кузов наклеиваются покупные пленки с отпечатанными «шашечками».
…Подготовка производства подходит к концу. На все узлы и детали автомобиля составлены тысячи технологических карт. Продуманы и согласованы поставки комплектующих изделий. Установлены заказанные на отечественных заводах и за границей новые станки, прессы, конвейеры, компьютеры, диспетчерские пульты. Организованы лаборатории, испытательные стенды для контроля продукции, инструментальные и другие вспомогательные цехи. Разработаны и смонтированы системы подачи энергии, воды, сжатого воздуха, вентиляции, освещения, отопления, сбора отходов, автоматического гашения пожаров. Подготовлены кадры рабочих, механиков на станциях обслуживания. Изданы красивые рекламные проспекты, инструкции по управлению новым автомобилем, каталоги запасных частей.
Опять возникает вопрос: оправдываются ли многомиллионные расходы, связанные с постановкой на производство нового автомобиля? При решении этого вопроса каждый раз делают экономический расчет. Вот конструкторы нашли возможность создать грузовую машину, которая при тех же массе и сложности устройства, что и у выпускаемой семитонки, будет перевозить восемь тонн. Это значит, что, выпуская по-прежнему 20 тысяч машин в год, завод, по существу, будет давать народному хозяйству, при годовом пробеге каждого грузовика около ста тысяч километров, дополнительные два миллиарда тонно-километров! Или, по расчетам экономистов, каждое специализированное такси должно дать экономию в 300 рублей в год по сравнению с используемым на таксомоторной службе обычным автомобилем. Сто тысяч такси – это дополнительные 30 миллионов в кассу государства!
Вот почему стоит затрачивать на реконструкцию завода или создание нового миллионы рублей.
– Кто принимает решение о проведении каждого этапа в создании автомобиля?
– В общем-то, все переходы предусмотрены планом с того самого момента, когда проектирование только еще начинается. Но добро на переход к очередному этапу дают технические советы.
– Почему советы, а не совет?
– Их много. Если идти по восходящей, то сначала надо назвать совет конструкторского отдела, потом завода, затем министерства. Образец, кроме того, оценивают комиссии по испытаниям и художественно-конструкторский совет или так называемая макетная комиссия.
– Это что еще за комиссия?
– Такая комиссия впервые была образована лет двадцать пять тому назад…
– Для чего?
Раньше было так. Сделают опытные образцы автомобиля и на них едут в Кремль. Появление новой модели автомобиля было в стране крупным событием. Оценка, данная машине в Кремле, и определяла дальнейшую ее судьбу: быть или не быть автомобилю данного типа? Так в свое время решились вопросы о производстве малолитражных автомобилей, о выборе типа двигателя для машин класса «Победа», «Волга» и другие.
В 40 – 50-х годах положение изменилось. Слишком много появлялось новых моделей автомобилей, чтобы все их показывать в Кремле. Постепенно сформировался нынешний порядок оценки. В нем наряду с научно-техническими советами и комиссиями по испытаниям (роль которых всем понятна и не требует описания) большое место отведено макетной комиссии. В нее включают видных конструкторов и ученых, работников эксплуатации, дизайнеров, деятелей искусства, экономистов, врачей.

Она начинает свою работу еще до возникновения опытного образца. Объектами оценки служат чертежи, рисунки, модели и макеты.
Когда построен первый опытный образец (иногда и его называют макетным), комиссия делает свой второй «заход», а после испытаний опытной партии – третий, окончательный.
Нечто подобное происходит и на зарубежных автозаводах, с той разницей, что они в большинстве случаев не привлекают экспертов извне, так как опасаются разглашения производственной тайны. В оценке участвуют только «свои», да и то «избранные». Вот как описывает такой момент А. Труая в уже упоминавшейся книге «Рождение Дофины».
«…Наступает большой день. Я должен защитить детище перед главной дирекцией. На столе патрона красуется наша модель. Люди из коммерческого отдела и с производства, одобрения которых мы ждем, с недоверчивым видом ходят вокруг новорожденной. У меня ощущение, что это я – объект их изучения, критики, пристальных взглядов. Я возвращаюсь к моим давним переживаниям перед экзаменами. О, они не слишком любезны, $ти господа! Они говорят все, что им придет в голову.' Не для того ли они пришли сюда, чтобы сокрушать? Но часто их замечания не лишены проницательности. Один восклицает: «Ваш автомобиль был бы модным сегодня, но у него слишком классические линии, чтобы удовлетворить клиентуру через пять лет! А ваш двигатель? В чем его революционность? Что мы скажем в рекламе о его преимуществах по сравнению с предыдущим?» Другой утверждает: «Ваш кузов очарователен! Но чтобы его штамповать, нужен лист исключительного качества. Подумали ли вы о себестоимости?» Еще один вздыхает и говорит, качая головой: «Я спрашиваю себя, правильно ли поставлена задача, действительно ли это тот автомобиль, который нужно выпускать? Не лучше ли было бы обратиться к другому сектору рынка…» Я слушаю, я страдаю, я сдерживаюсь, чтобы не взорваться на месте…»
Чаще всего будущий автомобиль сравнивают как у нас, так и за рубежом с выпускаемыми сегодня на других заводах, близкими к нему по классу, с моделью-предшественницей, с подготовляемыми моделями фирм-кон– курентов, данные о которых доставляет промышленная разведка.
До недавнего времени дело ограничивалось тем, что каждый член макетной комиссии давал словесную оценку, а в протокол записывали общее мнение. Но всегда существовало стремление дать общую оценку, выразить ее понятным для техников (да и для всех!) цифровым языком, причем в одном показателе отразить, казалось бы, несовместимые понятия – скорость, расход топлива, показатели устойчивости, комфортабельности и даже эстетические.
И вот сложился метод экспертной комплексной оценки. Общим измерителем приняты баллы (система обычно пяти– или десятибалльная), которыми оцениваются все виды испытаний и оценок.
Экспертную оценку дополняют технической, эргономической и объективной эстетической. Техническая – это понятно: размеры автомобиля и значения его массы, скорость, время разгона, расход топлива. Эти данные получают при испытаниях. Но при включении их в комплексную оценку опять-таки переходят к баллам и, кроме того, вносят, если так можно выразиться, эргономическую коррекцию. Отдельные показатели, высоко оцениваемые с технической точки зрения, могут быть снижены. Так, высокая скорость, быстрый разгон, резкое торможение почти всегда связаны с ухудшением зрительного восприятия всего происходящего на дороге, с усилением шума, нередко с качкой и возникновением у пассажиров ощущения опасности. Многие люди и вовсе плохо переносят скорость. Вместе с тем водитель оценивает ту же высокую динамику положительно, так как она дает ему ощущение уверенности в момент обгона другого автомобиля. Объективная эстетическая оценка отличается от субъективной тем, что вместо ответа на вопрос «нравится или не нравится» нужно профессионально рассмотреть все стороны (как говорят, элементы) композиции автомобиля, его технологическое совершенство и безопасность, качество окраски и отделки, то есть разложить все по полочкам.
При подведении итогов учитывается весомость отдельных показателей по отношению к прочим – определяется, что важно и что менее важно для автомобиля данного типа.
По этому методу было проведено сравнение большого числа автомобилей второй половины 60-х годов. На первые места, кроме перспективного экспериментального автомобиля, ради которого проводилась оценка, встали серийные автомобили «Реио-R 16» и «Фиат-124». А надо сказать, что этим двум автомобилям авторитетной международной комиссией несколько раньше было присуждено звание «лучших автомобилей 1965 и 1966 годов», и они по сей день, не претерпев существенных изменений, выпускаются и пользуются массовым спросом. Один из них, как известно, не зря принят к производству на Волжском автомобильном заводе.
Выходит, что метод комплексной оценки весьма объективен.
– Я ни разу не был на автомобильном заводе. Можно взглянуть на него хотя бы одним глазом?
– Пожалуйста, вот вам пропуск на Волжский автомобильный завод…
Под крышей главного сборочного корпуса могут поместиться три Московских Кремля. Таковы масштабы построенных в последние годы отечественных автомобильных предприятий. Когда подъезжаешь к тому же Волжскому заводу, или Ижевскому, или Камскому, раскинувшимся невдалеке от городов, то дух захватывает, наверное, не меньше, чем если бы перед тобой вдруг предстали древнеегипетские пирамиды.
Если главное, что поражает впервые увидевшего автозавод, – это масштабы, то следующее – это слаженность, продуманность огромного производственного механизма. Ежедневно завод изготовляет, собирает в узлы, а затем и в целые автомобили до десяти миллионов деталей, тысячи их наименований. Каждая деталь, скажем рычаг подвески или панель крыши кузова, проходит несколько (иногда множество) стадий обработки (здесь говорят – операций), строгий контроль, совершает километровые путешествия по линиям станков или прессов, от них – на сборку всего механизма подвески или сварку кузова, а потом вместе с ними на главный конвейер. И каждому ее движению, каждой стадии на пути к готовому автомобилю найдено точное место. Это место оборудовано всем необходимым, чтобы на деталь затрачивалось как можно меньше ручного труда, чтобы движение ее было быстрым и беспрепятственным.

На первый взгляд кажется само собой разумеющимся прохождение той или иной детали по всем стадиям, но сколько потребовалось раздумий, расчетов, чертежей, чтобы это размеренное прохождение стало реальностью, и не оно одно, а тысячи таких трасс, параллельных, сходящихся, пересекающихся!
Третье, что поражает посетителя, – это красота производства. У многих людей еще сохранилось представление о машиностроительном заводе как о грязной территории с полутемными цехами, кучами металлической стружки, потоками смазочных и охлаждающих жидкостей, с рабочими в засаленных спецовках, о территории, где преобладают черный, серый, грязно-коричневый, сизый цвета.
Современный автомобильный завод ломает это представление. Просторные, чистые, светлые цехи со строгими рядами станков, прессов, молотов, с системой кондиционирования воздуха. Ажурные серебристые или песочного цвета фермы над пролетами. Перегородки из стеклянного кирпича. Расцвеченные всеми цветами радуги трубопроводы. Яркие пятна погрузчиков, кранов, поддонов и контейнеров для деталей, черно-белые шлагбаумы перил и ограждений. И еще более яркие – сами автомобили.
Светло-зеленые станины, белые строчки разметки на полу. Многоцветные табло на диспетчерских пунктах. Все это цветовое богатство гармонично подчеркивает динамику завода, слаженность его механизма. Таинственно мерцают сигнальные лампы на табло и пультах, предостерегают людей полосатые «травмоопасные» части подъемно-транспортных машин и станков.