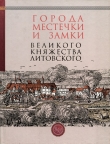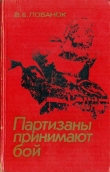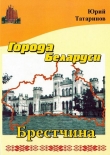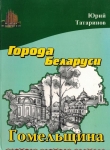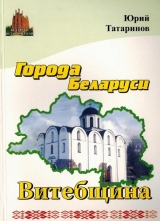
Текст книги "Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Витебщина"
Автор книги: Юрий Татаринов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Когда приглашенные расселись, зазвучала музыка – заиграл оркестр, состоящий из 400 человек. Управлял оркестром маэстро Дерфельд. Как и должно главе государства, Его Величество первый поднял бокал. Он произнес тост за здоровье воинов корпуса, который всегда и везде прославлял себя. В свою очередь генерал Сакен предложил выпить за здоровье государя. После чего артиллерия начала стрелять, а гвардия закричала «Ура!»
Громогласное «Ура!» сопровождало Александра I и после того, как он сел на коня и направился обратно во дворец.
Впоследствии на том самом месте, где находился бивак, тогдашний владелец местечка граф Ириней Хрептович установил памятный знак высотой 3 аршина и 12, 5 вершков. Состоял этот знак из четырех частей: гранитной плиты, кирпичного оштукатуренного пьедестала и колонны в виде усеченного конуса. Увенчан памятник был гранитным шаром диаметром 5 вершков. На пьедестале имелась надпись золотыми буквами на латинском: «Поставил граф Ириней Хрептович в память о пребывании на этом месте божественного государя Александра I со своим воинством». Памятник был окружен оградой из цепей, подвешенных на восьми гранитных столбах.
ПАРК
В местной газете «Зара» за 28 января 1989 г. А. Крачковский сообщает, что начало строительства регулярного парка относится к концу XVII в., когда имение Бешенковичи перешло к Огинским. Территория парка с севера и востока была ограничена рекой и ручьем, а с юга и запада – аллеями и искусственными каналами. Центром композиции был двухэтажный дом на возвышении, построенный тогдашним владельцем имения Казимиром Огинским.
Постепенно площадь парка расширялась. Одновременно проводилась его реконструкция. В центре появились два искусственных водоема. Первый имел бетонированное дно – поэтому не зарастал и сохранял прозрачность воды. Другой отличался формой: круглый, диаметром 40 метров, он имел одинаковые береговые откосы. На обеих водоемах были устроены острова. На круглом остров представлял собой клумбу, некое подобие гигантского плавающего венка. С берега на каждый из островков были перекинуты дугоподобные деревянные мосты.
Теперь известно, что эти водоемы были выкопаны неспроста. В тех местах действовали ключи. Водоемы не замерзали. А это, в свою очередь, позволяло круглый год содержать там лебедей.

В 1770 г. напротив старого был возведен новый двухэтажный каменный дворец. Вместе с этим по заранее созданному проекту был устроен большой парк. Из регулярного он становится пейзажным.
Во второй половине XIX в. Иехим Литавор Хрептович на его территории выстроил двухэтажный жилой дом.
СВЯТО-ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Не было бы счастья – да несчастье помогло. Сюжет, достойный произведений Александра Николаевича Островского… Церковь во имя святого Ильи-пророка была построена в Бешенковичах по указу сына Ягайлы Казимира. Этот указ перепуганный король-католик издал после того, как чуть было не потерял жену Елизавету в 1447 г.
А. Крачковский в газете «Зара» за 18 августа 2001 г. сообщает, что церковь была построена и даже пережила пору обновления. Почти два столетия она оставалась православной.
В 1637 г. местный хозяин Казимир Лев Сапега добился отмены для нее статуса православной. На месте церкви построили униатский храм.
Новый владелец Бешенкович Казимир Огинский восстановил настоящий статус церкви. Но как только Петр I, освободив эти земли от шведов, покинул территорию Великого княжества, иезуит Гинторф выгнал из нее иеромонаха, отнял у него все пожитки, а церковь опять переделал в униатскую. Это случилось в 1723 г. Известно, что верующие не покорились и подали челобитную на имя царя.
Документально подтверждено, что новое из красного кирпича здание Ильинской церкви было построено в 1870 г. на казенные средства.

Вот что сообщается об этой церкви в брошюре «Экскурсия Витебской ученой архивной комиссии 14 мая 1911 г. в местечко Бешенковичи»: «памятник архитектуры… того периода, когда с легкой руки академика Тона у нас насаждался якобы русский стиль. В этой церкви сохранились старинные иконы пророка Ильи и Божьей Матери, относящиеся приблизительно к началу 18-го столетия…» На колокольне когда-то размещались колокола: один – стопудовый, другой – пятидесятипудовый, третий – двадцатипятипудовый, а также несколько по два пуда каждый.
В 1917 г. большой колокол сбросили большевики.
В годы Великой Отечественной войны немцы приспособили церковь под склад. На колокольне было устроено пулеметное гнездо, которое было разбито вместе с колокольней в 1944 г.
ЛЕПЕЛЬ
(сентябрь, 2005)

НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ НАЗВАНИЯ
Всегда интересны статьи доктора филологии А. Рогалева. Ученый умеет вселить уверенность своей аргументацией.
Славяне не являются исконными жителями Лепельщины, – объясняет он в одной из своих работ происхождение названия здешнего города, – они начали осваивать этот край только в V–VI вв., тогда как многие из здешних стоянок-городищ принадлежат более ранней археологической культуре.
Город получил свое наименование от названия здешнего водного объекта – озера Лепель. Исследователь А. Качубинский полагал, что основа названия сокрыта в балтском слове liepa, то есть «липа». Он интерпретировал слово «Лепель» следующим образом: «озеро, размещенное в липовом лесу».
Еще более романтичной, на мой взгляд, кажется версия немецкого этимолога М. Фасмера, который указывал на латышское слово lepa – «белая лилия, кувшинка». Как видим, в данном случае объяснение, сводится к характеристике растительности самого озера.
И, наконец, третья версия, на мой взгляд наиболее прагматичная, самого А. Рогалева: название здешнего озера проистекает от древнейшего финно-угорского, а точнее карельского слова "леппа" – ольха. Подобных названий, в основе которых лежит это слово, в Карелии, Мордовии, и Архангельской и Вологодской областях множество.
Далекие предки финно-угров селились по берегам рек и озер. Они занимались охотой и рыболовством и не знали землепашества. Первостепенное значение в их жизни играл окружавший их мир. Оттого и кумирами их были просто деревья, валуны, цветы, рыбы и звери. Финно-угры молились им и обозначали их именами места своих поселений.
ВЛАДЕЛЬЦЫ
Д.И. Дявгало, белорусский краевед начала XX в., сообщает, что первое летописное упоминание о Лепеле относится к 1439 г., когда сын Сигизмунда Кейстутовича Михаил Сигизмундович подарил земли этого поместья Витебскому римско-католическому приходскому костелу.
В 1541 г. Сигизмунд Старый с соизволения Римского папы отнял у Витебского костела Лепель и передал его Виленской римско-католической капитуле.
В 1568 г. Лепель перешел в пожизненное владение полоцкому каштеляну Юрию Николаевичу Зеновьевичу, который вместе с этим получил титул старосты Лепельского, державца Чечерского и Пропойского.
После смерти Юрия Зеновьевича Лепель перешел к полоцкому воеводе Николаю Монвиду Дорогостайскому, который правил им до 1579 г.
Король Стефан Баторий в 1579 г. отнял у Дорогостайского Лепель и возвратил его Виленской римско-католической капитуле.
В 1586 г. Виленская капитула продала Лепель за 1200 коп грошей канцлеру Великого княжества Льву Сапеге. Королевское подтверждение этого было получено 12 февраля 1589 г.
В 1609 г. канцлер Лев Сапега подарил оба Лепеля – Новый и Старый – монахиням бернардинкам, для которых он построил в это время монастырь в Вильне. 13 мая 1617 г. главный Литовский Трибунал утвердил этот дар. С этого времени все интересы властей здешнего уголка были направлены к тому, чтобы заплатить вовремя своим владельцам известный оброк.
БЕРЕЗИНСКИЙ КАНАЛ
Директор местного краеведческого музея Алина Стельмах любезно предоставила мне материалы научно-практической конференции, посвященной перспективам Березинской водной системы. На этой конференции был и ее доклад.
Березинский канал – это искусственный водный путь, который связал в начале XIX в. бассейн Западной Двины с бассейном Днепра. Он был построен в 1797–1805 гг. русским правительством на месте старого торгового пути.
Беларусь обладает превосходной возможностью пользоваться водными путями сообщения. Просто пока не использует эту свою возможность. Один из путей «из варяг в греки», то есть из Балтийского моря к Черному, пролегал именно здесь, на Лепельщине. Из Березины торговый путь шел до водораздела между Сергучем и Эссой, откуда принимал северное направление: Лепель, Чашники, Бочейково.
Этот путь использовался еще в XVI в. Согласно ревизии Полоцкого воеводства 1586 г., сделанной подскарбием дворным Великого княжества Скуминым и подскарбием дворным витебским князем Ю. Друцким-Соколинским, «путь из Лепеля до Риги очень сносный для больших судов». А именно «начиная от замка, Лепельским озером в реку Уллу, той рекою вниз в реку Двину под самым замком Уллой. От Лепеля до Двины 18 миль. Другой водный путь из Лепеля в Днепр. Начав от замка тем же озером Леплем в речку Берестычу (Эсса), той рекою вверх в реку Оконицу, этой рекою вверх в озеро Оконо, а от того озера волоком через лес полмили до озера Плавно: из этого озера в речку Сергуч, той же речкою вниз до Березины: рекою Березиною вниз до самого Днепра. Протяжение всего этого пути от Лепеля до Березины 7 миль. Этим путем, как нам передавали старые люди, и раньше переправляли нагруженные струги из Лепеля в Киев, ровно и из Полоцка хаживали, и через волок, сгрузив струги, перетаскивали, платя рабочим за это перетаскивание от каждого струга по мешку соли».
Мысль об устройстве канала для соединения верховьев рек, текущих к морям Черному и Балтийскому, прозвучала впервые в 1631 г. на Варшавском сейме. Там была предложена конструкция канала, который соединил бы верховья Березины и Вилии.
Всплеск строительства каналов в России (самых дешевых видов сообщения) пришелся на конец XVIII в. Российскими властями было принято решение строить только на территории одной Беларуси сразу несколько водных систем: Днепро-Бугский, Августовский каналы и канал Огинского. Такой же бум строительства каналов в тот период случился и в Западной Европе.
В это время в архиве Борисовского земского суда был найден, без надобности пролежавший 150 лет, проект перекопа. Это был проект некоего Мартина Бадени, «польского инженера», который первым официально указал на чрезвычайно удобное соединение двух озер Плавно и Береща, расположенных на водоразделе, всего в 7 верстах друг от друга. Причем воды озера плавно текли по направлению к Черному морю (Сергуч – Березина – Днепр), а воды озера Береща – к Балтийскому (Береща – Улла – Западная Двина).
Забытый проект Бадени попал в Петербург. И первым обратил на него внимание русского правительства историк Тадеуш Чацкий. Он сумел доказать экономическую выгодность, целесообразность этого проекта. «Весною и осенью проводятся плоты водою из Березины до Палика, – писал Чацкий, – где уже вытаскивают их на сушу и оставляют на месте до первой санной дороги: оттуда лес доставляют на санях в Латыговичи и на другие пристани верхней Эссы, где он сплавляется опять и, таким образом, может он по Улле и Двине дойти до Риги едва только на третий год своего странствования».
Проект Бадени заинтересовал управляющего водными путями России графа Сиверса. На место был послан генерал-майор Германн, который позже донес: «Соединению Днепра с Двиною посредством Березины и Уллы не представляется ни каких естественных препятствий». И выставил на рассмотрение уже свой план перекопа.
Формальное утверждение Павлом I плана последовало в 1797 г.: «Император соизволяет на соединение Двины с Днепром посредством Березины». Государственному казначею Васильеву из требуемой суммы 329 337 рублей поручено отпустить на первый раз 80 тысяч рублей, а остальные – в течение 1798-99 гг. Мельницы на Улле и Сергуче предполагалось откупить. Вводились должности директора, трех надзирателей, одного кассира, одного регистратора, одного писца и по одному шлюзовому и плотничьему мастеру.
«Мысль прорыть всего один канал между озерами Плавно и Берешта по почти совершенно ровной местности, длиною всего лишь в 7 верст, и за такую сравнительно дешевую цену установить водное сообщение между Черным и Балтийским морем, – находим дальше важную историческую цитату в докладе А. Стельмах, – очевидно, казалась в то время настолько заманчивою, что решено было приступить к работам немедленно, без надлежащих изысканий, руководствуясь, главным образом, найденным в Борисовском земском суде проектом; причем все сооружения для ускорения работ предложено было сделать, на первое время, из дерева».
Непосредственное исполнение проекта было возложено на генерала Фрейнганга под наблюдением инженера генерала де Витте. Общее руководство осуществлял Сивере, который с 1798 г. возглавил только что созданный департамент водяных коммуникаций.
Первая выполненная работа по каналу относится к 1799 г.
В 1799 г. был готов Отводной (осушительный) канал. Оказалось, что вместо четырех шлюзов потребовалось целых четырнадцать. Кроме того, прорытие канала потребовалось на 10 верст больше.
В 1801–1802 гг. между озерами Плавно и Береща был прорыт Соединительный канал длиною 7 верст и 13 саженей.
Вот те российские гидротехники, которые принимали непосредственное участие в строительстве Березинского канала: инженер генерал фон Сухтелен, инженер генерал де Витте, тайный советник И. К. Герард, инженер генерал-лейтенант де Волонт.
Официально считается, что строительство завершено в 1805 г. В этом году по Соединительному каналу кое-как пробралась барка. Она уже через несколько минут после отсылки донесения об открытии судоходства засела в Сергуче.
Работы на канале продолжались до 1809 г. И обошлись казне в полтора миллиона рублей.
Вместо намеченного по плану одного канала между озерами Плавно и Береща образовалась целая система каналов и шлюзов. Поэтому канал впоследствии был назван Березинской системой. Общая длина его составила 159 километров. Построено 14 шлюзов, 6 плотин, прорыто 6 каналов.
Березинский канал обеспечивал проход судов и сплав леса из Могилевской, Минской и Витебской губерний в Прибалтику. Через Днепр он связывал Малороссию с рынком в Риге. Но главное, эта система оказала существенное влияние на развитие самого Лепеля. Между прочим, ежегодно по Березинской системе сплавляли леса в среднем на сумму 750 млн. рублей серебром. Эту цифру я привел, чтобы указать на окупаемость и экономическое значение этого сооружения.
Березинский канал интенсивно эксплуатировался до Второй Мировой войны. При этом все проекты переустройства его или хотя бы капитального ремонта оказались неосуществленными. Сплав леса здесь продолжался до конца 1950-х гг.
КОСТЕЛ СВЯТОГО КАЗИМИРА
Алина Стельмах в брошюре «Святы Казiмiр у Паазер'i» продолжила свое исследование истории города на примере еще одного его памятника – костела. Сведения она черпала из книги Дмитрия Ивановича Дявгяло «Лепель, поветовый город Витебской губернии».
Около 1602 г. канцлер Великого княжества Лев Сапега задумал построить в местечке Новый Лепель костел. В 1604 г. храм был возведен и на него составили фундаторскую запись, которую через 6 лет утвердил король.
По-видимому, тот первый костел был деревянным. В 1654 г. ксендзом Млынецким была проведена его ревизия. Из нее явствует, что храм имел вид полуовального корабля (figurae semiovalis). Больших окон в нем имелось всего 3, маленьких – 2. Пол выложен был из неправильного кирпича. Крыльцо соорудили из кольев. Около костела, на погосте, была устроена колокольня в виде башни. На ней висело 3 колокола, один из которых весил 8 пудов. Внутри храма располагалось 3 алтаря. Плебания находилась рядом с костелом. За ней стояла каменная баня. Костелу принадлежали 18 подданных, которые жили в окрестностях Лепеля. Храм сгорел 8 сентября 1779 г. во время пожара в местечке.
В том же 1779 г. был построен новый костел. Этот соорудили из тесаного леса и на каменном фундаменте, размерами 15 на 8 и 2/3 сажени, с двумя башнями по 10 саженей высоты каждая и с двумя кирпичными подвалами. В ночь с 27 на 28 апреля 1833 г. в Лепели случился сильный пожар, который уничтожил четверть города, в том числе и костел.
8 марта 1857 г. в своем указе за № 558 Могилевский архиепископ, митрополит римско-католических церквей Российской империи, сообщил на имя лепельского декана ксендза Керановского о разрешении помещику Мальчевскому строить каменный костел в Лепеле. В город был доставлен проект архитектора Мачулевича.
Местный помещик коллежский асессор Петр Антонович Мальчевский предложил построить костел на свои собственные средства и в тот же год летом начал закладку фундамента. Но, кажется, импульсивный пан Петр не рассчитал ни средств своих, ни сил – строительство уже через два года было остановлено. Средствами костелу могли бы помочь парафияне и римско-католическая коллегия. Но Мальчевский был против. Почти двадцать лет продолжался долгострой.
В 1876 г. после смерти Петра Мальчевского его сын Людвик продолжил работы по возведению костела. Он сделал окна, двери, пол, оштукатурил стены внутри и возвел каменную ограду.
8 декабря 1876 г. храм был освящен в честь святого Казимира (кстати, сына той самой королевы Елизаветы, которая тонула где-то на белорусских реках). В тот же день состоялась панихида по умершему фундатору костела.

Но строительные работы продолжались и после освящения храма. В 1881 г. была выстроена плебания. А в 1889 г. привезены органы с Чашницкого и Белыничского костелов, из частей которых мастер Шульц сделал один орган на 12 голосов.
Известно, что иконы, украшавшие костел Святого Казимира, были выполнены по заказу княгини Лубянской, а также – мастерами Санкт-Петербургской академии художеств и являлись копиями известных творений: «Освобождение Святого Петра из темницы» Милири и «Святой Антонии» Мурилье. При входе в ризницу на стене был укреплен крест, известный еще с 1746 г. Его украшал наклад из серебра.
Служба в костеле продолжалась до 4 марта 1935 г. Какое-то время храм использовался не по назначению – в нем размещался гараж, стояли трансформаторные будки. Тем не менее, судьба его оказалась более счастливой, чем судьба Преображенского собора 1844 г., который находился в самом центре города и в 1950 г. был разобран.
УШАЧИ
(сентябрь, 2005)

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Древнейшее поселище на реке с финно-угорским названием Шача. И, конечно, слово это связано с растительным или животным миром, преобладающим в данной местности…
Официально же отсчет жизни здешнего поселения начался с 1624 г. Ушачи в то время принадлежали полоцкому стольнику Юзефу Кленовскому. Это имение было пожаловано ему полоцким воеводой за верную службу. В 1653 г. стольник умер. И имение перешло к Радзиминским-Францкевичам. А. М. Кулагин в книге «Памяць» за 2003 г. сообщает, что в 1677 г. местечко Ушачи перешло к Давиду Радзиминскому-Францкевичу, который со своей женой основал тут базилианский монастырь. Последний просуществовал вплоть до 1835 г., пока его монахи не выступили против изменения статуса их обители в пользу православия.
После Радзиминских-Францкевичей имение принадлежало Щитам. В начале XVIII в. владельцы Ушач – Жабы. Полоцкий стольник Иероним Жаба жил в Ушачах вместе со своей женой Катериной Протасевчевой. Это была их главная резиденция. А. М. Кулагин сообщает, что в 1716 г., уже будучи подвоеводой полоцким, Иероним Жаба вместе со своей женой основал в Ушачах костел и монастырь доминиканцев, переданный в 1863 г. православному ведомству.
В середине XVIII в. имение в качестве приданого отошло к Плятерам.
ДОМИНИКАНСКИЙ КОСТЕЛ
В местной газете «Патрыёт» за 24 декабря 2003 г. нахожу материал, подписанный «ксяндзом Ежи», составленный по польской книге «Сведения о доминиканцах Литовской провинции».
Доминиканцев в Ушачи привел подвоевода полоцкий, полковник гусарского флага Иероним Жаба вместе со своей женой Катериной в 1716 г.
Последнее приобретение доминиканского монастыря – фольварок Замошье, находящийся в миле от Ушач.
Костел был освящен в честь Святого Иеронима. Кирпичное строение возвели в 1787 г. в архитектуре барокко. Оно имело две башни, на которых располагались 3 колокола и часы, и было освещено 11 большими и 20 малыми окнами. Изнутри храм украшали 7 алтарей и озвучивал орган на 12 голосов.

Двухэтажное здание монастыря возвели одновременно с костелом. Оно тоже было из кирпича. Отличительной особенностью его являлось то, что оно не соприкасалось с костелом. На первом этаже располагалась квартира игумена с двумя комнатами, трапезная и две одноместные кельи. На втором – семь одноместных келий.
Во дворе располагались хозяйственные строения: пивоварня, баня, а также школа, больница.
С 1787 по 1807 гг. игуменом монастыря был отец Яцек Уленовский. Именно при нем в 1796 г. и были завершены работы по строительству костела и всех других монастырских построек. Постоянно в монастыре жило 7–8 монахов.
О ТОМ, КТО БЫЛ, КАЖЕТСЯ, БЛИЗОК К МЕЧТЕ (о Василе Быкове)
В этой книге выступаю как популяризатор белорусской истории. Поэтому принужден говорить именно об интересном и вечном.
Когда узнал, что на Ушаччине, в Кубличах, создается музей писателя Василя Быкова, тотчас понял, что эта инициатива будет прекрасной добавкой к путешествию в здешний город. Еще бы, ведь там, в Кубличах, родился гений.
Вот всего несколько выписок из тех знаменитых трех абзацев его «автобиографии».
«Родился 19 июня 1924 г. около Кублич… С дошкольного возраста пристрастился к книгам. Читал без разбора все, что попадало в руки. Час без книжки представлялся пустым и неинтересным… Часто жилось в неполадках, нужде. Наверно, по причине некоей инстинктивной душевной самозащиты с малолетства ощутил стремление в свет выдуманного…
…Однако на фронте все оказалось куда более тяжелым и сложным. В первом же бою погиб друг, с которым я приехал из училища… Иногда я думаю, что и человечество еще не до конца усвоило, от чего оно избавилось в минувшей войне, что приобрело и сколько стоили те его приобретения…
…Первые рассказы написал в 1951 г., находясь на офицерской службе в рядах Советской Армии… Несколько вещей считаю неудавшимися, в других, кажется, был близок к мечте, на которую нацеливался. Но теперь вижу, что все тот же бастион великой правды о войне по-прежнему сурово высится в облаках прошлого, и чтобы добраться до его вершины, очевидно, мало одной настойчивости… надо карабкаться на нее, ибо, как писал Генрих Бёль, человек перестает быть художником не тогда, когда создает слабое творение, а в тот момент, когда начинает бояться всякого риска».
КУСОЧКИ ЧИСТОГО НЕБА (о пансионате «Лесные озера»)
От этой сентябрьской поездки в Ушачи у меня остались самые приятные воспоминания. И без того преданный Беларуси, как любимой женщине, должен был еще раз убедиться в красоте и обаянии ее земли.
Теперь буду знать, что кроме Мядельщины и Браславщины у нас есть еще один удивительный уголок, «где будто бы разной формы кусочки чистого неба упали на землю».[3]3
Т. Хадкевич
[Закрыть] От чистого сердца призываю: посетите эти места, у вас появится стимул жить и любить жизнь. Я увидел тамошние Лесные озера, искупался в одном из них и до сего времени испытываю упоенность, что побывал в Раю.
По тем сведениям, которые мне любезно предоставили в библиотеке вышеуказанной здравницы, Барковщинские целебные воды, принадлежащие ныне Ушачскому пансионату «Лесные озера», упоминались на швейцарских курортах еще в 1502 г.
В письменных источниках за 1704 г. сообщается о «замечательной ушачской криничке с целебной водой». Эта вода оздоравливала даже неизлечимых: возвращала зрение, способность любить, меняла само мировоззрение.
В первой трети XIX в. здесь, всего в нескольких километрах от Ушач, на старой дороге Лепель – Полоцк была построена первая лечебница. В 1843 г. медик и химик Янт специально прибыл сюда и исследовал химический состав удивлявших всех своей целительной силой вод.
В «Памятной книжке Витебской губернии за 1864 г.» находим следующие сведения. Ну, во-первых, Барковщина это была дача, располагавшаяся в одноименном урочище. Принадлежала она так называемому Судзиловскому имению, которое, в свою очередь, находилось в ведомстве государства. Как бы там ни было, но в 1855 г. врач Немировский сумел создать здесь вполне современный по тем меркам частный санаторий. Здравница имела следующую технологическую структуру: выходы подземных вод были закрыты в пяти деревянных срубах. Вода из срубов по деревянным трубам самотеком, как в Петергофе, подавалась в два деревянных ванных павильона, построенных на фундаменте из крупных камней. В каждом павильоне находились комнаты с ваннами (всего 16 ванн). Кроме того, имелось три дома, где жили больные и обслуживающий персонал.
В год в этом санатории господина Немировского лечилось не менее 300 человек. Причем, не только с Витебщины, но и из России, Германии, Польши, Франции. Швейцарский специалист по санаторному печению Рабо, посетив этот курорт, назвал его среди лучших европейских здравниц подобного типа.
В 1919 г. на территории урочища был открыт государственный санаторий.
В 1920 г. Институт Белорусской культуры направил комиссию для изучения Барковщинского родника. Заключение комиссии было напечатано в 1930 г. в журнале «Наш край» в № 53: «Баркаушчына мае крынiцы с жалезстымi сернымi водамi, якiя па сваёй якасцi не уступаюць мiнеральным водам Кауказа i надзвычай карысныя для хворых рэуматызмам, паралiчом нервнай сiстэмы».
Это заключение подвигло правительство принять решение о дальнейшем расширении санатория. В 1930 г. были введены в строй 3 корпуса для больных, павильон на 24 ванны и подсобные помещения. Минеральная вода подавалась уже из артезианской скважины.
Во время Великой Отечественной войны оккупанты использовали санаторий по прямому назначению. Однако в 1944 г., уходя, полностью уничтожили его.
После войны на месте руин был построен дом отдыха. В 1999 г. он реорганизован в пансионат с лечением на 150 коек. В летний период в домиках размещается дополнительно 300 человек.
В 2003 г. в строй введен лечебный корпус. Пансионат оказывает услуги по оздоровлению органов дыхания, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Для лечения больных создана база: физиотерапевтический кабинет, кабинет магнитолазерной терапии, кабинет электросна, кабинет сухих углекислых ванн, спелеотерапия, водолечение (всевозможные ванны и души), ингаляторий, зал ЛФК, тренажерный зал, кабинет фитотерапии, кабинет иглорефлексотерапии, массажные кабинеты, кабинет функциональной диагностики, процедурный кабинет, кабинет теплолечения (парафино-озокерит), кабинет гидропатии.
Вот и еще одно прекрасное место для организации на постоянной основе встреч по обмену профессиональным опытом. Само по себе оно – уже памятник истории, потому что имеет важное и полезное прошлое, вдобавок является еще и памятником природы. А на природе, как известно, проблемы решаются гораздо проще.
Будьте же благословенны и место это, и здешняя древнейшая дорога, петляющая по холмам и открывающая удивительные виды, и, конечно, здешние недра, искони назначенные продлевать человеку жизнь.