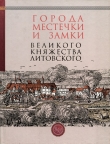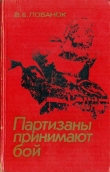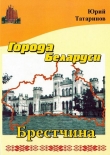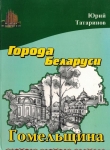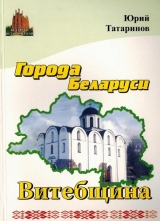
Текст книги "Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Витебщина"
Автор книги: Юрий Татаринов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
ТОЛОЧИН
(март, 2005)

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ
Впервые Толочин упоминается в 1433 г. как местечко в составе Великого княжества. В то время он входил в Оршанский повет Витебского воеводства. Старинное слово «толочея» обозначает торговое место, перекресток торговых путей. Известно, что именно через это местечко проходил торговый путь, связывавший Московское государство с городами Великого княжества. Здесь же скрещивались торговые тракты купцов, следующих из Могилева к Борисову и Минску. Н. В. Шаврук в книге («Памяць» сообщает, что в начале XVII в. многие могилевские купцы имели свои магазины в Толочине и торговали на ярмарках и рынках («таржках»).
Что касается дорог, имевших место когда-то здесь быть, то о них сообщает в газете «Наша Талачыншчына» местный краевед А. Шнейдер. Он пишет, что в XVII в. путь из Могилева в Толочин был весьма непростым и в подтверждение этого приводит свидетельство секретаря Священной Римской империи Иогана Георга Корбы: «Бесконечные леса, неразъезженные дороги, заслоненные деревьями и нависшими ветвями, часто задерживали нас. Мы безуспешно пробовали пробиться через эти тесноты. Чтобы проложить путь, приходилось ломать сучья, рубить многолетние деревья». Помимо физических трудностей проезжие претерпевали и душевные. На этих дорогах было неспокойно. В Могилеве даже создали специальный фонд для оказания денежной помощи купцам, пострадавшим от ограблений на дорогах. В связи с разбойными нападениями упоминается и Толочин. В конце XVIII в. на территории края появляются так называемые Екатерининские тракты. Это были уже другие, достойные дороги и оценивались они иноземцами уже иначе: «Весь путь от Смоленска до Толочина был хорошим, обсажен деревьями, дальше же по территории Речи Посполитой было не проехать».
Генерал-майор Михаил Осипович Без-Корнилович в своей книге о Беларуси сообщает, что в начале XVII в. Толочин принадлежал Сапегам. В 1604 г. канцлер Великого княжества Лев Сапега основал тут костел, открыл школу и больницу для бедных. Вот как ответил сам канцлер магнатам, которые удивлением и настороженностью оценили этот неожиданный подарок беднякам: «У вас холоп – холопом, у меня – вельможны, потому что если я холопа поддерживать не буду, тогда и я ясновельможным не буду».
Толочин времен Сапегов был деревянным, одноэтажным. В 1621 г. в нем насчитывалось 314 дворов, на каждый из которых приходилось по 6, 6 десятин.
4 октября 1634 г. город получил «Магдебургское право». Вручив его своему городу, канцлер Сапега надеялся добиться больших денежных прибылей. Но власти не торопились перечислять деньги для города. По польским законам городом называлось поселище, которому предоставлялось право вечной земельной собственности. Толочин же находился на земле Сапегов, то есть мог быть продан. От того – по-видимому, неизвестен тогдашний герб этого поселения. То есть, он мог быть просто неутвержден.
В 1656 г. сын Льва Сапеги передал местечко по завещанию («духовной») в личную собственность Александра и Евстафия Шемиотов.
А.С. Дембовицкий сообщает, что во время Северной войны, которую Россия вела в союзе с Речью Посполитой против Швеции, в Толочине какое-то время квартировал известный приближенец Петра I князь Александр Меньшиков. По крайней мере, именно из этого города он 16 июня 1708 г. выслал письмо своему императору. В частности, в этом послании высказывалась важная и оказавшаяся верной догадка о дальнейших планах Карла XII, а именно то, что тот намерен двинуть свою армию в Малороссию к Киеву.
В 1772 г. Толочин сделался пограничным пунктом. Именно в этом городе, как важном населенном пункте на пути из Польши в Москву, учредили таможню. Самое интересное, что пограничная полоса проходила… по городу. Восточная часть Толочина вошла в состав Российской империи и стала именоваться Старый Толочин, а западная (за рекой Друть) – Новый Толочин. Так продолжалось не много – не мало двадцать один год.
О КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Светлана Васковская, методист Центральной системы библиотек Толочина, любезно предоставила мне сведения из истории местной церкви. Перипетии судьбы этого храма так же сложны, как судьба всего белорусского государства.
Если следовать только официальным источникам, то история культовых сооружений Толочина начинается в 1604 г., когда по распоряжению Великого канцлера Льва Сапеги здесь был построен костел. Возможно, он был из дерева. Как бы там ни было, но в 1769 г. князь Сангушко на этом самом месте отстроил новый храм, каменный, в стиле позднего барокко (рококо). Изначально сооружение предназначалось для основанного здесь базилианского монастыря, поэтому вернее его было бы назвать «церковыо». В 1779 г. на территории монастырского двора был построен из кирпича двухэтажный жилой корпус.
Известно, что в 1804–1807 гг. в монастыре еще проживало 5 монахов-базилиан, в заботу которых вменялось содержание уездного училища.

В 1804 г. храм был передан православным. И с тех пор его величают Покровской церковью. В нем два иконостаса: первый деревянный – был привезен из церкви села Великая Лысица Несвижского района в XX в., а второй каменный – сооружен в XIX в.
Послабление политики властей в отношении часто восстававших поляков выразилось в строительстве на территории Беларуси сотен новых католических сооружений. Эта грандиозная стройка началась в самом конце XIX в. Несмотря на то, что католиков в самом Толочине в этот период было всего 6 % от общей численности населения города, здесь на рубеже двух столетий был воздвигнут в формах эклектики костел, который освятили в честь святого Антония. Каменный храм привлекает внимание. Его стройность и монументальность подчеркнута удачным размещением: храм стоит при въезде в город на природном возвышении. До 1960 г. рядом с ним находилось еще более высокое строение – трехъярусная колокольня.
У генерала Без-Корниловича находим:[1]1
Книга Без-Корниловича «Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии», 1855 г.
[Закрыть] «В настоящее время Толочин довольно обширное местечко, в котором евреев мужского пола считают до 1000 душ». Действительно, в середине XIX в. 71 % от общей численности населения города составляли евреи. К примеру, православных жителей было 23 %. Евреи занимались в основном торговлей. «Здешние евреи производят довольно значительную торговлю пенькой, лесом и хлебом, отправляя эти произведения к Двинским пристаням». Такая численность еврейского населения выражалась и в количестве синагог и школ при них. Таковых в Толочине было аж четыре. И делились они не по семейным связям и даже не по степени благополучия, а чисто по профессиональным признакам.
НАПОЛЕОН В ТОЛОЧИНЕ
Знаток войны 1812 г. В. Лютынский поправляет кое-какую неточность наших ученых мужей, сообщает, что император Наполеон, возглавляя поход своей «Великой армии» на Россию, прошел севернее Толочина – через Глубокое, Ушачи, Витебск. А в Толочине побывала часть этой армии во главе с генералом Жюно из корпуса маршала Даву.
Зато после своей авантюры, которая, как известно, ничего, кроме разорения и гибели людей, не принесла, остатки той армии во главе уже с самим императором, отступая, прошли через Толочин.
Наполеон вошел в город пешком, при этом был молчалив и хмур. На бесконечные донесения, которые рушили остатки его уверенности, отвечал односложно: «Неправда!» В Толочине он получил самое страшное для себя из всех известий: русские захватили укрепления на Березине и перекрыли дорогу на Минск. По свидетельствам П.Ф. де Сегюра, адъютанта Наполеона, император при получении этого известия в гневе ударил тростью о землю и, указав на небо, закричал: «Должно быть, там, наверху, написано, чтобы в этом походе мы делали сплошные глупости!» И тогда он приказал собрать все боевые знамена – «орлы» – и сжечь их в его присутствии. В. Лютынский уверен, что это событие произошло именно в Толочине и считает ошибочным то, что художники Косак и Фалат перенесли этот кульминационный эпизод восточной компании в своей панораме «Березина» на заснеженный берег знаменитой белорусской реки.
Известно точно, что Наполеон прибыл в Толочин 22 ноября и что он остановился в двухэтажном жилом строении бывшего базилианского монастыря.
Император не спал всю ночь, провел совещание с генералом Доде, который предлагал свернуть и пойти на Лепель в сторону Глубокого. В три часа ночи Наполеон вызвал генерала Коленкура, спросил его о возможности переправы через Березину по льду, который только-только укрыл реку. Тут, в Толочине, было принято решение сжечь архивы армии, эмблемы корпусов, оставшиеся экипажи и повозки с награбленным добром.
В «Мемуарах» Коленкура хорошо показана суть самой личности Наполеона. Одержимый маниакальной идеей быть правителем всего мира, этот человек дошел в своей болезни до предельных границ. Ему говорят, что отступать некуда: Минск и борисовский мост через Березину уже в руках противника, что надо сдаваться, а он отвечает: «Положение действительно серьезное. Вопрос осложняется. И все же если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно сил, для того чтобы пройти по трупам русских, если действительным препятствием будут их войска». Думаю, этот человек был не от мира сего – в Толочине он вдруг окрылился бредовой идеей, возмечтал о воздушном шаре. Ненависть к врагу и мания величия – вот те два столпа, на которые он опирался. В ту ночь в Толочине он сказал следующее: «Я лучше буду до конца кампании есть руками, чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой». Этого человека можно было уважать только за личную смелость. «Надо удостовериться, в хорошем ли состоянии мое и ваше оружие, так как придется драться», – сказал он в ту ночь. Он никогда не стрелял – но всегда был к этому готов.
Именно в Толочине Наполеон озвучил свою знаменитую фразу о М. И. Кутузове: «Что касается Кутузова, то он воевать не умеет. Когда завязывается бой, он дерется с отвагой, но он ничего не понимает в большой войне».
Из Толочина император выехал 23-го. Арман де Коленкур вспоминает про то утро: «Хотя мороз был еще сильный, но небо было покрыто облаками, грозила оттепель, и во всяком случае мог пойти снег. Больные замерзали по ночам возле бивуаков. Так как люди были небрежны, а добывать фураж и воду для лошадей было трудно, то лошадей погибло очень много.
Мой адъютант Жиру, который после своего ранения под Красным ехал в моей коляске, умер ночью. Он был без сознания в течении двух дней».
Следом за французами шли авангардные части русской армии под командованием генерала М. А. Милорадовича. Еврей Есель, житель Толочина, прибыв в его ставку, докладывал: французы «не знают, что делать, куда идти, целей не имеют, не знают, где находится Наполеон. Одни говорят, что он один ускакал, другие – что он идет с кавалерией, а большинство предполагают, что они окружены и – всем капут. Войска совсем растеряны, и много кто желает сдаться». Первым в местечко ворвался отряд генерала Ермолова. В плен удалось взять около 600 солдат и офицеров наполеоновской армии. Для многих из них это стало спасением от голодной смерти и холода той ранней белорусской зимы.
Из ведомости смоленского губернского прокурора Иванова от 2 мая 1813 г. узнаем о разрушениях, которые принесла городу та далекая, но ужасная война: «В Толочине сожжено 2 католических костела, плебанский двор со всеми постройками… казенный почтовый дом со всем. Магазинов деревянных 30. Домов в местечке… с 287 по обеим берегам реки Друть сожжено 56… Остальные 192 – разрушены, а 39 – стоят пустые». Тот год народ еще долго называл «разоренным»…
КЛАССИК ПЕСНИ, ИЛИ ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ (об Ирвине Берлине)
В январе 2005 г. в районной газете «Наша Талачыншчына» была опубликована статья А. Карлюкевича и А. Шнейдера об американском композиторе Ирвине Берлине. «…Будущий классик песни, в честь которого в 2002 году была выпущена почтовая марка США, родился в местечке Толочин Могилевской губернии (сейчас Витебская область Беларуси) в семье Мойши и Леи Бейлин. В мае 1888 года получил имя Израиль. В Толочине в то время жило 300 еврейских семей… В 1893 году семья переехала в Нью-Йорк. Отец, приучивший мальчишку к пению, вскоре умер…»
Подросток поначалу работал в китайском ресторанчике. Затем пел на улице. Гонорар благодарных слушателей составлял, как правило, несколько центов в день. В 1907 году опубликовал первую свою песню «Мери из солнечной Италии».
Слава пришла к Ирвину после сочинения им песни «Боже, благослови Америку», ставшей гимном страны. В 1938 г. 11 ноября в исполнении Кейт Смит песня-гимн впервые прозвучала по американскому радио. Ее душой и сердцем навсегда подхватили все Соединенные Штаты…
На этот раз гонорары полились рекой. Композитор даже учредил фонд песни. А авторские права и все будущие гонорары завещал Американской ассоциации скаутов.
Ирвин Берлин прожил 100 лет и написал 1000 песен. Он является одним из родоначальников американского джаза. Если в Толочине будет организован и станет проводиться на постоянной основе фестиваль джазовой музыки, чем-то неожиданным это не станет, по крайней мере для американцев, которых следует обязательно пригласить.
ВЕРХНЕДВИНСК, или ДРИСА
(март, 2005)

О НАЗВАНИИ
Раиса Овчинникова, председатель секции топонимики Географического общества республики, в газете ЛiМ от 6 марта 1998 г. называет переименование города Дриса в Верхнедвинск, произошедшее в 1962 г. «неудачей» и «бессмыслицей»: «Как географ, я не могу без сопротивления сознания принять эту географическую бессмыслицу». «Всем известно, – поясняет автор статьи, – что Верхняя Двина находится в Тверской губернии. Вместе с экспедицией латышского фонда культуры мне пришлось изучать топонимику верховьев Западной Двины. Недалеко от истоков реки находится город, который так и называется – Западная Двина. Название его за советским временем несколько раз переименовывали, но вернулись к исходной форме».
Неизвестным экспертам название здешнего города показалось непристойным… На самом же деле название Дриса при его научном анализе является скорее поэтичным, чем непристойным. Основа его в древнейших, тысячелетней давности балтско-финских пластах. «Название реки, – сообщает географ Овчинникова, – вторично, оно происходит от названия озера Дрисы в Россонском районе». Слово сложено из двух основ, достаточно распространенных в Беларуси. (Вспомним, хотя бы, название озер на Браславщине: Дрывяты, Дрысвяты, Друя). Основа «дры» означает «вода», основа «ты» или «сы» – «озеро». Так что расшифровка названия Дриса звучит очень определенно – озерная вода. В основе этого названия термины, которые прошли длительный исторический путь и укоренились в обозначении или имени данного места. Так что неожиданное и совершенно необоснованное переименование их – это, по меньшей мере, неграмотность. Кстати, вольный перевод старого, укорененного в веках названия города Дрисы таков: «город на реке, которая вытекает из озера». Если уж он не так красив, то по крайней мере трогателен.
Мы так много говорим о любви к родине. Еще больше чего-то ожидаем от этого понятия. Оказывается, нам надо не говорить и не ждать, а просто быть последовательными в своих делах и поступках.
ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
Летописи говорят, что в 1374 г. Андрей Полоцкий ходил против немецких рыцарей к замку Динабург. Вместе с ним в этой компании участвовали и «одриские» князья. В это время Великое княжество достигло своих предельных размеров. В него входили Полоцк и Дриса.
В 1386 г. полоцкий князь Андрей Ольгердович пришел в Дрису и сжег там замок, являвшийся основной крепостью этого города и располагавшийся в углу между реками Западная Двина и Дрисса. Тем самым он продемонстрировал свою ненависть к брату-предателю – Ягайле, который, заключив Кревскую унию и сделавшись польским королем, фактически поставил взращенное его отцом и дедом государство в статус колониального, зависимого от Польши.
Еще одно летописное упоминание о Дрисе содержится в жалованной грамоте все того же Андрея Ольгердовича полоцкому монастырю на бобровые гоны по реке Западная Двина в 1399 г.: «А се аз Великий князь Андрей Полоцкий дал есми святой троице реку Звану з гоны з бобровыми, от Звана, от запада, до рисы».
В трактате за 1503 г. между королем Александром и Московским Великим князем Иваном III о Дрисе упоминается как о волости Великого княжества. Это же подтверждает перемирная грамота от 25 марта 1556 г., царя и Великого князя Московского Иоанна Васильевича с польским королем Сигизмундом Августом: «А мне Великому государю Ивану, Божиею милостью царю и Великому князю всея Руси, твоих великого государа Жигимонта Августа, короля Польского и великого князя Литовского и Русского, земель не воевати, не зацепляти ничем в те перемирные лета, в шесть лет… города Полоцка и волостей Мошников, Дрисы, Освия».[2]2
В этой грамоте обращает на себя внимание правописание слова «Великому» и «великого».
[Закрыть][2]
О КОЕ-КАКИХ БЫВШИХ СООРУЖЕНИЯХ
Генерал М. О. Без-Корнилович сообщает, что укрепленный замок, взятый и сожженный разгневанным князем Андреем Ольгердовичем стоял на береговой высоте, лежащей в самом углу – «в промежутке рек Дриссы и Двины». В последствии, а именно в 1565 г., замок был вновь отстроен по повелению короля Сигизмунда Августа, которому это местечко тогда принадлежало. Замок был снабжен орудиями и снарядами.
К середине XIX в. от прежних укреплений не осталось и следа – вал был раскопан, ров засыпан. На месте самого замка поставили Еврейский дом, который отдавали в наем под почтовую станцию. Около той станции на устье реки Дрисса действовал паром.
Впрочем, о переправах через реки более подробно есть в «Памятной книжке Витебской губернии на 1864 г.» Для сообщения жителей с деревней Путры, находившейся на левой стороне реки Западная Двина, в городе был устроен, «против улицы Двинской», мост, а на реке Дриссе имелось два парома: «первый – против улицы Московской и Старой по тракту в г. Динабург, а второй – против дер. Голжева».
ДРИСЕНСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ ЛАГЕРЬ
Находился на левом берегу Западной Двины между селами Бредево Барсуки, Слобода (Путры), Щеберы, Дворчаны, на территории нынешнего Миорского района. Выбор места для его строительства был неслучаен: предусматривалось наступление Наполеона через Вильно и Гродно. Место выбирал, по заданию царя, его флигель-адъютант пруссак Вольцоген. Здесь предполагалось дать генеральное сражение главным силам Наполеона. В 1811 г. в указанном месте были проведены крупномасштабные строительные работы. Каждый день было задействовано от 2 до 10 тысяч человек местного населения, тысячи тонн земли перемещались на фурманках и тачках.
Размеры укрепления составляли 4,3 км на 3,2 км и были рассчитаны на 120 тысяч человек. Территорию укрепили редутами (земляными укреплениями прямоугольной формы), которые позволяли вести круговую оборону. Каждый редут передней линии прикрывался ложементом (окопом для укрытия пехоты и артиллерийских орудий).
Лес, который подходил к укреплению, вырубили и из бревен сделали засеку в три ряда длиной 2, 5 версты. Все редуты первой линии были обнесены тыном из бревен, а на другой линии кроме тына имелись еще и «волчьи ямы». Высота редутов достигала 5 метров.
Связь с правым берегом Западной Двины должна была обеспечиваться 4 мостами.
В 1812 г. в лагере была устроена главная ставка армии Барклая-де-Толли. 27 июня в Дрису прибыл император Александр I. Тут же организовали военный совет. Военачальники высказали мнение о непригодности Дрисенского лагеря для сражения. Но Александр I выступил в поддержку бездарного генерала Фуля, по проекту которого был построен этот лагерь. Мнения разделились. Опытный военный инженер Мишо высказал мнение о недостатках принятой позиции.
Узнав, что 1-я армия находится в Дрисенском лагере, Наполеон дал указание Мюрату перейти на правый берег Западной Двины и окружить Дрису. Французский император надеялся, что Барклай-де-Толли вступит в бой и погибнет вместе с армией «в пасти Дрисенского лагеря». Но русский главнокомандующий неожиданно отступил в направлении Полоцка.
Только на четвертый день после того, как русские покинули Дрисенский лагерь, французы осмелились подступить к укреплениям. Вот что писал об этом в своих воспоминаниях «С Наполеоном в Россию» французский доктор Г. Росс: «При непрерывном движении до главных окопов, чрезвычайно высоких и с большим количеством бойниц, у многих из нас сердце забилось вдвое и даже втрое быстрее. Чем ближе мы подходили, тем тише становилось, – не слышно было стука оружия, ни покашливания, ни один конь не заржал. В любое мгновение мы ожидали громовых залпов из жерлов орудий с этих окопов.
Неожиданно туман, который застилал нам глаза, рассеялся. Тишина сделалась сначала шепотом, а потом и роготом: за большими окопами не было ни одного орудия, ни одного солдата. Наверху ходил только какой-то мужичек, которого раньше приняли за солдата…»
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОСТЕЛ (из инвентарей)
Каменное здание костела Рождества девы Марии в Дрисе построено в 1809 г. До этого в городе находился деревянный костел, построенный в 1734 г. В документах 1740–1747 гг. говорится, что в Дрисе есть «костел деревянный на подмурку, гонтом крытый». Решение о строительстве нового, каменного храма было принято в начале XIX в., когда выяснилось, что старое здание не удовлетворяет требованиям времени. Решено было строить каменный костел и каменную Никольскую церковь.
В 1867 г. каменный костел основательно ремонтировали и перестраивали. В «Памятной книжке Витебской губернии на 1864 г.» отмечено его месторасположение: «между улицами Двинскою, Московскою и Новой каменной – римско-католический костел во имя Провидения Господня».
Документы 1868 г. свидетельствуют о ремонте алтарей, замене стекол и дверей, а также написании 14 икон-стаций. Формам башен был придан более сложный силуэт. Пристроена ризница.

Из описания костела в 1889 г.: «Стены внутри и извне оштукатурены. Имеют толщину до 111 см. Внутри стены на два аршина покрашены… под ясень (красный цвет), остальная часть оных покрашена светло-желтой краской с клеем; потолок досчатый, покрашен белой масляной краской… Алтаря в костеле три… Костел окружен досчатым забором с каменными столбами. Пол в костеле кирпичный…» Храм освещался в то время восемью окнами.
Плебальный дом при костеле построен в 1860 г. Он состоит из четырех комнат, крыльца, кухни и кладовой… Крыша на доме крыта дранкой. При доме – флигель, состоящий из двух комнат, посредине сени, при них возовня, стайня и сарай под одной крышей.
Из инвентаря 1907 г. узнаем, что пол в костеле уже из цементных плиток, а около большого алтаря – деревянный. В костеле появляется орган с восемью регистрами, а на улице – железные ворота с двумя железными калитками на каменных столбах. В ризнице в стену вделан шкаф. Костельная башня имеет четыре яруса. Колокольня располагается на четвертом ярусе. Там два больших колокола и два малых.