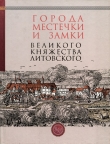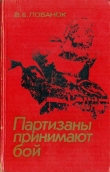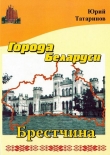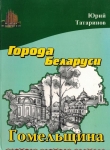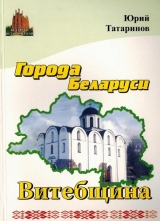
Текст книги "Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Витебщина"
Автор книги: Юрий Татаринов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Оказывается, тогдашней зимой двое немцев и староста привели во двор этой женщины каких-то пленных, которые не говорили ни по-немецки, ни по-русски. И одеты были в незнакомую форму. Охранники сказали, что это итальянцы. Вскоре рядом с домом хозяйки было выстроено два барака из досок. В этих бараках пленные итальянцы размещались до конца июня 1944 г. Использовали их на тяжелых земляных работах в лесу около деревни Русаки, где размещался немецкий склад.
И.С. Германович из Глубокого, который работал с военнопленными итальянцами на немецкой хлебопекарне, вспоминает:
– Гитлеровцы обходились со своими былыми союзниками очень жестоко. Итальянцы были постоянно голодные, часто их били так, что они чуть тянули ноги.
А место захоронения расстрелянных указала уроженка той самой деревни Ореховно Мария Капшуль. Всех убитых возле той дороги немцы свалили в ров. Засыпали плохо, потому что видны были тела. Позже, когда убитых начали растягивать звери, местные жители сделали существенную подсыпку на том месте.
Мария Капшуль перенесла ту расправу над итальянцами, как собственную трагедию. Дело в том, что она не раз приносила несчастным то хлеба, то картошки. Многих из них знала в лицо и даже по имени. Она даже научилась немножко разговаривать по-итальянски.
Она утверждает, что один итальянец, или Роберто, или Умберто, в ту ночь избежал расстрела. У него была поранена нога и он не дошел до места расправы, отполз в кусты… Потом, сразу после войны, он приезжал в Глубокое. Тетка Мария видела, как он выступал с трибуны, но подойти и поговорить ей с ним не удалось.
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ САД
Одной из вех, увеличивающих славу здешнего города, является его дендрологический сад. Сюда привозят туристов, сюда, на свои встречи, съезжаются ученые-ботаники и любители природы.
По-видимому, идея создания сада принадлежит Виктору Антоновичу Ломако. По крайней мере, именно он объявил когда-то, в конце 50-х годов XX в., его становление главным делом своей жизни и стечением лет добился результата.
Сначала был выбран участок. Вырубили все осиновые насаждения, но оставили единичные деревья взрослого дуба. Потом в Институте биологии Академии Наук Беларуси сотрудниками А. Ф. Ивановым и В. А. Смирновой был создан проект. Но только весной 1963 г. начались первые плановые посадки. Этот год и считается началом закладки сада. В тот сезон его общая площадь была увеличена до 8, 2 гектаров.
Территория сада разграничена основными аллеями на 12 секций. Аллеи образованы посадками конского каштана, туи западной, черемухи Маака, рябины обыкновенной, ели колючей, клена остролистного. Их ширина 5–6 метров.
В бордюрах основных аллей высажены кустарники: кизельник блестящий, бирючина обыкновенная, таволга дубровколистная и Бийара, дерен белый, ива пурпурная уральская и др.
Для декоративности в центре секций в нескольких местах высажены туя западная шаровидная, кипарисовик горохоплодный, можжевельник казацкий и обыкновенный.

В низинных местах создано три искусственных водоема. Они оживляют ландшафт. От двух водоемов проложены водоотводные трубы протяженностью 99 метров.
На одной из секций устроена альпийская горка, площадью 60 кв. метров. На ней посажены две туи западной шаровидной, пять елей обыкновенной карликовой и низкорослые многолетники. Для фона установлена беседка, обсаженная кустами таволги Бумальда.
В пределах дендросада создан небольшой коллекционный питомник, в котором выращиваются растения для пополнения и ремонта посадок.
В 1990 г. В. А. Ломако выпустил небольшую книжицу «Дендрологический сад глубокского лесхоза», в которой тщательно описал всю коллекцию высаженных в этом саду растений.
Во время моего посещения города руководителем службы ухаживания за садом была мастер Людмила Геннадьевна Сивая. Она-то любезно поведала, что коллекция сохраняется на уровне 518 видов растений и что особенно хорошим ростом и состоянием отличается лиственница польская, псевдотсуга Мензиса, сосна кедровая корейская, сосна горная, пихта Нордмана, ива ломкая шаровидная и туи.
С 1991 г. дендросад объявлен памятником природы.
АТМОСФЕРА УВЕРЕННОСТИ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ, ИЛИ ГЕНИАЛЬНЫЙ АВИАКОНСТРУКТОР (о Павле Осиповиче Сухом)
В городской школе № 1 организован музей авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.
Имя П.О. Сухого долгое время было известно лишь узкому кругу людей. Между тем от этого человека некогда могущественная держава, какою был Советский Союз, получила лучшую машину времен Великой Отечественной – самолет Су-2.
Итак, будущий гениальный авиаконструктор родился в Глубоком 10 июля 1895 г.
В небольшой брошюре Н.С. Царькова «П. О. Сухой», изданной в 1986 г., собраны просто удивительные сведения об этом создателе самолетов. Например, в ЦАГИ конструкторской бригадой П.О. Сухого был создан АНТ-25. На этой машине экипаж в составе Чкалова, Байдукова и Белякова в июне 1937 г. совершил беспосадочный перелет из Москвы в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс, преодолев расстояние 8504 километра за 63 часа и 16 минут.
Так называемый «ближний» бомбардировщик Су-2 был запущен в серийное производство в 1941 г. Отзывы об этой машине были самые лучшие. Генерал-лейтенант авиации С. Н. Ромазанов: «Нельзя было не удивляться выносливости этих небольших, но грозных для врага самолетов-бомбардировщиков».
После войны П. О. Сухой возглавил конструкторское бюро, которое занималось разработкой военных самолетов, оснащенных реактивными двигателями. Уже в 1946 г. начались испытания истребителя Су-9. В практике отечественного самолетостроения впервые были применены катапультное кресло, стартовые ускорители, тормозной парашют.
На Су-11 впервые был установлен турбореактивный двигатель. По тем временам подобное решение выглядело не просто рискованным, но и фантастическим, почти что авантюрным. Но П. О. Сухой чувствовал грань реального.
Следующая машина П. О. Сухого – Су-15 – была оснащена уже воздушно-реактивным двигателем. Ее максимальная скорость составляла 1050 километров в час. На этой машине был решен вопрос спасения летчика на высотах с разряженным воздухом – в случае необходимости теперь целая кабина отделялась от самолета.
Впоследствии П. О. Сухой стал создавать самолеты с треугольным крылом. Прежде всего, треугольное крыло не переставало оставаться стрелковым. К тому же, это крыло сулило не только увеличение скорости, но еще и дальности, и надежности, и маневренности.
На базе Су-7 была создана машина, соединявшая в себе качества штурмовика, бомбардировщика и истребителя. Она летала на малых высотах и в стратосфере. Словом, была универсальной.

Имя Сухого впервые появилось в прессе только в конце 60-х.
Именно в это время бюро П.О. Сухого подготовило к испытаниям самолет с изменяемой геометрией крыла. Эти машины могли совершать укороченный взлет и посадку, отличались маневренностью. Очень важно, что новый тип самолета был построен на базе Су-7.
Вначале 70-х годов был создан самолет, рассчитанный на скорость 3000 километров в час. Машину построили из титана.
П. О. Сухой был скромным человеком, не любил отмечать дни рождения, даже юбилеи. Его редко видели в президиумах.
Умер П.О. Сухой 18 сентября 1975 г. в Москве.
Подняв на достойные высоты самолетостроение, П.О. Сухой, тем самым, возвеличил свою малую родину и, уже сам того не ведая, создал здесь, в среде своих земляков, атмосферу уверенности в собственных силах. Остается только надеяться, что это сработает на пользу города.
ШАРКОВЩИНА
(июнь, 2005)

ИЗ ЛИТОВСКИХ МЕТРИК
Эта книга собрала в себе княжеские грамоты о наделении землей служебных особ Великого княжества, а также купчие на имения, судебные дела и др.
В 1503 г. король Александр подарил Шарковщину дисненскому старосте и смоленскому каштеляну Юрию Деспот-Зеновичу. С этого времени имение стало передаваться по наследству.
Миколай Зенович передал его своему сыну Георгию. А еще позже имение переходит к внуку Миколая – тоже Миколаю.
Дочь последнего Регина Полубинская (после второго брака Хамцова) в 1604 г. со своим мужем продала имение канцлеру Льву Сапеге, который присоединил Шарковщину к своим имениям Друя и Иказнь.
В 1638 г. Сапеги отдали Шарковщину в аренду Георгию Сжаровскому, который правил тут до 1645 г.
С 1669 г. в Шарковщине хозяйничает королевский капитан Пэтэмптоле.
А после него – виленский подкаморий Чиж.
С 1692 г. арендатором имения становится чесник волковысский Масальский.
В 1713 г. Александр Сапега отдал Шарковщину под залог полоцкому городскому судье Ремяну Селицкому.
А в 1716 г. имение уже под залогом у вилькамирского маршалка Мартьяна Иосифа Домбровского.
В 1753 г. полоцкий воевода Александр Сапега выкупил фамильное имение у наследников Домбровских и продал его брест-литовскому воеводе Миколаю Фаддею (Тадеушу) Лопатинскому.
Последний в 1770 г. передал имение своему сыну Яну Никадиму Лопатинскому, который построил двухэтажный дворец, часовню, оранжерею, теплицу и сделал в Шарковщине свою резиденцию, одну из самых роскошных в Дисненском повете. Это имение, насчитывавшее 2 тысячи душ, размещалось рядом с двумя местечками: Старая Шарковщина и Новая Шарковщина.
В ЧЕСТЬ ОТЦА КОНСТАНТИНА ЖДАНОВА (о церкви Успения Пресвятой Богородицы)
В журнале «Церковное слово» в № 8 за 1997 г. находим материал О. Садовского о православной городской церкви, которая располагается на левом берегу реки Дисны.
Первое упоминание об этом храме относится к 1639 г. Лев Сапега вместо старой, известной еще в 1594 г., построил новую церковь – Вознесения, которая двести лет спустя, то есть в 1839 г., была обновлена помещиком Бернардом Федоровичем.

К концу XIX в. здание церкви пришло в упадок. Вот как описывает его современник: «Старо-Шарковская церковь – одна из самых ветхих и убогих церквей епархии: стены полугнилые, без штукатурки, здание церкви от времени покосилось и до того наклонено на северную сторону, что в предупреждение его возможного падения подперто пятью дубовыми столбами, при сильном ветре все здание трещит и шатается…»
В 1901 г. на настоятельское поприще в церковь вступил двадцатишестилетний священник Константин Жданов. Он сразу поставил вопрос о постройке нового храма.
В марте 1908 г. приступили к разборке старой, обветшалой церкви, чтобы на ее месте начать строительство нового храма. Деньги собирали с прихожан, которые обязаны были внести по 1 руб. 50 коп. с каждой своей десятины. Для сбора средств на иконостас отец Константин специально выезжал в Москву, где посещал дома купцов и других состоятельных людей. Собранных таким образом средств оказалось достаточно, чтобы устроить великолепный позолоченный иконостас, который находится в храме и поныне. Мало кому известно что существующий ныне в храме плиточный пол уложен руками отца Константина.
В 1910 г. храм был достроен и освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ко дню освящения была сооружена икона святого царя Константина.
В продолжении восемнадцати лет нес отец Константин свое пастырское послушание. В мае 1918 г. он был арестован и отправлен в Дисну. У него была возможность бежать, – конвоиры, ведшие его на расправу, были сильно пьяны. Но отец Константин ответил тем, кто ему предлагал побег: «Я никому ничего плохого не сделал, и что Бог пошлет, то и буду терпеть».
В ту ночь он был закопан конвоирами в землю живым…
В лице этого мученика белорусское православие имело честнейшего и чистейшего из своих братьев. Исполнив свое предназначение на земле, этот священник вознесся на небо, чтобы служить уже не смертным, а Богу. Он – святой, даже если и не утвержден в этом официально Святым Синодом. Он пострадал за Христа, чтобы еще раз напомнить всем, что честь, совесть – важнейшие достоинства, гораздо более важные даже самой жизни.

3 июня, в тот день, когда церковь памятует о равноапостольных царе Константине и матери его царице Елене, в церкви Успения Пресвятой Богородицы неопустительно совершается особое богослужение в честь отца Константина Жданова. И день этот носит характер храмового праздника.
МУЗЕЙНЫЙ САД САДОВОДА-САМОУЧКИ (об Иване Павловиче Сикоре)
Сам герб города подсказывает как бы основополагающее начало последнего, выделяет Шарковщину среди других белорусских городов. А все потому, что здесь, в этом крае, родился белорусский Мичурин. Отныне не надо ломать голову, думать о том, где проводить встречи по обмену опытом садоводов, шарковщинская земля сама указала на это, когда заботливо выпестовала первейшего из них.
Согласно биографической справки, опубликованной в книге «Памяць» в 2004 г. под авторством Г. И. Сикоры, И. П. Сикора родился 19 сентября 1885 г. в многодетной семье. Закончил Красногорскую двухлетнюю учительскую школу на Браславщине. В I Мировую в возрасте тридцати лет попал на фронт и служил обыкновенным солдатом.
В возрасте сорока лет закончил Краковские двухлетние учительские курсы. При Польше работал в Глубокском повете учителем. Но был уволен за то, что занятия проводил не на польском, а на белорусском языке.
Пути Господни неисповедимы. Великие мира сего, порой, находят себя поздно. Жизнь Ивана Павловича перевернулась, когда он устроился работать простым садовником в имении графа Пшездецкого в Воропаево.
Вот тогда-то будущий селекционер и начал заниматься исследовательской деятельностью. Сначала он заложил плодопитомник, где разводил культивируемые в те времена сорта яблонь. Исследования продолжал и на своем личном участке в деревне Алашки. Почувствовав интерес к этой деятельности, начал переписку с известными на то время польскими садоводами – доктором В. Филевичем, профессорами С. Галчинским, С. Заливским, инженером Я. Слязским. Кое-кто из ученой элиты даже приезжал потом в Алашки. Не раз Сикора получал предложение переехать работать в институт садоводства, что размещался под Пулавами.
Щедрость – вот что, пожалуй, являлось одной из основных черт И. П. Сикоры. Он никогда не скрывал своих секретов от тех, кто интересовался садоводством. Делился саженцами, методами прививки, скрещиваний, лечений деревьев, которые сам разработал.
Значительное влияние на И. П. Сикору оказал знаток природы и мастер художественной прозы Михаил Пришвин, в частности его книга "Удобрение полей и лугов". «Эта книжка, – не раз повторял Сикора, – сделала меня садоводом».
Еще одной настольной книгой селекционера была монография А.С. Грибницкого «Досмотр фруктового сада».
И.П. Сикора обследовал все окрестные сады и выбрал для своего питомника самые лучшие сорта. Кроме того, получая черенки по почте, развил новые. Постепенно на его небольшом личном клочке земли собралась целая коллекция плодовых и декоративных растений.
Садовод-самоучка высаживал разные сорта винограда, смородины, крыжовника, лимонника, женьшеня. А его коллекция роз в 30-е годы считалась одной из лучших в Европе. Иван Павлович собрал 54 разновидности сирени. И сам вывел несколько сортов махровой сирени, которая демонстрировалась на европейских выставках и получала высшие оценки.
При Советской власти долгое время, с момента образования, был заведующим Северного опорного пункта Белорусского научно-исследовательского института плодоводства и огородничества.
Даже в годы войны не остановил своей работы. Осенью 1943 г. посадил новый сад. Партизаны обеспечивали его кусочками шелка от парашютов, чтобы садовод мог пошить из них охранные мешочки для единичного опыления. Даже в войну выводил новые сорта.
Во время одной карательной экспедиции фашистов был уничтожен почти весь архив и библиотека И. П. Сикоры. В войну умерла его внучка, без вести пропал на фронте сын Петр. Да и после войны судьба не баловала садовника: умерла его жена Мария, а сын Виктор был сослан в лагерь для репрессированных.
Из Минска Сикоре высылали тематические планы тех работ, которые он должен был осуществить. И Иван Павлович добросовестно выполнял все задания. Одновременно вел наблюдения обобщал результаты опробования тех культур, саженцы и семена которых высылали ему из другого региона страны.
И. П. Сикора вел переписку с ученым института имени Мичурина Борисоглебским, с руководителями многих ботанических садов страны.
Тимирязев называл орехи «хлебом будущего». И. П. Сикора продолжал селекционную работу на эту перспективную тему до последних дней своей жизни. Одним из первых в Беларуси он занялся районированием растений-экзотов с Дальнего Востока: лимонника амурского, аралии, элеутерококка, левзеи и других.
За 58 лет, которые он посвятил именно садоводству, И.П. Сикора изобрел 500 сортов яблонь, около 100 сортов груш, 119 форм лещины. У него на апробации было 6 тысяч гибридных сеянцев плодовых деревьев. Он вывел несколько сортов винограда.
Интерес к садоводству имеется у каждого. Потому что каждому хочется иметь возле своего дома или возле дачного домика если уж не полноценный сад, то, хотя бы, какую-нибудь диковинку, то, что могло бы отвлечь от суеты и порадовать. И.П. Сикора был счастливым человеком, потому что занимался селекцией этой самой радости. И если у нас нет своего сада, то нам следует съездить на Шарковщину, чтобы увидеть, хотя бы, музейный сад садовода-самоучки Ивана Павловича Сикоры.
БРАСЛАВ
(июнь, 2005)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО ГЕРБ
Какое-то необъяснимое чувство интереса теплится во мне к этому городу. Последний имеет продолжительную историю. Кроме того, располагается в красивейшем месте. Чего стоит одна только Замковая гора. А озера вокруг… Говорят, что когда летишь на самолете, здешний город представляется островом на море. Думаю, этот регион когда-то действительно был морем.
Герб Браслава впервые упомянут в грамоте последнего польского короля Станислава Понятовского. Художник поместил на нем известный христианский символ – око Божьей опеки. Этот символ должен был помочь городу в трудную годину. Ну а голубой цвет щита напоминал о преобладании в здешних местах водных пространств.
О НАЗВАНИИ
Так уж повелось, название здешнего города связывают с именем полоцкого князя Брячислава. Даже знаменитый и уважаемый в Беларуси московский археолог Л. В. Алексеев придерживался этой патронимичной версии. Мне приходится много путешествовать по стране, изучать прошлое каждого города. И я знаю, каким осторожным следует быть в отношении любой из легенд. Подавляющее большинство их – чистая выдумка.
Название. Браслав происходит от балтской основы. В свое время еще В.А. Жучкевич четко и ясно определил, что «брасл» с латышского переводится как «брод, мелководье», а «браслава» – «место около брода».
Согласно материалов по археологии, первыми жителями местного городища являлись латгалы. На современной карте Латвии находим реку Брасду (приток знаменитой Гавьи), деревню Браслава на берегу этой реки. В XIX в. на территории Латгалии существовали еще два поселения с подобными названиями. Городище Замковая гора находится недалеко от мелководной протоки между озерами Дрывяты и Новята. Старожилы еще помнят, что протоку преодолевали вброд.
Латгальское поселение возникло на несколько столетий раньше, чем полоцкое. Поэтому когда сюда впервые прибыл князь Брячислав, созвучность его имени и здешнего поселища была отмечена разве что в шутке его приближенных.
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ХЕДЭМАНА
В газете «Браслауская звязда» в январе 1990 г. К. Шидловский, ссылаясь на книгу О. Хедэмана «История Браславского повета», дает ретроспективное представление о здешнем городе.
Оказывается, первое упоминание про Браслав есть у тенденциозного летописца М. Стрыйковского. Это 1065 г. Браславщина тогда входила в состав Полоцкого княжества и была его порубежной землей.
Со второй половины XIII в. Браслав в составе Великого княжества. Известно, что по завещанию Гедимина он был передан Евнуту – младшему из сыновей великого князя.
По указу великого князя Витовта виленский воевода Манивид в нач. XV в. основал в Браславе костел Божьей Матери и выделил ему в пользование «земли ворные и луговые с сенокосами, озерами и людьми… и десятину с пашен браславских и опсовских… и корчму в месте браславском… и озеро Цно и добавил еще десятину с дрисвятского озера и Оболи». Тот ж самый Манивид построил православную церковь, при которой был основан монастырь.
В 1434 г. князь Свидригайло, пребывая по-за бортом высшей великокняжеской власти, собрал в Браславе представителей от русских князей и бояр, а также от крестоносцев и попросил их о помощи придти к власти. В тот год объединенное войско ничего не добилось. И тогда на следующий год Свидригайло опять собрал в Браславе союзников, на этот раз пригласил еще и татар. 1 сентября 1435 г. в битве около реки Святой объединенные войска были разбиты.
Изначально город принадлежал государю, то есть казне. Тут хозяйничали наместники, или, как их стали называть впоследствии, старосты. В конце XV в. наместником его был знакомый нам по истории города Глубокого Юрий Зенович (умер в 1499). Именно при Зеновиче сгорел первый браславский костел. В 1498 г. Зенович получил от Александра Ягеллончика подтверждение, выданное еще Казимиром Ягеллончиком, на право пользования земельными участками браславских мещан Вайточки, Ганки, Ганусевича и Богдана и успел построить себе на том месте "двор".
В 1500 г. в Браслав приезжает сам великий князь Александр. Он подтверждает фундуш Манивида браславскому костелу и дарит от себя площадку со второй корчмой, а также озеро Новято, «которое около места браславкого… и никто не имеет права в нем неводами и сетками ловить, только на наш приезд».
Далее история города и ее замка связаны с именем молодой, красивой и знатной аристократки – великой княгини Елены, дочки царя Ивана III. Король Александр женился на ней, чтобы обеспечить мир с Москвой. После смерти Александра Елена переселилась в подаренный ей мужем Браслав. Молодая вдова щедро жертвовала на монастырь, располагавшийся на озере Неспиш и основала на Замковой горе еще один, женский монастырь с церковью святой Варвары. Не имея надежного опекуна на чужбине, молодая вдова подвергалась притеснениям со стороны вступившего на престол Сигизмунда Старого. В частности она писала царю Василию, что когда хотела съездить в свои владения на браславщине, то паны литовские запретили ей эту поездку и еще обвинили в намерении сбежать в Москву.
Умерла Елена в Браславе 24 января 1513 г. Ее тело перевезли в Вильно и там похоронили.
В начале XVI в. Браслав перешел к Яну Сапеге, а впоследствии к его сыну Павлу, маршалку Великого княжества и старосте Браславскому.
Около 1520 г. часть тех владений, вместе с с замком, у Павла Сапеги откупил князь Масальский, сын Тиматеуша.
В 1559 г. Браславе староствовал Юрий Остик. Это при нем поступило дивное распоряжение короля Сигизмунда Августа: город перенести на другое место, потому что он построен на небезопасном месте… Небезопасными для строений могли считаться песчаные возвышения по-над Дривятами. Если тот указ короля и был исполнен, предполагает К. Шидловский, то позже горожане опять перебрались на старое место.
В 1579 г. в Браславе хозяйничает староста Дельницкий.
В 1592 г. Рыгор Масальский продает свой браславский двор Теодору Скумину Тышкевичу. Семьи Масальских и Тышкевичей были православными и всегда поддерживали браславский монастырь, располагавшийся на острове озера Неспиш.
Януш Скумин Тышкевич в 1631 г. выделяет деньги и строит на территории замка церковь во имя св. Николая – «на месте старое там згорелое» – и добавляет от себя этой церкви фольварок за озером Новято.
В 1661 г. город был уничтожен. Известный дипломат и военный деятель России Афанасий Нащокин в письме к царю Алексею Михайловичу сообщал, что 4 июня 1661 г. город Браслав был без остатка сожжен. В том же году Варшавский сейм освободил город на 4 года от всех податей.
ЗАМОК
Сотрудник краеведческого музея здешнего города К. Шидловский в газете «Браслауская звязда» сообщает, что во времена Полоцкого княжества и Киевской Руси Замковую гору в Браславе охватывали по периметру деревянные укрепления – высокая ограда и дозорные башни. Там же сосредоточено было жилье местного населения.

С XIII в. функции здешней крепости изменились: она становится основным местом размещения гарнизона, жилья администрации и исполняет роль гражданского центра.
Впервые Браславский замок упоминается в 1514 г. в указе Сигизмунда Старого, который подтвердил права города на Магдебургское право.
В документах за 1558–1583 гг., когда Иван Грозный вел войну за выход его государства к Балтийскому морю, несколько раз упоминается про войска, которые стояли в тот период в замке.
В 1590 г. Варшавский сейм одобрил строительство на Замковой горе здания поветового суда и архива. В замке в этот период собирались поветовые сеймики – сходы шляхты.
Информацию о том, как, все-таки, выглядел Браславский замок, дает первая подробная карта Великого княжества, изданная в 1613 г. в Амстердаме. Населенные пункты на ней подаются в виде рисунков главенствующих в них оборонительных сооружений. На изображении Браславского замка можно угадать два озера – большее и меньшее, большой холм между ними и изображение укреплений замка. Такой вид последний имел в конце XVI в. – именно тогда, когда собирался материал для карты.
Наиболее полное описание замка сделано в 1649 г. В документе сообщалось, что укрепление сооружено на высокой горе, которая обнесена верхней и нижней стенами. В замке имелось семь башен. Большая въездная башня оснащена двумя воротами, окованными железом, и двумя бойницами (что указывало на ее большую ширину). Кроме того, на Замковой горе располагались старый и новый цейхгаузы, два большие дома, пекарня, конюшня, кухня, тюрьма. В документе подробно перечислено снаряжение: 5 бронзовых пушек, 2 железные, 40 пищалей, 4 копы (одна копа – шестьдесят единиц чего-либо) больших и малых пуль. Упоминается даже пехотный барабан и старая хоругвь. Цепи для узников в здешней тюрьме были длиной 6 метров.
В документе 1765 г. последний раз сообщается о военном значении замка. В то время в нем находился гарнизон из 14 солдат и одного офицера.
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛЕНА (По материалам статьи К. Шидловского в книге «Памяць» за 1998 г.)
Всякое упоминание о Браславе помимо воли заставляет меня вспоминать про русскую княгиню Елену, дочь московского царя Ивана III. И вовсе не потому, что у этой молодой женщины была трудная судьба, – у всех судьба не из легких. А потому, что княгиня стала украшением этого города, тем, может быть, единственным бриллиантом, который, обыкновенно, украшает перстень. В чем-то история ее союза с королем Александром подобна истории союза другой близкой нам пары: Барбары Радзивилл и короля Сигизмунда Августа. Там тоже имело место редчайшее из явлений в династических семьях – любовь.
В 1492 г. умирает король Казимир. В наследство своему первенцу Александру он оставляет напряженные отношения с Московской державой.
Тридцатиоднолетний Александр отнюдь не их тех, кто предпочитает решать проблемные вопросы с помощью амбиций и силы. Он желает мира и спокойствия для себя и миллионов своих подданных, за здоровье и благополучие которых он в ответе. И поэтому все надежды молодой монарх возлагает на дипломатию. В январе 1494 г. его послы передали Ивану III официальное предложение о заключении брака с княгиней Еленой.
Иван III довольно скоро ответил согласием. Он выставил всего несколько условий, главным из которых было – не принуждать Елену менять родительскую веру.
Далее, уже в феврале 1494 г., состоялась помолвка, на которой присутствующие вместо Александра послы впервые увидели княжну. Их впечатление, зафиксированное в хрониках, удивляет даже теперь, спустя пять столетий: послы были просто потрясены красотой молодой княжны… Не сохранилось ни одного портрета княгини Елены. Теперь мы можем только представить себе ту русскую красавицу: русоволосая, высокая, статная, чуть-чуть курносая.
Через год невесту приехали забирать. Для этой цели прибыли друзья Александра: виленский воевода Александр Гаштольд, полоцкий наместник Ян Забрезинский и браславский наместник, уже знакомый нам, Юрий Зенович. 13 января 1495 г. большой свадебный поезд, в составе которого находились представители московского боярства, духовенства, слуги и охрана, выехал из столицы.
Месяц понадобился невесте, чтобы добраться до столицы Великого княжества. Ее встретил сам Александр. От его коня, на котором он сидел в тот день, до прибывшего возка княжны растянули ковровую дорожку. Молодые направились по ней, чтобы впервые лицезреть друг друга.
Свадьба состоялась 12 февраля в кафедральном соборе Св. Станислава. Церемонию проводил виленский епископ Войцех Табор и московский православный священник. Это был тот самый феноменальный исторический момент, который мог мирным путем на веки вечные соединить два исконно братских государства, по крайней мере подарить им общую политическую линию. Тем более, этого так ждали народы.
Обаятельная, общительная, красавица, Елена понравилась не только Александру. Ее появление в Вильне всколыхнуло жителей столицы. Дочь русского царя хорошо пела. К тому же, она оказалась умницей, продемонстрировав способности к изучению языков. В том не было ничего странного, если учесть, что мать ее Софья воспитывалась при папском дворе в Ватикане.
В подарок от мужа Елена получила Браслав вместе с окружающими его землями. По некоторым сведениям, недалеко от Браслава, в местности Городище на озере Снуды, где в летнюю пору настоящий рай, находилась одна из ее летних резиденций. По крайней мере, еще в конце XIX в. археолог Ф. Покровский сообщал, что в урочище Городище встречаются осколки древнейшего кирпича и что в том месте могли располагаться дворцовые постройки.
Разъезжая по стране, Александр часто брал молодую жену с собой. Известно, что осенью 1500 г. оба побывали в Браславе.
Иван Сапега, владелец замка на острове озера Иказнь, был секретарем ее частной канцелярии. В 1503 г. он ездил в Москву и передал письмо княгини Елены Ивану III, где дочка уговаривала отца остановить агрессию против Великого княжества.
12 декабря 1501 г. состоялась коронация Александра в Кракове. Интересно, что Елена не присутствовала на ней. Польские магнаты и католическое духовенство не согласились видеть на троне рядом с королем его православную жену. А папа Римский долгое время вообще не признавал законность брака Александра и Елены… Тем не менее, в очередной раз пойдя на уступку условностям, Елена, по просьбе мужа, приняла титул королевы.
Счастье Александра и Елены продолжалось недолго.
19 марта 1506 г. сорокапятилетний Александр умер на руках тридцатилетней жены. Короля похоронили в том самом кафедральном соборе в Вильне, где их венчали. Королем был провозглашен младший брат покойного – Сигизмунд.