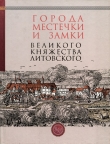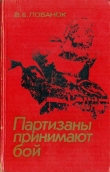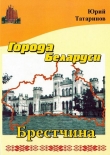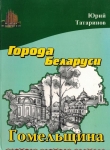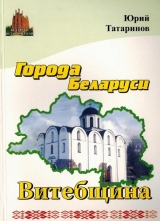
Текст книги "Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Витебщина"
Автор книги: Юрий Татаринов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Последние годы жизни Елены связаны с меценатством: вдова активно помогала православным храмам. Умерла королева 24 января 1513 г. в возрасте 37 пет. В письме Литовской Рады к киевскому митрополиту Иосифу от 25 января 1513 г. указывается, что умерла она в Браславе и что ее тело будет перевезено для похорон в Вильню.
Княгиню Елену похоронили в православном Пречистенском соборе в гробнице. Над могилой повесили икону Богородицы Одигитрии, которая все время находилась при княгине после отъезда из Москвы. По преданию, икона эта была написана самим евангелистом Лукой. В 1569 г. Иван Грозный предлагал обменять ее на 50 знатных военнопленных Великого княжества, но получил отказ.
В заключении своей статьи К. Шидловский приводит оценку, данную Елене известным историком Теодором Нарбутом: «Была набожной, украшенной высокой добродетельностью, рассудительной, с твердым характером, привязанной к новой своей отчизне, без желания зла родине, всеми силами стремилась поддержать мир между двумя державами, единственно желая счастья для людей… она была посредником истины и причиной хотя и короткого, но перемирия».
КОСТЕЛ
В статье К. Шидловского из газеты «Браслауская звязда» за 23 июня 1993 г. находим сведения о местном костеле.
Первый костел в городе был построен по инициативе и на средства Виленского воеводы Войцеха Манивида, который имел владения на Браславщине. Это имело место в 1413–1422 гг. Именно тогда Манивид был воеводой.
При основании браславского костела Манивид наделил храм значительными земельными владениями, которые были утверждены самим Витовтом. Об этом видно из фундуша, выданного браславскому костелу великим князем Александром, за 1500 г., из которого со слов тогдашнего местного браславского ксендза Венслава явствует, что «воевода Виленский, пан Манивид, держачи Браслав у отчизну, заложил церковь Матки Божи в месте Браславском и фундавал тую церковь, надаючи землями пашными и бортными, и сеножатными, и озерами, и реками, и людьми слободными и данники…» Венслав не мог представить документов, так как незадолго перед тем «… з Божого допушчения… при наместнику Браславском, пане Юри Зеновичу, тая церковь згорела са всеми воклады и фундамом тое церкви». Князь Александр подтвердил все придания Манивида.
Деревянный костел браславский не раз горел во времена лихолетий.
В 1824 г. на пожертвования парафиян был возведен каменный костел. Он имел прямоугольную основу и был перекрыт двухскатной крышей. Фасад его украшал незамысловатый приступчатый фронтон.

В 1897 г. в Браславе насчитывалось всего 157 католиков. Зато вся парафия с учетом окрестных сел насчитывала около 15 тысяч человек. Размеры старого костела перестали удовлетворять потребностям.
Было получено разрешение на его перестройку и в 1897 г. костел приобрел современный вид. Элементы, украшающие его башню, характерны для стиля неоготики. В северной и восточной стенах сохранились фрагменты стен старого костела.
В своей статье К. Шидловский сообщает о священнике этого костела Мечиславе Акрейце. В июне 1942 г. в Браславе началось уничтожение евреев. Во время охоты на людей, которую затеяли немцы и полицаи, несколько молодых евреев забежали в костельный двор. М. Акрейц вышел, чтобы помочь спрятаться этим людям, но тут же был убит одной из немецких пуль…
Что касается легенд про костел, то наиболее интересная из них связана с главной святыней храма – иконой Матери Божьей Браславской. Эта икона принадлежала монастырю на острове озера Неспиш. Возможно, ее знала сама королева Елена. В 1832 г. монастырская церковь сгорела. На другой день после пожара чудом уцелевшая икона появилась на соседнем небольшом острове. Торжественно перенесли ее в костел в Браславе. Однако ночью она исчезла и снова нашлась на острове. Торжественная процессия во второй раз понесла ее в костел. Но история повторилась. И тогда кто-то предложил поручить перенести строптивую икону раскаявшимся злодеям. Это сработало. Икона больше не сбегала, осталась при костеле.
Теперь эта реликвия хранится в главном алтаре. Правда, открывают ее только во время особых торжеств.
В костеле имеется орган. Старый орган, конца XIX в., не сохранился. Нынешний привезен из Риги, а сделан он в Кракове в начале XX в. Монтировать его в браславском костеле помогали мастера знаменитого Донского собора.
АВТОР РЕЦЕПТА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ (о докторе Станиславе Нарбуте)
У краеведов в отношении друг друга тоже есть свои симпатии и антипатии. И хотя главная задача для них быть объективными, каждый имеет право на свое, субъективное мнение. Мне, например, всегда нравился стиль Леонида Прокопчика. Думаю, это была самая яркая «звезда» в среде популяризаторов белорусской истории. Для краеведа очень много значат стиль изложения и приоритеты. Статьи Л. Прокопчика читаются на одном дыхании.
По материалам одной из его статей расскажу о докторе Нарбуте.
Все-таки, как важно жить и работать на одном месте; не искать легкой жизни, а самому строить жизнь и еще всеми силами помогать другим.
Этой, в общем-то, идеалистической концепции, как стало ясно теперь, спустя сто лет, придерживался браславский доктор Станислав Нарбут.
Родился он в 1853 г. в имении своего отца в Шаврах (ныне Вороновский район). Закончил Виленскую гимназию, после чего поступил в Мюнхенский университет.
В 1879 г. сдал экзамены на степень доктора медицинских наук. С этого времени судьба навсегда связывает его с небольшим заштатным городком на Витебщине. Нарбут начинает работать здесь в качестве частного врача и, одновременно, учится на медицинском факультете Дерптского университета (сейчас Тартуский), так как заграничный диплом не давал права на официальную медицинскую практику в России. Университет был успешно закончен в 1891 г.
Поступить на официальную службу удалось только в 1904 г. В тот год в Браславе освободилась должность врача второго участка.
В 1906 г. при его участии в Браславе открыли новую земскую больницу.
Во время Первой Мировой войны С. Нарбут был назначен начальником военного госпиталя. И даже был тяжело ранен, после чего ему ампутировали ногу.
Наконец, в 1919 г. С. Нарбут становится поветовым врачом, возглавив всю медицинскую службу Браславского повета…
Л. Прокопчик еще застал тех, кто знал Нарбута. Пациенты отмечали обходительность браславского доктора, его разносторонние знания, опыт врача, преданность работе. Кроме того, как указывают факты биографии, это был принципиальный человек, умеющий во благо своей благородной деятельности добиваться поставленных целей. Когда в 1921 г. Местные польские власти реквизировали здание больницы, доктор начал с ними настоящую войну. В Вильно, в Варшаву в самые разные инстанции, вплоть до сейма пошли от С. Нарбута письма, разъяснения, свидетельства о бедственном положении больных в Браславе и всем повете. И сам Нарбут обошел немало высокопоставленных чиновников, пока, наконец, помещение больницы не было возвращено…
Несмотря на инвалидность и солидный возраст, доктор Нарбут не прекращал практики, продолжал оставаться во главе медиков всего повета. При необходимости сам добирался к больному – жил ли тот в Браславе или в отдаленной деревне. Известно, что иногда он сам покупал беднякам лекарства, а, бывало, и за свой счет помещал тяжелобольного в больницу.
Самой жизнью своей доктор С. Нарбут демонстрировал и внедрял рецепт долголетия и вечной молодости и составляющими этого рецепта были неуемное трудолюбие, оптимизм, интерес и доброжелательное отношение к людям. По его инициативе в 1907 г. было основано в Браславе общество народной трезвости.
Умер доктор Нарбут в марте 1926 г. от воспаления легких, простудившись в непогоду во время визита к больному.
Самым красноречивым и впечатляющим свидетельством благодарности пациентов своему доктору стал воздвигнутый на собранные в народе деньги памятник на Замковой горе. Чести быть похороненным здесь, в центре города, удостоился тот, кто всю жизнь служил благу горожан и отлично справлялся со своим предназначением. В музее хранится документ, согласно которому житель Браслава Томаш Жарик жертвует участок своей земли на замчище на могилу и памятник доктору Нарбуту. Памятник представляет собой своеобразный факел, на вершине которого устроен в виде лампады фонарь (к нему ведут скрытые на тыльной стороне ступени-скобы) – прежде керосиновый, теперь электрический. Общая композиция символизирует девиз альтруиста: весь свет, что имею, бескорыстно отдаю народу… Этот свет можно увидеть со всех озер и горок, которые окружают славный Браслав.
Заканчивая эту главу, хочу заметить, что, проводя ретроспективу белорусских городов, я нахожу почти в каждом из них особую ауру. Браслав, как это несложно догадаться, мог бы принимать на постоянной основе семинары работников здравоохранения. Уже изначально, какой бы ни стала тема сбора, сознание собравшихся будет объединено общей подоплекой: направление деятельности гостей все дни их присутствия в городе будет корректировать судьба скромного поветового доктора. Тем более, что в этом районе мы пока что имеем зону, которая способна сама осуществлять обозначенный в заглавии желанный рецепт.
ГОРОДОК
(июль, 2005)

ПЕРВЫЕ УПОМИНАНИЯ
В «Беларускай энцыклапедыi» находим сведения о том, что город возник на месте древнего укрепленного поселения (сохранились остатки городища).
В летописях XIII в. упоминается «Городок около Полацка» в связи с битвой между полочанами и войсками Великого княжества, руководимыми Мингайлой.
БАСТИОННЫЙ ЗАМОК
В начале XVII в. на террасе правого берега реки Горожанки на противоположном берегу от города возведен замок. М. Ткачев исследовал его в 1981 г.
Замок имел форму пятиугольника, развернутого выступающей восточной стороной в сторону поля. С севера, востока и частично запада сохранился оборонительный ров шириной до 16 м. Замок имел пять деревянных башен, в одну из которых со стороны берега осуществлялся въезд. С северной и восточной стороны замчища сохранились следы бастионов, которые когда-то размещались через каждые 20 м. Северо-западный участок замчища прикрывался болотом, откуда вытекал и впадал в оборонительный ров ручей. Культурный пласт ограничен находками XVII и XVIII вв.
Напротив древнего городища, на высоком мысе, который назывался Узгорье, в 1988 г. были проведены раскопки. В результате обнаружен каменный фундамент самой ранней городокской церкви. Он располагался в культурных пластах XVI–XVII вв.
В. Слабин в газете «Гарадоцкi веснiк» за 25 декабря 1990 г. сообщает, что в начале XX в. в Городке действовали две православные церкви. Причем, одна из них – бывший униатский Ильинский собор, располагавшийся за тоже уже бывшим зданием РК КПБ. Действовал в городе и католический костел.
По воспоминаниям старожилов, вокруг белого каменного Ильинского собора находились сад и аккуратная ограда. Пятикупольный собор был обставлен внутри деревянными скульптурами, хотя православному храму больше свойственны иконы. Звучание его колоколов было слышно в окрестных деревнях. Три раза в неделю в соборе проводили богослужения. В 30-е годы собор использовался как склад. Сюда со всего района свозили льносемя. Тут запирали раскулаченных сельских жителей, которых потом отправляли в ГУЛАГ.
Взорвали собор в ночь с 23 на 24 декабря 1943 г., как раз накануне освобождения Городка. Это сделали немцы. Тем самым, по их представлению, они ликвидировали удобный наблюдательный пункт.
ШУМИЛИНО
(июль, 2005)

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ
«Беларуская энцыклапедыя» сообщает, что в 1866 г. в деревне Шумилино Полоцкого повета было 5 хозяйственных дворов, 13 строений, 38 жителей.
Дальнейшая история здешнего города связана с введением в строй Динабурго-Витебской железнодорожной ветки.
В книге «Витебское отделение Белорусской железной дороги. Этапы развития» сообщается, что 14 октября 1866 г. (по новому стилю) общество Динабурго-Витебской железной дороги докладывает в министерство о готовности второго участка ветки от Полоцка до Витебска с мастерскими для ремонта и обслуживания паровозов и вагонов на сопутствующих ей железнодорожных станциях. 17 октября кипящий и шипящий паровоз с тремя вагонами пересекает Шумилино и прибывает в Витебск. И в тот же день во Всеподданнейшем докладе инженер генерал-лейтенант и к тому времени министр путей сообщения России П. П. Мельников в своей телеграмме доложил царю:
«Имею счастье довести до сведения Вашего Императорского Величества, что сего числа, по совершении молебствия в 9 часов 30 минут утра открыто движение и на остальном участке этой дороги от Полоцка до Витебска. Все протяжение железной дороги от Динабурга до Витебска составляет 242 версты».
Из книги А. П. Сапунова «Список населенных мест Витебской губернии за 1906 г.» узнаем, что в деревне Шумилино в 1906 г. насчитывалось 7 дворов и проживало 50 человек.
И, наконец, еще одно: до 22 мая 1962 г. местная железнодорожная станция называлась Сиротино.
О ТОМ, ЧТО ПОМНИТ ВОКЗАЛ (По материалам опубликованной в газете «Герой працы» статьи местного краеведа В.В. Улютенко)
В 1866 г. на территории Беларуси был пущен в строй второй железнодорожный участок Витебск – Полоцк – Бигосово, который вошел в состав Рига-Орловской железной дороги. В том же году был возведен вокзальный комплекс станции Сиротино (село с данным названием в семи километрах к северу). В этот комплекс входили: здание вокзала, депо, товарные рампы, складские помещения и церковь.

Здесь следует заметить, что строительством комплекса руководили заморские специалисты. Впрочем, и обслуживание первоначально, в основном, тоже возлагалось на иностранцев. И так по всем станциям…
Депо размещалось в ста метрах на запад от вокзала (теперь на том месте магазин), а деревянная церковь – в 150 метрах на юго-запад.
В том же 1866 г. были посажены дубы, линия которых тянулась до церкви.
Вокзальный комплекс с юга открывала каменная арка.
В комплекс также входила кирпичная водонапорная башня. Вода в нее поступала из Крупчанского озера. Для этого в полутора километрах от вокзала была устроена водонапорная станция с паровым двигателем. Сто лет эта станция действовала по-старинке. И только в 60-х годах XX в. паровой двигатель на ней был заменен на дизельный.
В середине 30-х годов XIX в. проводится реконструкция вокзала. Депо закрывается, а его здание передается под Дом культуры железнодорожников. На севере от вокзала высаживают парк отдыха, общая площадь которого не превышает гектара. Стрелочников до войны на участке было восемь человек, при 30-ти путейцах. В сутки проходило 20 поездов, из них – 3–4 пассажирские. Перед тем, как прибывал поезд, поступал сигнал дежурному по вокзалу, вручную переводили стрелку на нужный путь, вручную открывали семафор, оглядывали пути и докладывали дежурному о готовности принять состав. Когда проходил поезд через станцию, машинист и дежурный по вокзалу обменивались жезлами. Жезл машиниста был как бы визитной карточкой состава, а дежурного по вокзалу – как бы дозволением следовать дальше по маршруту. До начала 40-х годов жезлы передавались из рук в руки, а позже на перроне установили жезловник, где обмен проводился механически. Перед прибытием поезда дежурный бил в колокол.
Самым сложным в работе на Шумилинском вокзале был 1937 г. По воспоминаниям бывшего машиниста М. П. Каштанова, в одну из июльских ночей были арестованы путеец Татан, машинист водокачки Платбардис – латыш по национальности, Степан Каштанов – рабочий. Утром их вывезли на дрезине в Витебск, и они уже больше никогда в семьи свои не вернулись.
Все светильники на вокзале до 1946 г. работали на керосине. В тот год на вокзале была установлена дизельная электростанция, а через десять лет эта электростанция стала давать свет и на близлежащие к вокзалу улицы. Летом 1941 г. Шумилино заняли оккупанты. На вокзал привезли двух русских военнопленных. Их решили покарать смертью публично. Фашисты вывесили две петли на каменной арке и стали сгонять народ. Собралось человек двести. Комендант зачитал приговор и машина с двумя молодыми красноармейцами заехала под арку. По команде два эсэсовца стали взбираться на кузов – и тут, неожиданно, получили в грудь сапогом от пленников. Послышалась автоматная стрельба. Люди бросились в рассыпную…
ИНЖЕНЕР, ОСНОВОПОЛОЖНИК, МЕЦЕНАТ (о Павле Петровиче Мельникове)
Подписанный в октябре 1866 г. инженером Мельниковым документ, по сути, дал добро на стремительный рост Шумилино. Именно вокруг вокзала и образовался тот город, который впоследствии получил статус районного центра.
Что касается основоположника города, то им можно уверенно назвать Павла Петровича Мельникова. Преподаватель прикладной механики в Петербургском Институте инженеров путей сообщения, он был одним из разработчиков проекта железной дороги Петербург – Москва, а в 1862 г. назначен главноуправляющим железных дорог России. По-видимому, тогда у него и возник замысел строительства дороги на Витебск. По крайней мере, будучи министром путей сообщения с 1866 по 1869 гг. он прекрасно осуществил данный проект.
О П.П. Мельникове будут с благодарностью вспоминать не только шумилинцы. В качестве члена Комитета железных дорог Мельников участвовал во многих проектах, в том числе и железных дорог юга России. Выступал за развитие этого вида транспорта по заранее разработанному плану.
П.П. Мельников был не только квалифицированным специалистом и основоположником железнодорожного сообщения России. Он был еще и меценатом. Воспитал большое число инженеров-проектировщиков. Кроме того, на свои средства построил у станции Любань близ Санкт-Петербурга школу и интернат для детей железнодорожников и дом для престарелых женщин. В своем завещании, составленном накануне смерти, он указал, чтобы его личные сбережения работали на содержание этих двух учреждений. В сквере у станции Любань П.П. Мельникову установлен бюст.
Оказывается, в Шумилине имеет место быть свое направление человеческой деятельности – в области обслуживания железных дорог. Вот вам и еще один центр для обмена опытом. Насколько город выиграет, если создаст условия для постоянного проведения встреч специалистов данной сферы!
БЕШЕНКОВИЧИ
(июль, 2005)

КОЕ-ЧТО ОБ ОСНОВАХ
Мне следовало бы сразу, заранее сделать несколько пояснений, касающихся общей терминологии в обозначении поселений: что такое местечко, город и т. д. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.
В районной библиотеке города мне попала статья из местной газеты «Зара» от 25 сентября 1990 г., автор которой А. Кастюкович как раз и дает необходимые разъяснения по данному вопросу. К тому же, оказывается, Бешенковичи – самый подходящий пример для этих разъяснений.
Местечко – это своеобразная форма поселения, промежуточная между деревней и городом. Тем не менее, именно так в XV–XVIII вв. на Беларуси назывались города. Сначала местечком даже называли небольшой город.
Возникновение местечек связано с рынками, что существовали изначально около великокняжеских и частнособственнических имений. Заезжие купцы и местные сельские жители обменивали часть своей продукции на деньги. Тем самым множили свои доходы. Вокруг рынков с течением времени развивались своеобразные торгово-ремесленнические центры. На смену рынкам пришли ярмарки (кирмаши), которые собирали купцов и покупателей не только с окрестных деревень, но и отдаленных городов. Бывали на ярмарках и заграничные купцы.
Ярмарки проводились раз в год, реже – два раза, и продолжались порой месяц. При этом оказывали благотворное влияние на развитие местечка.
В начале XVII в. несколько населенных пунктов Великого княжества были утверждены центрами речного судостроительства. Это относилось и к Бешенковичам, где издавна славились строительством струг и витин. Тогда-то на месте уже существовавшей здесь деревни и было основано местечко.
ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ, ВЛАДЕЛЬЦЫ (По материалам газетных статей местного краеведа А. В. Крачковского)
И книге О. В. Турчиновича «Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен», изданной в 1857 г., имеется следующая запись: «В память спасения королевы Елизаветы от утопления 29 июля в день пророка Ильи Казимир указал построить в Белоруссии несколько церквей православных на берегах рек Двины, Днепра и Сожа: в Витебске, Бешенковичах, Могилеве, Кричеве, Орше и Черикове, и подарил этим храмам в пользование перевозы». Таким образом, впервые Бешенковичи упоминаются в 1447 г.
По какой-то причине выбор короля пал именно на Бешенковичи. Можно предполагать, что его подстегнуло к этому название местечка. Кстати, древнейшее русское слово «бешан» обозначает стремительное течение на реке.
Что касается владельцев, то известно, что во второй половине XV в. Бешенковичами владел князь Семен Федорович Друцкий-Бабич, основатель рода князей Друцких-Соколинских.
После смерти князя Семена (около 1515 г.) Бешенковичами завладели четверо его сыновей и дочь Данмида – жена князя Семена Подберезского, тогдашнего владельца Бочейково.
В 1552 г. наследство сестры выкупили братья. В том же году часть имения Юрия Семеновича перешла к его сыновьям – Павлу и Тимофею. Первому досталось 16 дворов, другому – 17. Удел Ивана Семеновича перешел к его дочери Анне и ее мужу князю Юрию Тимофеевичу Масальскому. Не были обижены в завещании основателя рода и сыновья Василий Семенович и Андрей Семенович.
Впоследствии новым и, по всей видимости, единоличным владельцем Бешенкович стал Иван Друцко-Соколинский. По крайней мере именно он передал селение в приданое своей дочери Элеоноре.
От Элеоноры Бешенковичи перешли к Миколаю Георгиевичу Хлявинскому.
7 марта 1605 г. имение получило нового хозяина. Им стали князь Езерский и его жена.
А в 1615 г. – оршанский маршалок Миколай Андравонж.
6 ноября 1630 г. Миколай Андравонж продает имение гетману Великого княжества Льву Казимиру Сапеге.
После смерти отца (1633 г.) Бешенковичи перешли к подканцлеру Великого княжества Казимиру Льву Сапеге. Именно при нем Бешенковичи получили Магдебургское право, а с ним и дозволение на проведение двух ярмарок в год и одного торгового дня в неделю.
В 1656 г. после смерти Казимира Льва Сапеги Бешенковичи перешли в собственность его двоюродной племянницы Анны Сапеги и ее мужа Станислава Нарушевича.
В конце XVII в. хозяйка местечка – их дочь Анна Теодора, жена князя Яна Самуэля Огинского. С этого момента Бешенковичами на 125 лет завладевают Огинские.
После смерти Яна Самуэля в 1694 г. хозяином Бешенкович становится младший сын покойного Казимир Доминик.
В 1705 г. Бешенковичи в собственности Рыгора Антония Огинского – одного из старших сыновей Яна Самуэля, союзника Петра I.
2 февраля 1762 г. князь Михаил Казимир Огинский выдал жителям Бешенкович грамоту, по которой освобождал их от значительной части панщины, кроме налога на мукомольню.
В 1772 г. Бешенковичи, разделенные рекой, оказались одновременно в двух государствах: Речи Посполитой и России.
31 октября 1783 г. гетман Великого княжества М. К. Огинский утвердил у нотариуса города Амстердама дарственную грамоту о передаче имения Бешенковичи (по левой части Западной Двины) графу Иохиму Литавору Хрептовичу. Однако полноправным владельцем этого имения граф стал только после того, когда принес так называемую «территориальную» присягу. Это случилось летом 1785 г. А уже в декабре того же года был осуществлен официальный акт признания его законным хозяином этой части Бешенкович. Имение было значительным, учитывая что годом раньше все графство принесло владельцу 96 тысяч злотых чистого дохода.
Иохим Хрептович в Бешенковичах не жил, хоть и построил тут новый дворец, разбил парк и сад. Бывал тут только наездами. Основной его резиденцией была щорсовская.
В 1808 г. сын Хрептовича Ириней поселился с молодой женой в бешенковическом имении. Старшая дочь Иринея, Мария, вышла замуж за посланника в Константинополе и Риме Апполинария Петровича Бутенева, члена Государственного Совета.
После смерти Иринея, его племяннику, Михаилу Апполинарьевичу Бутеневу, согласно указу царя от 9 июня 1893 г., дозволено было называться графом Хрептовичем-Бутеневым. Он-то и стал владельцем всех белорусских имений своих предков.
После него эти права перешли к его родному брату Константину. Этот считается последним владельцем Бешенкович. Известно, что еще в 1939 г. он жил в библиотечном флигеле своего щорсовского имения.
О ПРЕБЫВАНИИ ПЕТРА I В ГОРОДЕ
Должен сразу отметить: Бешенковичам повезло на краеведа. Анатолий Крачковский оказался не просто увлеченным человеком, но еще и эрудитом. Неспроста ему доверили в начале девяностых составить одну из важнейших глав в книге «Памяць». Кроме того, краевед опубликовал в местной газете «Зара» множество статей, которые вполне конкретны, то есть лишены похвальбы своими знаниями общей истории.
Во время Северной войны, которая продолжалась двадцать один год, царь Петр I несколько раз наведывал Бешенковичи. Впервые это произошло 8 февраля 1701 г., когда он направлялся в Динабург на встречу с польским королем. В тот раз его императорское величество имел удовольствие остановиться в Бешенковичах всего на одну ночь.
Еще раз, уже в 1705 г., царь Петр I, направляясь из Витебска в Полоцк, где в то время располагались войска генералов Г. Агильви и А. И. Репнина, остановился в Бешенковичах 11 июня.
В 1708 г. русский император провел в Бешенковичах целых полмесяца. У А. С. Пушкина в его «Истории Петра» есть про тот визит: «Вся наша пехота пришла в Бешенковичи…» Во главе того пехотного войска стоял генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев. Чуть позже по указанию царя сюда прибыл и Александр Данилович Меньшиков, вторая особа в России после царя. Перед этим приездом Б. П. Шереметьев в своем письме сообщал Меньшикову: «Дома для прибытия вашей светлости отведены, которых лучше нет, и я свой двор очистил». В Бешенковичах русская пехота оказалась неслучайно. Местечком владел гетман Рыгор Антоний Огинский, союзник царя в войне со шведами… Позже своих подданных 25 февраля сюда прибыл сам Петр I.
Еще накануне этого царь потребовал, чтобы, по возможности, имения союзника оберегали от разорения. В своем письме Шереметьеву он писал: «Господин фельдмаршал. С маетностей Огинского, старосты Гордовского, с местечек Круглое, Дедершин, Белынич, Сдавосил, Бешенкович, Лугинович, Собола лишних поборов никаких брать не вели, кроме провианту положенного». В другом письме к Шереметьеву деликатный Петр I проявляет заботу о пани, просит прислать гарнизон для ее, охраны: «В маетности гетмана Огинского, где живет жана его, пошли на золоту унтер-офицера и вели ему там быть… И с тех маетностей поборов брать не вели». Когда ж Огинский однажды пожаловался Петру I на казаков, которые стояли в его местечках, царь распорядился осуществить следствие по этому делу и покарать виноватых.
Именно в Бешенковичах 10 марта 1708 г. состоялся тот самый военный Совет старейших военноначальников, на котором рассматривался план боевой операции А. Д. Меньшикова. В плане предусматривалось, что пехота будет отступать и заманивать Карла XII, а регулярная конница – наносить противнику удары с тыла и атаковать фланги шведов. Войско Карл XII собирались взять в окружение. На том Совете Петр I впервые озвучил и утвердил один из важнейших документов того времени: «Учреждение бою по настоящему времени». Этот документ впоследствии был принят для изучения боевого опыта русской армии во всех воинских вузах России. В нем Петр I развивал идею полевого тактического обучения солдат. Кроме того, в нем подчеркивалось значение моральной подготовки войск, их воспитания в духе «подвигов воинских». «Учреждение к бою» требовало от офицеров проявлять инициативу и самостоятельность в бою. Солдатам предписывалось активней применять штыки для поражения неприятеля.
КОМНАТА НАПОЛЕОНА
А. Крачковский в газете «Зара» за 1 февраля 1997 г. сообщает, что 11 июля 1812 г. в Бешенковичи прибыл гарнизон французов.
В шесть часов утра того же дня сюда прибыл корпус во главе с итальянским вице-королем Евгением Богарне. Эти сразу начали переправляться через Западную Двину: пехота – по наведенному французами мосту, всадники – вплавь.
На следующий день во второй половине в Бешенковичах уже был Бонапарт Наполеон со своим штабом. А вечером здесь появилась еще одна видная особа – неаполитанский король Мюрат.
13 июля Наполеон вместе с Мюратом и Богарне верхом объехали околицы Бешенкович.
На другой день император направился в местечко Островно, где уже начались бои на подступах к Витебску. В Бешенковичах остался только французский гарнизон.
Хозяйствование французов привело к разрушению и разорению Бешенкович. Церковь была разграблена и переоснащена в постоялый двор. В разных направлениях на месте сожженных хат возникли батареи.
8 октября 1812 г. бригада русских войск генерала В.И. Гарпэ, которая входила в состав войск графа П.Х. Витгенштейна, захватив десятки пушек и больше сотни пленных, партикулярный обоз и часть передвижной аптеки, выбила французов из Бешенкович.
Интересно, что комната во дворце графа Иринея Хрептовича, где ночевал Наполеон, с мебелью, другими вещами бережно сохранялась в том самом виде, в каком ее покинул император, больше столетия и демонстрировалась всем гостям.
ВИЗИТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
Всегда особенно интересны сведения, касающиеся прибытия в те или иные провинциальные города венценосных особ. Последних обычно встречали с помпой. На это тратилось немало и средств, и фантазии. А самое главное, такие визиты впоследствии становились чуть ли не важнейшими вехами в истории этих городов.
Одним из тех, кто видел «комнату Наполеона» в Бешенковичах, был император Александр I. Об этом сообщает все тот же А. Крачковский.
В 1821 г. войска гвардейского корпуса должны были провести маневры около местечка Бешенковичи.
16 сентября Александр I прибыл в это местечко. А уже на следующий день с балкона хрептовичского дворца приветствовал вместе с главнокомандующим 1-й армией Сакеном и командующим вышеуказанного корпуса Васильчиковым вступающую сюда русскую гвардию. Его величество остался недоволен смотром. Но, как человек интеллигентный, даже вида не подал на этот счет.
После смотра офицеры пригласили высокого гостя к обеденному столу, рассчитанному чуть не на полторы тысячи человек. Обед проходил в громадном крытом биваке, состоявшем из трех частей: центральной и двух крыльев. Это разовое сооружение из соломы и ельника было украшено флагами и доспехами, оружием и цветами. И размещалось на берегу Западной Двины. В центре бивака находился стол императора. Отсюда последний мог увидеть каждого из присутствовавших.