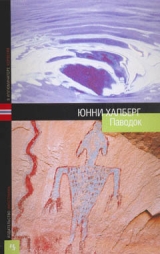
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Я выпрямился в кресле. Вот так играть, зарабатывать на жизнь, исполняя классиков перед внимательной публикой, получать аплодисменты и рецензии, а после концертов попадать в толпу поклонников, жаждущих автографа. Да, напряг, конечно, немалый, и работенка в общем-то неблагодарная. Но так или иначе, думал я, играть она умеет, и сидящие в зале это слышат и показывают, что слышат.
Мне вдруг стало ясно, что я больше не хочу возвращаться на работу. Когда-то у меня были свои цели, свои задачи, ноя перестал с ними справляться. Речь не о самой полицейской работе, а о коллегах. Я ничего не имею против Туве, Коре или Рогера, меня грызет другое. Я себя не люблю, такого, какой я с ними. Не люблю свой голос, свой смех, свои ужимки. Голос, по-моему, звучит фальшиво, жесты какие-то деланные. Наверняка они надо мной смеются, и это меня мучит, а еще больше мучит, что я пойман в себе самом, в человеке по имени Стейн Уве Санн. Вот что мне стало ясно.
Взять моих друзей. Нету их больше. И с любимой женщиной я порвал. Коллеги меня избегают. Люди, которых я старался вытащить из неприятностей, презирают меня. Никто не хочет иметь со мной дела. Такая вот история. Если уходить – что мне делать? Я слушал музыку, но без толку. Мысль о том, что я остался совершенно один, заполонила собою всё.
Первая часть закончилась. Я зааплодировал.
– Фантастика, – шепнула Катрин.
– Да, вправду фантастика, – согласился я.
Кому охота, чтобы все его бросили? Кому охота жить в забвении и одиночестве? Только не мне. Однако именно я, того и гляди, стану одиночкой, отщепенцем. Как же вышло, что я превратился в Санна с Клоккервейен, с которым никто не хочет иметь дела? Мне хотелось совсем другого, но, чтобы ситуация изменилась, надо что-то делать, а чтобы что-то делать, надо разобраться в причинах, выяснить, почему я дошел до жизни такой. Я снова выпрямился в кресле. И в эту минуту закончилась очередная часть. Кто-то захлопал, весь зал присоединился, скрипачка с улыбкой поклонилась. Подняла скрипку, посмотрела на пианиста и заиграла следующую часть. Я и пытаться не стану ее описывать. Это ж полная глупость. Что ни скажи, все будет невпопад. Но никак нельзя отрицать, что-то такое в музыке задевает нас прямиком по нервам, трогает куда непосредственнее, чем другие виды искусства, например изобразительные. Мне так кажется. В юности, когда я играл на ударных, музыка часто приводила меня в волнение. Бывало, стою возле стереопроигрывателя с конвертом от пластинки в руках, слушаю какую-нибудь вещицу и от избытка чувств хлюпаю носом. Правда, уже много лет ничего подобного со мной не случалось. А вот теперь я сидел тут, в «Прогрессе», где звучала музыка, созданная не для сопровождения, не для фона, нет, она царила в зале, до краев наполняла его прозрачными, напевными звуками. Понятия не имею, что они исполняли, да это и неважно, просто я вдруг осознал, что какой-то барьер во мне рухнул. Я растрогался, на глаза вот-вот навернутся слезы. Сдержаться невозможно. По-моему, нет ничего плохого в том, что, слушая музыку, человек приходит в волнение и плачет. Причина всегда найдется. Но я-то заплакал прямо в переполненном зале, где собрались люди, над которыми я обычно потешался и острил, ведь так называемая культурная элита Мелхуса сама на это напрашивалась. Самодовольные, нетерпимые, они смотрели на других свысока – ну как же, мы ведь все тут сплошь заурядная и невежественная деревенщина. А теперь я сижу среди этих снобов и плачу как ребенок. Сижу, по-прежнему выпрямившись, гляжу на сцену и ничего не вижу, а слезы текут по щекам. Музыка продолжалась, ей не было конца. Я слегка повернул голову, покосился на жену «культурника», которая сидела слева. Она удивленно смотрела на меня. Мне почудилось в ее лице какое-то жадное, неприятное выражение, словно она накинулась на торт, до того жирный и противный, что никто в здравом уме и притронуться к нему не рискнул бы. Я опять устремил взгляд на сцену, потом посмотрел направо, на сестру. Она не таращилась на меня. Видела, конечно, мои слезы, но деликатно отвернулась. Я обнаружил, что еще две женщины в нашем ряду, наклонясь вперед, глазели на меня с тем же неприятно-жадным видом, что и моя соседка слева. Осторожно выпрямился, сложил руки на коленях. Ни встать, ни уйти. Придется сидеть до конца. Хуже, чем сейчас, уже не будет, думал я. Но ошибся. В самом лирическом месте этой части я вдруг громко всхлипнул. Нечаянно. Потом еще раз и еще. Все бы отдал, лишь бы перестать, но не мог, все будто хлынуло наружу, вся накопившаяся во мне злость, и агрессия, и жалость к себе, вся эта мерзость, которую я отчаянно старался спрятать, чтоб не мешала. Во время концерта в «Прогрессе» она хлынула наружу и не желала остановиться, а немного погодя я сообразил, что весь зал видел это и слышал, но силился не смотреть на меня. Наконец концерт кончился, можно поаплодировать молодой скрипачке, которая с блеском дебютировала в Осло. Публика встала, закричала «браво!», я тоже встал, захлопал в такт со всеми, закричал «браво! браво! браво!».
Медленно, нога за ногу, как двое косолапых школьников, мы пошли к рыночной площади. Катрин тоже была смущена.
– Как у вас с Сив? – в конце концов спросила она.
– Да никак, по-моему.
– Ну-ну.
Возле тротуара текла среди крокусов и одуванчиков грязная вода.
– Ты виделся с ней в последнее время?
– По-моему, у нее есть кто-то другой.
– Вот как? – удивилась Катрин.
– Ты прекрасно это знаешь.
– Нет, не знаю. Кто же он?
Мы пересекли Ивар-Мос-вей.
– Не все ли равно. Если она нашла себе нового мужика, значит, перестанет звонить. А то ведь всю душу вымотала своими звонками. Но вообще-то я хотел поговорить с тобой не о Сив.
– Тогда о ком? О дедушке?
– Обо мне и о моей работе.
– А что такое?
– Я больше не могу.
– Трудно чересчур?
– Работа потеряла смысл.
– Уйти хочешь?
– Не вижу в ней смысла.
– Стейн Уве, а что-то другое ты умеешь?
Мы поравнялись с видеокиоском.
– Я не знаю, что мне делать.
Катрин остановилась, пристально посмотрела на меня.
Надо бы рассказать ей, что случилось, но я не мог. Это ведь все равно что отправиться в бесконечно долгое странствие. И опять в голове мелькнуло: лучше бы ничего этого не было. Лучше бы в машине сидел я. Я бы сделал то же самое, что и старикан, только дверцу не стал бы открывать.
Вот и «Книголюб».
Рут по-прежнему глазела на прилавок. Будто вообще с места не сходила. Подняла голову, уставилась на меня сквозь толстые линзы очков, повернулась к двери подсобки и прокаркала:
– Барышня! Барышня! Он пришел! – И опять устремила взгляд на прилавок.
Катрин исчезла в подсобке и тотчас снова вышла. Попыталась улыбнуться, постояла немного, теребя пуговицы блузки. Я присел на стремянку.
– Тут кое-кто хочет с тобой поговорить.
– Самое время!
– Знаю, ты не хочешь. И все-таки поговори с ней, а?
Я глянул на входную дверь.
– Ты что, не знаешь Сив? Да она что угодно сделает, лишь бы привлечь внимание. Стоит повернуться к ней спиной и заняться чем-нибудь без ее участия, как она сразу с тормозов срывается. Я в эти игры больше не играю. Хватит ей мною помыкать.
Перед глазами у меня возникла сцена из «Крестного отца», когда Аль Пачино[10]10
Аль Пачино играет в «Крестном отце» роль Майкла Корлеоне.
[Закрыть] выгнал из семьи старшего брата Фредо. Потом у них умирает мать, и Фредо разрешают прийти, но Пачино не желает находиться с ним в одной комнате. Сестра, семейный миротворец, идет к Пачино. Становится перед ним на колени и говорит: «Неужели ты не можешь простить Фредо? Он такой милый и без тебя совершенно беспомощный. Ты очень ему нужен». Пачино выходит, обнимает брата, заявляет, что отныне Фредо снова будет жить вместе с семьей, и одновременно делает знак, приказывая убить его. Абсурдная история о гордыне и обмане, о человеке, уничтожающем всё и для себя самого, и для своих близких, ведь он уверен, что совершенно точно знает, как все должно быть, а когда реальный мир уже не совпадает с его представлениями, он не желает от них отказаться. Я знал, Сив попробует меня разжалобить. Ей хочется, чтоб я размяк, стал податливым как воск, тогда она опять начнет командовать. Ну уж нет! Едва войдя в подсобку, я понял: так оно и есть. Сел на стул, думая, что во всем этом нет никакого смысла, Сив нипочем не расслабит хватку, она если уж вцепится, так намертво.
– Ты был в управлении, я знаю, – сказала она. – Боишься поговорить со мной?
– Меня вызвали по телефону.
Она с обидой посмотрела на меня. Этот взгляд меня порадовал. Так легче. Щелчком я сшиб со стола дохлую муху.
– Я не должна любить тебя.
Что бы это значило? Я взял со стеллажа иллюстрированный журнал, снова сел и тут заметил на столе перед Сив стакан с холодным кофе, в котором плавал сгусток мокроты.
– Мне надо кое-что тебе рассказать, – начала Сив.
– Я и так знаю.
– Откуда? – Она опешила.
– Рад, что у тебя есть кто-то. Мне же лучше.
– Нет у меня никого. О ком ты говоришь-то?
Я промолчал.
– О ком ты? – повторила она.
– Забудь. Черт с ним.
– У меня правда никого нет.
– Ладно, выкладывай, – терпеливо сказал я.
– Ребенок у меня будет.
Я не сводил глаз с грязного стакана.
– Ну зачем тебе это вранье?
– Не вру я. У меня будет ребенок.
Я скрестил руки на груди.
– Неужто не видишь?
Она была бледная, но уже не пухленькая, наоборот, вроде как постройнела.
– С каких это пор беременные женщины начали худеть?
Сив положила руку себе на живот. Впалый, между прочим.
– Он тут, под моей ладонью. Можешь с моим врачом поговорить.
Слышать дальше мне было неинтересно. Я знал, она и под дверью у меня стояла и даже как-то раз таскалась за мной в Хёугволл на концерт, хотела снова влезть в мою жизнь. Но это уж слишком. Такие приемы использовать нельзя.
– Ладно. Ты ждешь ребенка. И у него есть отец. Если тебе требуется помощь, я готов, только ничего личного. Денег дам, и всё.
Она отпрянула, будто ей в лицо выплеснули ведро воды.
– Ты что, не понимаешь? Ребенок твой.
Секунду-другую я смотрел на страницу журнала, потом сказал:
– У меня встреча через несколько минут.
– Отец ребенка – ты, Стейн Уве.
Я отмахнулся.
– Мне пора.
Сив шагнула к двери, плотно ее закрыла.
– Помнишь последний вечер?
Я подобрал с полу несколько книжек, поставил их на стеллаж, замурлыкал какой-то мотивчик.
– Я не предохранялась.
– Мне надо идти!
Я подошел к окну. Мимо спешил народ, какой-то автомобиль сигналил другому, который почему-то не трогался с места. Казалось, все это происходит не за окном, а на экране. Снаружи был другой мир, где люди думали и говорили совершенно непонятные мне вещи. Понимал я только одно: их не мучают заботы и тревоги. У них все хорошо.
Она попросила меня сесть, сказала, что поговорить все-таки нужно, хочу я этого или нет, и что я не могу делать вид, будто ее не существует, – ведь я отец ее ребенка. И она знает: все, что мы пережили вместе, не умерло, но она не рассчитывает, что будет как раньше, вряд ли это возможно.
– Понятно, почему Финн так заспешил с отъездом из города, – сказал я.
– Что? – Она вскочила.
– Почему бы тебе разок не пойти со своими проблемами к тому, по чьей милости они возникли? Ты спала с Финном, а не со мной. И забеременела от него, а не от меня. А он поджал хвост и бросил тебя в беде. Так куда ты пойдешь?
– Он уехал, потому что я ушла от него.
– Ты никогда ни от кого не уходила, – засмеялся я.
Сив бросилась на меня с кулаками – лупила, кричала, шипела. А когда опомнилась, посмотрела на меня так, будто не может взять в толк, с кем имеет дело. Она оцарапала мне щеку, и я стер кровь тыльной стороной руки. Мне вспомнились слова другой женщины. Она говорила, что лицо у меня прямо каменное какое-то, ей редко доводилось встречать людей, у которых на лице невозможно прочесть ни мыслей, ни чувств. И ведь я не то чтобы холодный, нет, здесь что-то другое, но что именно – она не понимает. Я вдруг сообразил, что все прожитые вместе годы воспринимал Сив как должное. Она постоянно менялась, не преднамеренно и не обдуманно, так выходило само собой, помимо ее воли. У нее все было на поверхности. Это и ввело меня в заблуждение. Я думал, она вправду такая, какой я ее вижу.
Я подошел к ней. Скользнул взглядом по волосам. Раньше они были густые, теперь слегка поредели. Я был совершенно спокоен, словно все вдруг открылось мне как на ладони.
Стиснул ее руку, обозвал шлюхой.
Она взяла со стула свою сумку. Постояла, глядя на обручальное кольцо, которое, как я только сейчас заметил, опять надела, потом сдернула его с пальца и процедила:
– Надеюсь, ты так и сгинешь в одиночестве.
Я слышал, как она выбежала из магазина. Медленно прошел к двери, напряг слух. Тишина. Я вернулся к столу, поглядел на стакан с этой дрянью, думая, что и на сей раз все пошло наперекосяк, совершенно не так, как мне хотелось. Будто кто-то другой встревал в мои дела и направлял их, куда не надо. Вот и теперь она оказалась страдалицей. А кто крутил роман с лучшим другом собственного мужа? Кто так униженно просил за себя? Кто так беззастенчиво врал?
Вошла Катрин.
– Я хочу побыть один. Чувствую себя паршиво.
Катрин посмотрела на меня.
– Грета Йёрстад звонила.
– Грета Йёрстад, – повторил я.
– Наверняка по поводу Нины. Сказала, что дело важное.
Так бы и разнес в клочья эту комнатушку. Все эти умные книжки, которыми моя сестрица бесконечно дорожит, рядами стояли на полках и потешались надо мной. Я стиснул голову ладонями.
– Плохо мне.
Катрин взяла со стола стакан и властным голосом позвала:
– Рут!
Та пришаркала в подсобку, квакнула:
– Да, барышня?
Катрин показала на сгусток мокроты.
– Чтоб больше ты к этому стакану не прикасалась. Он мой. Понятно?
Я взял ее чемодан, отнес его к машине, открыл Нине дверцу. Она села. Я вернулся к калитке. Грета смотрела на меня страдальческим и благодарным взглядом. Я спросил, долго ли она намерена так жить.
– Пока неприятности с Робертом не кончатся, – ответила она.
Она потопталась у калитки, потом сообщила, что нынче в обед перевела Йёрстад на Хуго, а Роберт разорался и расколотил зеркало. Бедный мальчик, пробормотала она, будто потеряла его при трагических обстоятельствах. Судя по всему, ей тоже хотелось уехать на Клоккервейен и спрятаться там. Надо отвечать за свои поступки, сказал я, сама ведь решила передать усадьбу Хуго, помешать тебе в этом никто не мог, и меньше всего Роберт. Я вернулся к машине, сел за руль. Нина рылась в моих компакт-дисках. Да, братишка не иначе как перепутал ее с боксерской грушей, вид у девчонки жутковатый.
– Он попросил у тебя прощения? – поинтересовался я.
– Прощения? Роберт?
– Но ведь так нельзя!
– Почему нельзя-то?
Мы ехали по Нурдре-гате.
Нина искоса взглянула на меня и стала тихонько подпевать музыке.
– Классный мотивчик! – Она принялась насвистывать припев. Потом улыбнулась, отчего из подсохшей было ранки на верхней губе снова потекла кровь.
Я достал из бардачка бумажный платок, подал ей. Она прижала платок ко рту. А я как наяву увидел перед собой Роберта: голый по пояс, он кулаками мутузит ее в хёугерском подвале. История вроде как с собакой Трёгстада. Концы с концами не сходятся. Ну, вот и добрались. Клоккервейен. Я зарулил во двор, вытащил из машины багаж. Нина села на траву возле ограды, глядя на Квенну. Всё сплошь затоплено. Лодки сновали туда-сюда меж крышами сеновалов, сараев и односемейных домиков. Какой-то мужик в оранжевой робе – крохотная фигурка далеко внизу, – стоя в лодке, уговаривал собаку спрыгнуть к нему с крыши. Нина смотрела на реку, на мусор, на обломки в воде. Я спросил, о чем она думает.
– Ты терял сознание в воде? Что ты тогда чувствовал? Покой?
– Почему ты спрашиваешь?
– Да так, интересно. – Она покраснела.
Сколько раз я слыхал такие вопросы. Не первый год жил и работал в этом городе, заходил в дома, разговаривал с девчонками и парнями. Родители и учителя глаза бы вытаращили, если б дознались, что за фантазии роятся в голове какой-нибудь маленькой толстушки в черном платьице, от которой словечка не дождешься. А я с ребятами разговаривал, да и кое-кто из психологов был не прочь нарушить врачебную тайну. Нина, конечно, другая, и все-таки что-то в ней напоминало мне об этих юных сумасбродках, взахлеб рассуждающих о смерти и сатане. Я сходил на кухню за бумажной салфеткой, присел подле Нины на корточки и стал стирать кровь с ее рта. Она сложила губы трубочкой. Ну вот, готово. Она облизнула свой шрам, потом спросила:
– Как ты меня находишь?
– Ты очень симпатичная.
– На самом деле ты так не думаешь.
– С чего ты взяла?
– Ты же никак этого не показываешь.
– А надо?
– Конечно!
Она положила руку мне на колено, смерила меня взглядом, явно стараясь представить себе, что сейчас будет, что она скажет.
– По-моему, тебе надо немножко отдохнуть, – сказал я.
Нина подняла голову. Встала и пошла в дом. Я за ней. В комнате она подхватила с полу чемодан, бросила на кровать, открыла. Он был битком набит растрепанными книжками, теми драматическими опусами, которые я последние два года привозил из «Книголюба». Она взяла одну из книжек, легла на кровать и стала читать. Я пошел к себе в спальню, открыл платяной шкаф, разыскал там пластиковую корзинку со снотворными таблетками и собрилом. Потом поставил на кухне чайник. Достал сковородку, вытащил из холодильника яйца, молоко, ветчину, зеленый лук. Приготовил все для омлета, налил в фарфоровый чайник кипятку, опустил туда два пакетика «Липтона». Намазал несколько хрустящих хлебцев апельсиновым джемом и мягким сыром. Наполнил большой стакан молоком. Поставил сахарницу и молоко на поднос, запек омлет, положив сверху тонкие ломтики сыру. Вынул из чайника пакетики с заваркой и, водрузив его и все остальное на поднос, двинулся с этим добром в гостевую комнату. На полдороге остановился, пристроил поднос на полу, зашел в ванную, пустил горячую воду и, подхватив поднос, продолжил путь. У двери гостевой комнаты на секунду-другую замер, прислушиваясь. Все тихо. Может, она уснула? Что ж, тогда я просто оставлю поднос на столике. А сам пойду в гостиную, почитаю немножко, приберусь, покрашу шкаф изнутри. Вообще-то надо связаться с Педагогико-психологической службой или с Детской психиатрической поликлиникой, но не сейчас, пускай она отдохнет, успокоится, потом я поговорю с ней, послушаю, что она расскажет о случившемся. То, что Роберт избил свою младшую сестру, уже не казалось немыслимым. Я тихонько отворил дверь и вошел в полутемную комнату. Нина спала, ничком лежа на постели. Я поставил поднос, сел на край кровати и заметил у нее в зубах какое-то украшение. Одна рука засунута в трусы. С губ слетают невнятные тихие звуки. Зад ритмично двигается.
Меня так и вынесло за дверь. Но в конце концов я опять подошел к двери, заглянул внутрь. Она лежала, приоткрыв рот, дышала шумно и тяжело, рука теперь свешивалась с кровати. Я тихонько подкрался к ночному столику. Она открыла глаза.
– Ты спи, спи, – сказал я.
Она приподнялась на локте, утерла рот.
Я шагнул к двери.
– Он уже несколько лет прохода мне не дает.
– Что ты сказала? – Я повернул обратно.
– Правда-правда. Он меня лапает.
Я присел на край кровати.
– О ком ты?
Она взяла с подноса хрустящий хлебец.
– Иногда просто сидит и смотрит на меня. А иногда я кое-что делаю. – Она взяла вилку, отрезала кусочек омлета.
– О ком ты говоришь?
Нина резко смахнула поднос на пол, взвизгнула:
– По-твоему, я вру?! – и повернулась ко мне спиной.
Я встал, посмотрел на нее секунду-другую, вышел из комнаты, побрел в гостиную, а оттуда – на веранду. Стал смотреть на Мелхус и на огромное пространство, залитое водой, которая все прибывала. Уму непостижимо, как я мог быть таким наивным. Ведь и дома у них бывал, и в автобусе не раз сидел рядом с Ниной, и с Робертом в пабе встречался, и Грета ко мне на Клоккервейен приезжала, но я ничегошеньки не заметил. Ни ее беспокойства, ни его неприязненности и злости, будто он хочет что-то скрыть. Ни Гретиной уклончивости, когда речь заходит о них.
Я позвонил на Нурдре-гате. Трубку сняла Бетти.
– Грета дома? – спросил я.
– Нет, ушла куда-то. Что-нибудь ей передать?
– Я заеду. А Роберт у вас?
– Нет. Передать ему, что ты звонил?
– Я сейчас приеду.
Я пересек территорию электростанции, выехал на Нурдре-гате, миновал «Брейдаблик», где под руководством Хьерстада несколько монголоидов в тренировочных костюмах прыгали на лужайке, свернул на подъездную дорожку и остановил машину перед домом Хуго и Бетти. Юнни стучал в футбол об стенку гаража, Тросет сидел под яблонями на садовых качелях. В траве у его ног стоял коричневый фибровый чемоданчик. Я открыл входную дверь, заглянул внутрь, вошел в коридор. У окна в гостиной стояла Грета.
– Мы слышали про тебя по радио, – сказала она.
– Мне нужно поговорить с тобой.
– Я знала, ты непременно совершишь что-нибудь этакое. Так всем и твердила: помяните мое слово!
Как же ей об этом сказать?
– Между Робертом и Ниной было что-нибудь в последнее время?
– Да ведь ты знаешь, что произошло. Роберту здесь, в доме, остаться нельзя.
– Нет, я не о том, я имею в виду, было между ними что-нибудь… ну…
Как сказать матери, что ее сын и дочь состоят в интимных отношениях?
– Ты к чему это клонишь? – Она жутко перепугалась.
Дохлый номер. Грета и слушать не станет. Пропустит мимо ушей, и всё, подумал я. В мире Греты Йёрстад такое не существует, она будет стоять столбом, а потом пойдет смотреть телетекст.
– Ладно, забудь, – сказал я.
Грета отодвинула штору, глянула в сад.
– Гуннар на север собрался, к сестре.
Начался дождь. Капли застучали по стеклу.
– Я сказала ему, что перевела усадьбу на Хуго. – Она вздохнула и мелкими шажками поспешила вон из гостиной, куда-то на второй этаж.
Я немного постоял, глядя на мужчину в коричневом костюме, который сидел на качелях и ладонями разглаживал на коленках вытертые брюки. Дождь усилился. Я прошел на кухню. Хуго сидел за столом, чистил ружье. Стол застелен газетами, на них разложены детали «Крага». Сейчас он щеткой и белой тряпицей драил ложе. Хуго всегда тщательно ухаживал за оружием. Вообще, во всем, что касалось оружия, он был образцом – и в исправности его содержал, и обращался с ним умело, и стрелял прекрасно. Побеждал в стрелковых состязаниях, мог бы и до первенства страны дойти, но его это не интересовало.
– Слыхал, усадьба к тебе переходит, – сказал я.
Он кивнул.
– То, что от нее останется.
– Нынче утром все постройки стояли.
Он перестал полировать ложе.
– Почем ты знаешь?
– В управление обо всем сообщают.
Хуго собрал «Краг», вскинул ружье, прицелился в стену и отставил.
– А что с Тросетом? – спросил я.
Он недоверчиво покосился на меня.
– Откуда мне знать?
– Он говорит, что поедет к сестре.
– Ну и что? – Хуго пожал плечами.
– Сестре восемьдесят девять, она почти слепая, ноги не ходят. Живет в приюте для престарелых, а свой дом продала. Как же он может у нее жить?
– Он взрослый мужик.
Впервые за все то время, что я знал Хуго, мне подумалось, что он холодный и скользкий тип. Я всегда твердил себе, что он одинокий волк, неразговорчивый недотепа, но сейчас он сидел тут и говорил мне, что ему начхать, пускай Тросет хоть повесится.
Я вышел на лужайку, к Тросету. По-прежнему моросил дождь, тихий, весенний.
– Говорят, ты уезжать собрался?
Иногда у меня вообще никакого контакта с людьми не получается. Не вижу я, чего они хотят, о чем думают, что чувствуют. А иногда разом все замечаю. Некоторые люди как открытая книга, а таких, у кого по-настоящему серьезные проблемы, среди них совсем мало. Тросет был более чем готов выложить все, над чем ломал себе голову.
Я тоже сел на качели. Он подхватил чемоданчик, водрузил на колени.
– Дорога на север перекрыта, все с паводком воюют, так что с отъездом дело дрянь. Если хочешь, я потолкую с социальной службой. У них есть жилье, – сказал я.
– Вряд ли это понадобится.
– Из-за дома, да?
Он не ответил.
– Компенсацию получишь.
– Деньги роли не играют.
– Ты с кем-то повздорил?
Опять молчание.
– Может, с Йёрстадами что?
Тросет открыл рот и снова закрыл. Грязным ногтем поковырял чемодан.
– Ты с Людвиком Йёрстадом когда-нибудь встречался?
Он поднял кустистые брови.
– Ну. Заходил он, было дело.
– К тебе и к Еве, в шестидесятых?
– Для Греты это была единственная возможность повидать отца.
– Грета и Людвик встречались у тебя, тайком?
– Она была взрослая. Сама решала.
– А Расмус знал об этих встречах?
– Нет. Он бы вышвырнул ее из дому.
Мне вдруг пришла в голову одна мысль, и я рискнул:
– Что произошло у тебя с Георгом?
Тросет поставил ноги на землю, перестал качаться.
– Между вами что-то случилось?
– Пожалуй, что не исключено, – тихо сказал он.
Я, как наяву, увидел перед собой Георга, носатое лицо, голос, непреклонный взгляд, непомерное чувство справедливости. Почему человек, до такой степени одержимый справедливостью, непременно должен быть справедливым? Вопрос напрашивался сам собой, но я никогда об этом не задумывался.
– Вы стали врагами?
Тросет покачал головой.
– Враги – слово неподходящее.
Мне вспомнилось кое-что слышанное мимоходом на вокзале. И имевшее отношение к Тросетовой жене. Анекдотическая история о том, как Тросет в кафе не позволил какому-то малому сесть за их столик, напротив Евы. Встал и попросил уйти из кафе. Малый отказался. Тросет поглядел на него, потом вдруг схватил пустую чашку из-под кофе и принялся стучать ею по столу, а сам все смотрел на этого мужика. Смеялся народ над Тросетовой ревностью и над непутевой бабенкой, на которой он был женат. Но что-то в этой истории меня царапало, казалось странным.
– Как Ева и Георг относились друг к другу? – спросил я.
Он крепко прижал к себе чемодан.
– Между ними что-то было?
Лицо Тросета посерело как бумага. Он стиснул зубы, кашлянул и едва заметно кивнул. Из носа вытекла блестящая струйка, сбежала по губам. Он опять кашлянул, потом пробормотал:
– Некоторые вещи в привычку вошли.
Я прямо воочию видел, как Георг грузно топал к соседям, пока Тросет ходил в магазин или ездил в Мелхус, как он входил к Еве на кухню, отпускал ей жадный и равнодушный поцелуй, лапал за грудь и тащил безропотную тихоню в комнату.
Лицо Тросета выдавало, что это еще не всё. Я так и сказал:
– Это ведь не всё.
Прилетела сойка, уселась на дерево.
– Я ничего не сделал, – прошептал он.
– И все-таки лучше тебе рассказать.
Он встал с качелей, но глаз не поднимал, словно стыдился чего-то.
– Я был на верхнем участке.
– И что ты там делал?
– Он этак вот взял да и поехал. – Тросет развел руками и вздрогнул.
Сперва я не понял. А потом до меня вдруг дошло.
– Ты это про несчастный случай? Тот, с трактором?
Он во все глаза смотрел на сойку.
– Что Хуго сделал? Нарочно наехал на Георга? А после еще добавил? Или так вышло нечаянно?
Гуннар не ответил.
– В колодец Георга столкнул Хуго?
Он опять вздрогнул. Глаза покраснели.
– Послушай, – сказал я. – Срок давности не истек. Если ты говоришь правду, речь идет об умышленном убийстве. И расследование можно возобновить. Но тогда тебе придется под присягой дать показания о том, что случилось за скотным двором.
Тросет снова подхватил чемодан.
– Нельзя это так оставлять, – сказал я, вставая с качелей.
Все зависело от старого упрямца. Он чуточку поддался, но в том-то и дело – наконец облегчил душу. Тринадцать лет носил это в себе.
Почему он ничего не говорил?
Тросет взглянул на дом, опустил глаза. Я обернулся. Возле кухонного окна стоял Хуго. Лицо жесткое, тяжелое, в иссиня-черной щетине, с ямкой на подбородке. Он задумчиво смотрел на нас, будто догадывался, что мы говорили о чем-то, связанном с ним.
– Гуннар, – сказал я.
– Мне надо кой-кого повидать.
– Он убил родного отца.
Тросет встал и направился к калитке.
– Ты куда идешь-то?
– В «Брейдаблик».
– Зачем?
Он вышел за калитку, заспешил прочь.
– Зайди вечером ко мне домой! – крикнул я ему вдогонку.
Широко шагая, Тросет исчез из виду. Хуго по-прежнему стоял у окна. Спокойный. Смотрел на меня из глубины своих владений.
Смеркалось, улицы погружались в тень, но небо еще было светлым. Народ по домам не расходился, одни спускались вниз поглядеть на солдат и на дамбу из мешков с песком, другие просто слонялись без дела, толковали про паводок, третьи предпочитали выпить. Я ехал через центр – побывал и в пабе, и в «Бельвю», и все злачные места прочесал, но Роберта не нашел. Возле пивоваренного завода развернулся и, переключив скорость, двинул в гору, на Клоккервейен, и стоило мне снова увидеть свой дом и участок, как нахлынуло беспокойство. Я зарулил во двор, запер ворота, глянул в долину, вошел в дом, запер дверь. Нинины туфли на платформе по-прежнему стояли в коридоре. Она была здесь. Я надеялся, что она уйдет на Нурдре-гате, и я бы не смог ей помешать. Но она осталась. Я поднялся наверх, сел с пивом в темноте, размышляя о том, что услыхал за день. Обычно я не слишком переживал, сталкиваясь в городе со всякими несчастьями. Иначе нельзя. По крайней мере, я всегда твердил, что полицейский не может принимать такие вещи близко к сердцу. Но когда вспоминал разные истории, с какими мне довелось соприкоснуться, понимал, что это неправда. Я переживал за старуху, до полусмерти избитую родным сыном, за девочку, которая на санках врезалась в автобус, за парня, который приставил себе к подбородку дробовик и спустил курок, но остался жив, без нижней челюсти и без носа, за затюканного мальчонку, который разломал ларек «Уличной кухни» и получил от отца по первое число. От такой работы, как у меня, дома отрешиться невозможно. Я допил пиво, поставил банку на стол. Не вышло из меня полицейского-профессионала. Я оставался на службе круглые сутки. Приоткрыв дверь, я заглянул к Нине. Она спала, укрывшись одеялом, дышала ровно. Давно я не слышал ночью на Клоккервейен чужого дыхания. Постоял немного, послушал, скользнул взглядом по плечам, по лопаткам, проступавшим в мягком весеннем полумраке. Потом подошел к кровати, наклонился и легонько провел пальцами по ложбинке на ее спине. Она не шевелилась. Я смотрел на светлые волосы, на эту ложбинку, исчезавшую в трусиках. Наклонился еще ниже и вдруг понял, что она не спит. Прикидывается спящей и чувствует мои прикосновения. Я отпрянул и попятился вон из комнаты. Щеки у меня горели.


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





