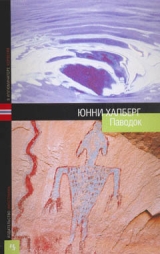
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Я взял Нину за плечи, посадил в машину. Взглянул на небо. Над головой летит облачная пелена. Кое-где в разрывах проблески синевы. Я спросил, как насчет съездить в Брекке, посмотреть на Йёрстад. Она вроде бы хотела что-то мне сказать, но не ответила, глядела вниз, на реку. Мы поехали дальше. На обочине кое-где были припаркованы автомобили, а на дамбе ниже по склону стояли люди с биноклями. На съезде с главной дороги супружеская пара в спортивных костюмах поставила раскладной столик. Оба сидели на стульях, закусывали и смотрели на разлив. Мы подъехали к Сунде. Там во дворе стояло штук десять машин – импровизированный приют для бездомных. Похоже, за последние несколько сотен лет паводка сильнее этого и правда не бывало, подумал я. Но страха не чувствовалось. Тихо, солнечно, тепло, Квенна спокойно и неторопливо несла мимо свои воды, усеянные всяким мусором, а внизу, в Мелхусе, по водной глади сновали катера и лодки, народ вылавливал вещи.
В нескольких километрах южнее Вассхёуга были выставлены заграждения. Дорога и здесь пострадала от оползней. Я съехал на обочину, подошел к одному из ленсманов, стоявших возле заграждения. Бросил взгляд на реку, но Мелё отсюда видно не было. Я спросил у ленсмана, как тут обстановка. Он ответил, что, по слухам, все усадьбы до самого Юна выстояли. В холмах к северу от Юна снесло дамбу, и вода смыла несколько мелких хуторов. Двое стариков погибли. Минуту-другую я смотрел на мутный бурый поток, хлеставший вниз по склону среди деревьев, потом отвернулся и зашагал назад к машине.
– Наша усадьба стоит, – сказал я Нине.
Она взглянула на солнце и тихонько обронила:
– Замечательно.
– Может, заедем куда-нибудь и перекусим?
Южнее туннеля, возле указателя, сообщавшего о достопримечательностях, я свернул. Съехал на площадку с заброшенным домом и, подхватив сумку-холодильник и одеяло, не спеша двинул к реке.
Лужайка сплошь пестрела цветами. Ограда у берега скрылась под водой. Бабочки порхали среди поповника и наперстянок. Я расстелил на траве одеяло. На опушке по-прежнему стояла старая ванна, служившая поилкой для коров, которые раньше тут паслись. Я несколько раз бывал здесь. Народ сюда заглядывал редко, тишина вокруг, птички поют да комары кусаются, вот и всё. Я достал стаканы, одноразовые тарелки, ножи. В сумке нашлось несколько бутылок пива, еще холодного; я нарезал зелень, испанскую колбасу и хлеб с кунжутом, разложил все на одеяле. Нина посмотрела на еду. Обычно продукты из той лавочки ей не нравились. Все, как она говорила, вонючая отрава – и оливки, и чесночная колбаса, и сыр бри. Ничего, за исключением норвежского вымоченного мяса или рыбы, она на дух не принимала. Сервелат и рыбные биточки были в самый раз. Нина попробовала и принялась за еду, без жалоб.
Минуту-другую я наблюдал за ней.
– Ну как? Вкусно?
– Вполне, – кивнула она, продолжая есть, откупорила себе и мне по бутылочке пива.
Мы не разговаривали, слушали щебет птиц, жужжание насекомых, шум реки. Желна застучала по сухой сосне неподалеку. Удивительно, как она только может раз за разом лупить башкой по твердому, как камень, дереву, ни голова у нее не кружится, ни наземь она не падает. У дятлов, что же, не бывает головной боли? И сотрясений мозга не случается? С какой стати Господь Бог надумал сотворить птицу, которая всю свою жизнь долбит клювом твердокаменные деревья и столбы?
– Почему ты не уезжаешь? – спросила Нина.
– Ты имеешь в виду – из дома?
– Тебе скоро тридцать. Все твои ровесники разъехались.
– А зачем? Я люблю встать пораньше, раздвинуть шторы и окинуть взглядом все те же знакомые луга и поля, люблю шагать с ведром через двор, или поставить под вечер сети возле Хисты, или сидеть в сумерках, слушая, как в Брекке воют собаки. Люблю ходить с Юнни на охоту, стрелять мелкую дичь.
– От этой любви ты вечно на всех и кидаешься?
Посреди лужайки росла одинокая береза. Я смотрел на ее высокую шелестящую крону. Листочки трепетали, и солнце взблескивало в этих трепетных ладошках.
Нина сняла кофту, подошла к березе, села, прислонясь спиной к стволу, подставив лицо солнечным лучам, и закрыла глаза. От детской пухлости в ней не осталось и следа. Некоторые девчонки здесь, в горах, взрослеют непостижимо рано. Природа словно решила, что лет в пятнадцать им уже пора становиться взрослыми.
Я собрал остатки еды и спустился к наскальным рисункам, выбитым в каменной стенке на высоте двух-трех метров. До вершины, пожалуй, метров десять будет. Туда, к обрыву, охотники гнали через лес оленей и лосей, животные падали с кручи, разбивались о камни. Как говорил мне один мужик, рисунки потому и сделаны, что народ считал: так они заманят сюда животных, а те упадут и погибнут. Даже верили, что лось, едва его нарисуют, практически уже мертв. Тонкая мысль, только, по-моему, сомнительная. Я в каменном веке не разбираюсь, но с какой стати они должны были в это верить? Зачем тогда вообще ходили на охоту, если думали, что добыча и без того лежит под обрывом? По-моему, у них было для этого много разных причин, в том числе и такая: они сочувствовали животным, которых убивали. Я, конечно, не ходил по Мелхусу и не твердил всем подряд, что люблю животных, но, кажется, знал среди родни кое-кого, кто был совсем другим, не мог ничего сказать, и глаза у него не поймешь какие – умные ли, глупые ли. Животные просто существовали рядом с нами, ходили, издавали звуки, мычали, блеяли, а зимой от них шел пар. Я спустился к реке. У подножия горы она образовывала маленькую бухточку, где вода, покрытая пеной и желто-бурой пыльцой, плавно закручивалась спиралью, кружа заодно ящик из-под фруктов, перекореженные сучья, зеленые ветки и пластиковые бутылки от шипучки. Какая-то рыбина – не то крупный хариус, не то форель – плеснула в течении, и опять все стихло.
Возле самого берега я заметил игрушечное ружье с голубым прикладом. Знакомая вещица. На одной стороне приклада я сам выжег точечками – ЮННИ. Наклонился и вытащил игрушку из воды, вспомнив, что лежала она в стенном шкафу на втором этаже. А теперь вот оказалась в реке. Я уже пробовал представить себе, что со мной будет, если я услышу, что нашу усадьбу смыло. Думал, будет плохо, но сейчас у меня по-страшному засосало под ложечкой, когда я вообразил себе лужайку, залитую паводком, без дома, вообще без единой постройки. Знал ведь, что означает иметь кров и как все там взаимосвязано и взаимозависимо. Почему в Херслеве у рагу вкус такой, а в Арле совсем другой? Почему у одного и того же вина разный вкус в Турине и в Бергене? Достаточно растереть в пальцах комочек земли и понюхать. В других местах у нее совершенно иной запах, не как здесь. Вот такие дела. Либо бери все это с собой, либо забудь. Я плюхнулся на камни, облокотился на колени, размышляя о том, что жилого дома нет и что сделать можно только одно, а начинать надо с визита к уездному агроному.
Я вернулся на поляну. Нина по-прежнему сидела, прислонясь к дереву. Ветерок шевелил ветки, трава была высокая, зеленая, цветы покачивались, а среди травинок шныряли шмели, грузные, с желтыми мешочками на задних лапках.
Нина открыла глаза, сощурилась.
– Что случилось?
– А разве что-то случилось? – спросил я.
– Ну, с усадьбой? – Она встала.
– Да нет, ничего.
Мы посмотрели друг на друга.
– О чем вы со Стейном Уве говорили?
– О тебе и Хуго, – ответил я.
Мы оба переминались с ноги на ногу, не смея продолжать.
– Ладно, поехали обратно, – наконец проговорил я и взял ее за руку.
Она уперлась. Я сказал себе, что понимаю ее и никоим образом не стану принуждать. И зашагал прочь, не торопясь выбрался на тропинку, что вела к машине. В руке я нес сумку, на плече – одеяло. Нина скоро догнала меня и пошла рядом.
Потом вдруг остановилась и тихо сказала:
– Это всё он.
Я обернулся, посмотрел на нее.
– Я не знала, о чем речь. Не знала, что это плохо. Он был тогда такой милый, добрый. Столько для меня делал. Помнишь? В тот раз он был добрый. – Из глаз у нее брызнули слезы, и она поспешила прочь.
Я был один в комнате. Тросет собрал свои вещи и ушел. А я сидел с письмом, которое мне дала Нина. Написал его Хуго. Я прочитал. Какая гадость. Лучше бы мне никогда этого не видеть. Сунул листок во внутренний карман. Запихал в сумку туалетные принадлежности, рубашки, брюки, носки, выходные ботинки. Взял одну из книжек, стоявших в комнате, ужастик с «Обезьяньей лапкой» и «Пауком», тоже сунул в сумку. На этих книжках по-прежнему стоит мое имя. Я сел на диван, глядя на маленькую картину – избушка у тихого водоема. В нижнем углу – его инициалы. Я достал из сумки финский ножик, прицепил ножны к поясу, шагнул к картинке и располосовал ее. Потом сунул нож в ножны, поднял сумку и чемодан, вышел в коридор, открыл дверь в комнату Юнни. Он сидел за столиком у окна, рассматривал что-то на столе. Шторы он задернул. Я закрыл дверь. Он вздрогнул и быстро спрятал под бумагами то, что лежало на столе.
– Меня не будет несколько дней, – сказал я.
Он знаками спросил, куда я собрался.
– Не знаю пока.
Юнни смотрел на свои руки.
– Я вернусь.
Знаками он показал, что не боится, уверен, что я вернусь. Но хочет знать, что я намерен делать перед уходом.
Он догадывался: что-то происходит.
– Ничего особенного. Просто мне надо на несколько дней уехать.
Юнни спросил, что я намерен делать с усадьбой.
– Смыло ее.
Он поник на стуле.
– Вот что я нашел возле наскальных рисунков. – Я протянул ему игрушечное ружьишко. Он взял его, повертел в руках. – Я подумал, что тебе лучше услышать это от меня. – Я погладил его по голове, а он взял мою руку и крепко сжал. – Я вернусь.
Юнни обеими руками стиснул мою ладонь.
– У тебя есть работа, ты можешь о себе позаботиться. Ты ведь стал мужчиной.
Еще несколько секунд – и он выпустил мою руку, отвернулся и заплакал.
Я не слышал, чтобы Хуго вернулся. Ни мать, ни Бетти понятия не имели, где он. Грузовичка на месте нет. В коридоре я поставил сумку и чемодан на пол, надел ботинки. Дверь в конце коридора была открыта. Там у Бетти и Хуго стоял телевизор. Я увидел свою мамашу, она была в комнате, но телик не включала. Подойдя к двери, я разглядел, что в руках у нее газета; она дрожала – не то замерзла, не то простыла. Но я ей не сочувствовал, она сама заварила кашу. С ней всегда так: сама что-нибудь затеет, а после жалеет. Ну, допустим, я премьер-министр в какой-то стране. Впущу я мамашу свою в страну, дам ей вид на жительство, а может, и гражданство? Допустим, страна эта совсем маленькая. Она там не спрячется, и от меня тоже. Все время будет рядом, чуть что заявится с воплями в самый неподходящий момент. Но если не дать ей вида на жительство и гражданства – что ей тогда делать? Она знать не знает, а оставаться здесь ей ни в коем случае нельзя. Я вошел в комнату, стал прямо перед нею.
– Я, бывало, не раз жалел, что ничего нельзя поправить. А вот теперь уже не так в этом уверен. Все происходящее имеет причину. – Я погладил ее по волосам.
Она испуганно посмотрела на меня. А я все гладил ее волосы, но ничего к ней не чувствовал, ни нежности, ни родства. Какая разница, прощу я ее или нет. Не знаю, заметила ли она это, наверно, заметила – по моему лицу, по тому, как я гладил ее волосы. Я провел ладонью по ее щеке и опустил руку. Думаю, что-то до нее дошло. Она была маленькая, худая и понятия не имела, что делать. Я сказал, что люблю ее, сказал точно так же, без всяких чувств. Расстегнул куртку, достал письмо Хуго.
– Не представляю, много ли ты поняла. Но хочу, чтоб ты знала, как все обстоит. Прочти, только попозже. – Я сунул письмо ей в руки и вышел.
Взял чемодан и сумку, спустился на асфальтированную дорожку, открыл калитку, не дожидаясь, пока автомат отворит ворота, и зашагал по Нурдре-гате. Оглянулся. За стеклом в окне второго этажа стояла Нина. Будто призрак девчонки, которая всю жизнь провела взаперти, под неусыпным присмотром сурового отца.
Я пошел дальше, поравнялся с «Брейдабликом».
Тросет в саду подстригал живую изгородь.
Я пересек газон, поставил багаж на траву и стал смотреть, как ловко и ровно он стрижет. С двух концов изгороди он забил колышки и протянул между ними бечевку, по ней и ровнял ветки. Опустил ножницы, утер потный лоб.
– С какой стати ты взялся за стрижку? – спросил я.
– Это всё Грета.
– Она-то при чем?
– Приходила извиниться, прощенья просила. В конце концов они даже подружились. И он сказал, что им нужен садовник.
– И она предложила тебя?
– Ага, так и было, – кивнул Тросет.
– Я знаю, что ты был там, Гуннар.
Он отвернулся.
– Знаю, что все эти годы ты молчал. Не знаю почему, но и упрекать тебя не стану. Ты, наверно, думаешь, я потребую, чтоб ты дал показания, только я не собираюсь ничего требовать. Ты дашь показания, если сочтешь, что так надо. Или не дашь, если решишь иначе.
Я пожал ему руку. Он уронил ножницы, стоял, покачиваясь с мыска на пятку, в полном замешательстве. Потом моргнул и тихонько пробормотал:
– Будем надеяться, что чего-нибудь выйдет.
Стейн Уве Санн
Белый коттедж. Она снимала второй этаж. На первом жила Ева, ровесница Сив. Я и ее знал. Много раз представлял себе, как они сидят, пьют чай и обсуждают меня. Будто наяву слышал, как Сив упорно уходит от того, что натворила, твердит, что чувствует в себе две стороны, никак не связанные друг с другом, а под конец распространяется о моем эгоизме и отчужденности. Я поднес палец к кнопке звонка. Конечно, признаваться неохота, но ведь, пожалуй, это одна из причин, что по ночам я лежу без сна, ворочаюсь и вижу перед собой ее лицо. Что, засыпая, все время слышу ее голос. По крайней мере, я хотел бы поговорить с ней, без горечи и издевки. Хотел бы узнать, правду ли она сказала или это просто последний способ вернуть меня. Чего ради ей прилагать столько усилий? Она эгоистка и готова соперничать с кем угодно, особенно с женщинами, из-за чего угодно, но долго ли она намерена стелиться передо мной? Я нажал на кнопку. Один раз и другой, потом и на кнопку первого этажа. Обошел вокруг дома, заглянул в нижнюю квартиру – пусто, никого нет. На втором этаже было открыто окно.
Я бросил камешек. В доме напротив на веранду вышел мужчина, сердито крикнул:
– Зачем камни-то бросаете?
– Все в порядке. – Я подобрал новый камешек.
– Я полицию вызову!
– Так я и есть полиция, – ответил я и опять бросил камешек.
– Только попробуйте бросьте еще раз! – Мужчина хватил кулаком по перилам веранды.
Я сел в машину и поехал прочь. Обычно она дважды в неделю ходила на тренировки, по понедельникам и средам; может, она и сейчас на стадионе. А может, позвонила мне на работу, узнала, что я заболел после истории в Рёлдале, и поехала ко мне. Я выбрал путь мимо купальни, спустился оттуда на Нурдре-гате и двинул в гору, на Клоккервейен. У ограды припаркована машина. Мой отец сидел на крыльце, ждал. Я зарулил во двор, вышел из машины, зашагал к дому. Отец не был на Клоккервейен больше года. Он встал, отряхнул брюки.
– Тебя можно поздравить, – сказал он.
– Спасибо.
– По телевизору тебя показывали.
– По местному каналу.
– Не только, еще и в «Новостях дня».
Я не знал, что сказать. Он теребил пиджак, чувствуя себя не в своей тарелке.
– Что, снова дед?
– Да, надо бы тебе приехать.
– Он в больнице?
– От больницы он отказался. Мы вызвали врача.
– Плохо дело?
– Да, вправду плохо.
– Едем.
– А на работу тебе не надо? У вас там полная неразбериха.
Мы пошли к машинам. Я пропустил его вперед и поехал следом. Так лучше всего. Отец всегда ездил с ветерком. Врубит четвертую передачу – и вперед, поэтому визг шин его автомобиля слышно издалека. В школе меня из-за него вечно дразнили. Он работал на электростанции ночным сторожем и в дневное время ходил усталый, с видом туповатым и измученным, а юные хулиганы, конечно же, этим пользовались. Постоянно подстраивали ему всякие пакости – то бумажник на дорогу подбросят, то глушитель снегом забьют, – и всякий раз он попадался на их удочку. Я стыдился появляться с ним вместе на улице. А уж родительские собрания или рождественские праздники вообще были настоящей пыткой. Я видел в заднем стекле машины его затылок, поредевшие волосы и снова, как наяву, почувствовал на себе выходной костюм, рождественский или выпускной, пиджак и брюки какие-то тесные, колются. Словно в цепях ходишь. Но я не жалел себя. Думаю, дело в том, что я не мог себе представить, что будет иначе, или что я могу потребовать чего-то большего, что жизнь может быть лучше и веселее. Печально, но я никогда не понимал, что можно добиться лучшего.
Мама ждала на лужайке. Сообщила, что в обед они помогли деду спуститься вниз и он поел вместе с ними. Казался бодрым, как никогда. Но скоро сник, сказал, что хочет прилечь. Мама слышала, как он потащился в уборную, а потом все стихло. Через некоторое время она проверила, но там оказалось пусто. Вышла на крыльцо и увидела его. Он шел в лес. Мама с отцом бросились за ним, а он спрятался за сосной и закудахтал как курица. Потребовал, чтобы отец ушел домой, иначе он ни слова не скажет. Отец ушел. Мать осталась, начала переговоры с упрямцем.
– Он сказал, что хочет отыскать себе местечко в лесу, – тихо заметила она.
– И чем же ты его задержала?
– Посулила, что ты приедешь.
– А еще что-нибудь сулила? Насчет Сив?
– Кажется, да, – пробормотала она. – Очень ему охота, чтобы вы помирились.
Отец отковырнул от стены кусок отставшей краски и медленно открыл входную дверь.
Я поговорил с врачом. Он спросил, не вызвать ли «скорую». Дед, конечно, не хочет в больницу, но можно дать ему успокоительного и отвезти туда.
Я отклонил эту идею.
Дед лежал, опираясь на целую гору подушек. Весь какой-то желтый, на лице темные пятна. Когда я заглянул в комнату, он спал, хрипло втягивая воздух и со свистом выпуская, но стоило мне закрыть дверь, как глаза открылись, хрипы умолкли. На вид он показался мне совсем слабым. Глаза, обычно ясные, зоркие, помутнели, словно подернулись молочно-голубой пленкой. Я сел на край кровати, глядя на его горбоносое лицо.
– Говорят, ты в лес собирался, новую жизнь хотел начать, – сказал я.
– Да ну? Неужто?
– Ты не помнишь?
– А что тут помнить? – Он закашлялся.
– Мама скрипку достала.
Я показал на полку над кроватью. Дед повернул голову, взглянул на свою старую скрипку.
– Да уж, иначе она никак не могла, – проворчал он. – Непременно ей надо напомнить мне о моих неудачах.
– А я любил слушать, как ты играешь.
– Это ты сейчас так говоришь, чтоб меня порадовать.
– Нет, правда любил.
Он повернул голову, без всякого выражения посмотрел на меня. Руки сплошь в печеночных пятнах. На одном предплечье черные синяки. Видно, врач брал кровь на анализ или лекарство колол. Дед поднес руку ко лбу, застонал.
– Я слышу, как течет кровь.
– Что ты сказал? – переспросил я.
– Слышу, как кровь течет.
– Ты просто себе внушаешь.
– Нет. Я чувствую. – Он отвернулся.
Опять пошел дождь. Капли монотонно застучали по гофрированной крыше за окном. Дед прислушался, попросил открыть окно. Я открыл и снова сел. Он закрыл глаза, вздрогнул и с тихим всхлипом поднял веки.
– Я рассказывал тебе о Людвике?
– Мы же вчера о нем говорили, разве ты не помнишь?
Он задумался. Похоже, вовсе не понимал, о чем я толкую. Потом веки вновь опустились, он задремал. Я сидел в этой комнатушке с косым потолком, слушал шум дождя. Сколько раз я сидел тут у окна, читал. И в дедовом доме тоже читал. Приходил к нему после школы, читал и обедал с ним вместе. Наверно, никогда не забуду дедов рыбный пудинг. Запах и вкус рыбного пудинга с карри, отварной картошкой, горохом и морковью.
– Я приврал, – проскрипел дед.
– Про Людвика?
– Не про все, но про то, что рассказывал о Людвике в лесу. Довольно много приврал. – На секунду-другую он вырубился. – Я всегда ему завидовал. И неудивительно. Мы дрались из-за девчонок, плавали наперегонки, соревновались в стрельбе, и всегда я чувствовал, что мне до него далеко. Думаешь, когда он вернулся после отсидки в наши края, стало по-другому? Ничего подобного! Хуже некуда. Людвик и на этом выиграл, ну как же, гордый нелюдим-одиночка, не мне чета, я-то жил наполовину в лесу, наполовину в городе и, как говорится, сразу двух зайцев убивал: и электричество у меня было, и водопровод, и ватерклозет, и лосятинка на столе. А он, дурень, ел мясо руками и вместо уборной в кустики ходил. Да, все осталось по-прежнему. Я косился на него и ждал случая отыграться. Вот тебе правда.
– Неудачник он был.
– Не-ет. Он кое-что сделал, – простонал дед, устало и раздосадованно.
Окно распахнулось настежь. Я закрепил створки крючками, обвел взглядом пейзаж с невысокими елками. Тучи вроде как редеют. Я вернулся к дедовой кровати. Он, прищурясь, смотрел на меня.
– Я заметил его, когда он стоял на поляне с ружьем, что-то выковыривал из ствола. У меня тоже было при себе ружье, я прислонился к дереву, поглядел на свое ружьишко, снял с предохранителя да и прицелился в Людвика. Зачем я это делал? Зачем целился в безобидного старика? Положил палец на спуск, держал его на мушке и думал, что стрелять не стану. Один раз он поднял взгляд, ровно что-то заметил, но опять опустил голову. Продолжал возиться с ружейным стволом. И тут мой палец нажал на спуск. Сам собой, почти без всякого усилия с моей стороны, спуск будто потянул палец за собой. Людвик дернулся, поднес руку к голове, будто оса его ужалила, и рухнул в траву. Я опустил ружье, сказал себе, что палец ненароком соскочил, хотя знал, поступок преднамеренный, как ни крути. Многие в округе наверняка скажут: оно и к лучшему, что Людвик на тот свет отправился. Иные еще и по плечу меня похлопают, с одобрением. Однако ж дело обстояло не так. У меня не было причины, я вообще не думал об этом. Разве он еще грозил людям опасностью? Разве я мстил за что-то? За что именно? Ведь мне он ничем не насолил. Никого из моей семьи и вообще из родни не трогал. Не было у меня причин. Я будто взял и вытащил из своего бытия сливную пробку, опустошил себя, а все потому, что не мог найти объяснения.
Дед с язвительной усмешкой взглянул на меня. А я думал о том, что все это с ним сделало. Как он, к примеру, смотрел на меня, внука, который топтался рядом, еще когда был двух-трехлетним малышом? Какие мысли мелькали у него о том, что может из меня получиться или что он может для меня сделать? Он ощупью искал стакан. Я взял стакан, поднес к его губам, попросил успокоиться. Он фыркнул.
– Все остальное, что я рассказал, правда, кроме одного. После я обыскал его куртку и нашел бумажник. Н-да, бумажник. Зачем он ему понадобился в этой чертовой глуши, в лесу? Осмотрел содержимое. Несколько грязных желтых десяток, зеленые водительские права, какие-то расписки, квитанции, обычные мелочи, а еще – завещание. Несколько слов, накарябанных на пожелтевшем листке, но тем не менее – завещание, с датой и Людвиковой подписью. Понятно, что он носил при себе такую бумажку. Там было написано, что все свое имущество он оставляет старшему сыну Греты. Вряд ли это много, подумал я и не ошибся; на следующий день мы вместе с ленсманом пошли в избушку Людвика, осмотрели скарб, и всего наследства оказалось ружье «Краг-Йёргенсен», несколько кастрюль да сковородок, снегоступы, лыжи с бамбуковыми палками, две картонные коробки с бумагами и газетными вырезками. Я съездил в Йёрстад. Хуго тогда было лет семь-восемь. Странный такой мальчонка. Помню его глаза, он словно насквозь тебя видел. «Краг» висел у меня на плече, я и протянул ему ружье. Оно, мол, теперь твое. Когда-нибудь будешь из него стрелять. Отличное ружье. Он взял «Краг», обеими руками прижал к себе, в глазах читалось удивление. Грета поблагодарила, я обещал сказать Георгу, что это мой подарок, а потом ушел. Мне вдруг стало неприятно смотреть на мальчонку с тяжелым ружьем в руках, я испытывал неотвязное ощущение, что сделал глупость. Ехал на своем старом «опеле» в сторону Хаммера и видел перед собой насмерть перепуганные глаза Людвика и как они потом успокоились, взгляд ушел в себя. – Дед повернул голову набок, с трудом перевел дух. – Не понимаю, почему я все время об этом думаю. Ведь ничего уже не поделаешь, поздно, – прохрипел он, закашлялся, попробовал отпить глоток воды. Не получилось. Сил не было. Дышал он тяжело и прерывисто, выглядел плохо.
Я встал, собираясь спуститься вниз.
– Нет, – прошептал он.
Я сел.
– Не могу больше.
– Тебе надо в больницу.
– Течет… – прохрипел он, со всхлипом втянул воздух и перестал дышать.
Я шагнул к двери, но услыхал, что он опять задышал. Глаза чуть приоткрылись, он смотрел на меня, причем вполне осмысленно. Но лицо изменилось. Стало восковым, отрешенным, словно погасло.
Подойдя к двери, я позвал маму, сказал, чтобы она поспешила. И опять вернулся к кровати. Дед открыл глаза. Они не смотрели, просто покоились под полуопущенными веками, без всякого выражения. На лестнице послышались торопливые шаги. Я наклонился закрыть ему глаза, но едва прикоснулся ладонью к лицу, как оно шевельнулось. По щекам пробежала дрожь; кожа подергивалась и жила, будто наэлектризованная. Продолжалось это три-четыре секунды, но я успел заметить, как дрожь возникла вокруг глаз, перекинулась на лоб, на щеки и рот, на подбородок и замерла. Я говорю «замерла», хотя продолжалось все это считанные секунды, а когда дрожь утихла, в лице не осталось ничего. Жизнь покинула тело, но для меня разница меж «до» и «после» была столь явственна, что, когда лицо успокоилось и я закрыл деду глаза, у меня первым делом мелькнула мысль: дедова душа покинула тело. Мысль эта казалась такой же естественной, как взгляд, брошенный на небо в студеную и ясную зимнюю ночь и отметивший, что в вышине сверкают звезды. Я сложил руки покойного на одеяле. В комнату вошли родители. Мама вопросительно посмотрела на меня – я покачал головой. Думал, она заплачет, но нет, она глядела на кровать с нежностью и даже с любопытством, потом подошла к телу своего отца, перевела взгляд на лицо, взяла его руку в свои маленькие ладони. Отец охнул, доплелся до старого чертежного стола, оперся на него и пробормотал, что дело дрянь. У меня чуть не вырвалось: «Заткнись!» Врач покосился на него, но промолчал. Отец все вздыхал и на покойного не смотрел – боялся. Я подошел к маме. Она по-прежнему держала дедову руку и не сводила глаз с его лица.
– Он что-нибудь сказал напоследок?
– Спросил про тебя.
Отец у чертежного стола вздыхал и охал. Мама заплакала. На кровати лежало высохшее, по-птичьи скрюченное тело, а ведь когда-то это был широкоплечий мужчина с большими, сильными руками, который со сломанной ногой пешком добрался из Дюренута до Брекке, что подтверждали свидетели – двое его спутников, от чьей помощи он наотрез отказался. Шагал сам, сломана ли нога, нет ли. Мама выпустила дедову руку. Сложила его ладони на груди и попрощалась. Слезы текли по ее щекам. Отец подошел к ней, неловко обнял. Я смотрел в сторону. Врач скользнул взглядом по телу покойного, повернул набок его голову, пощупал пальцами сонную артерию.
– Пойду вниз, позвоню, – сказал он.
Заметив на полочке ночного столика маленький аптечный пузырек, я взял его, открыл, понюхал содержимое. Я узнал этот резкий запах. Синильная кислота. Он держал ее наготове. Я спрятал пузырек в карман.
– О Господи, – всхлипнула мама.
Отец выпустил ее из объятий. Никто из нас не сказал больше ни слова.
Я пошел вниз, в гостиную. Свет не зажигали, но уже смеркалось. Мне было слышно, как врач разговаривает по телефону насчет перевозки. Он, мол, не знает, можно ли забрать тело прямо сейчас. Я вошел в комнату, сказал, что сперва будет прощание с покойным. Народу придет немного: я, Катрин да еще двое-трое; но у меня не было сомнений, что мама сочтет это необходимым. Я подошел к окну, стал смотреть на лес, нет ли какого движения среди темных деревьев. Бее спокойно. Дождь тихонько шелестит в листве; капли чуточку наклоняют листья, стекают вниз.
Я поехал к Сив, позвонил в дверь. Вышла Ева в халате. Я знал, она меня недолюбливает. Несколько раз мы приглашали ее к обеду, и однажды вечером, когда Сив вышла в туалет, она стала ко мне клеиться. Я сказал «нет», и после этого никакого спасу от нее не было, так и крутилась возле меня и к Сив ревновала. Ужасно ее оскорбило, что я не захотел изменять жене.
– Она в полицию уехала.
– Когда? Давно?
– Нет, несколько минут назад.
Я двинул в управление.
В дежурке был Хенрик и какой-то народ из Красного Креста. Заметив меня, Хенрик спросил, как дела у деда.
– Он умер.
– Когда это случилось?
– Примерно час назад.
– Черт… Мне очень жаль.
– Спасибо.
Я пошел дальше. По коридору сновали люди, наперебой тарахтели телефонные звонки, Коре Нурдагуту махнул мне рукой и крикнул, что я должен надеть форму, нам надо ехать в горы, в Лёурдал, там горит скотный двор, где заперты шесть сотен свиней. Я выезжал на такой пожар два года назад, занимался отстрелом. Стоял на тракторном прицепе и сквозь разбитые окна расстреливал горящих свиней. Это зрелище и запах мне никогда не забыть; вся округа на несколько километров провоняла горелым беконом. Вдобавок они жутко кричали, прямо как люди. В конце концов я не выдержал, слез с прицепа, работу закончил Ролф. Коре я сказал, что подменюсь, но, может, для меня найдется что-нибудь другое, связанное с паводком.
– Пожар тебя не устраивает? – спросил он.
– Ладно, поеду, – сказал я, прошел к себе, отпер дверь, взял ключи от гардеробного шкафчика, вышел в коридор. Мимо спешил один из юристов.
– Хуго Йёрстад заходил, хотел взглянуть на свое дело семьдесят пятого года, – сказал он.
– Что-что?
– Хотел посмотреть материалы расследования по факту гибели отца.
– Ну и как, посмотрел?
– Я разрешил ему полистать дело в моей конторе. Не надо было этого делать?
– Не знаю, – сказал я.
– Все плохо?
– Не знаю.
Я пошел в гардероб переодеться, но по дороге передумал; конечно, надо спешить, но я не мог не заглянуть в архив, прямо сейчас. Глупо, конечно, только ведь ничего не изменится – что случилось, то случилось. Я принялся искать папку, ее переставили, поиски затянулись, и надолго, так что у Коре Нурдагуту лопнуло терпение и он пошел за мной.
– Где этот разгильдяй? Кто видел Санна? – громко вопрошал он в коридоре.
Я спрятался за архивным шкафом. Коре распахнул дверь, секунду постоял на пороге, снова захлопнул дверь и затопал дальше, продолжая разоряться:
– Вечно с ним так! Сперва болеет, потом… Эй, погоди!
Я чувствовал себя хреново. Хорош полицейский – спрятался от начальника.
Вытаскивая очередной архивный ящик, я подумал, что у меня было время передумать и заняться той работой, на которую меня поставили, но отмахнулся от этой мысли. Мне хотелось одного: найти папку, которую Хуго Йёрстад читал в конторе у Стуэланна, юриста. Папка обнаружилась в дальнем конце ящика, она слегка выступала над остальными: то ли засунули ее в ящик неловко, то ли, наоборот, вытащили немножко, чтобы видно было. Я пихнул ее под мышку, выглянул в коридор и нырнул в кабинет Туве. Секунду-другую постоял с папкой в руках, неуверенный, стоит ли в нее заглядывать. Вдруг там что-нибудь есть, может, аккурат то самое, что расставит все по местам. А может, и нет там ничего, и вот этого я боялся. Сел, открыл папку, перелистал бумаги, взглянул на протокол осмотра места происшествия, мною же тогда и составленный, перевернул еще несколько страниц не слишком толстой пачки и добрался до протоколов двух допросов Хуго. Начал читать. Тринадцать лет прошло, и я, оказывается, много чего позабыл. Он сказал много такого, что совершенно выпало у меня из памяти. В частности, дважды повторил, что ему жалко мать, у которой будут большие проблемы с усадьбой, если он сядет в тюрьму. Значит, Хуго не сомневался, что его ждет судебный процесс и тюрьма. Рогер оба раза пытался втолковать ему, что до этого вряд ли дойдет. Пока что ведется расследование, и если он не ошибается, тем все и кончится. Почему я тогда не обратил на это внимания? Речь-то шла не о симптоме, не о знаке психологического характера, надо было все понимать буквально: фактически он признался, что убил родного отца. Слова Хуго записаны тут черным по белому, и никто из присутствовавших на допросе и читавших протокол не уразумел сути? Мы, понятно, не спецы по уголовным делам, но все ж таки? Вдобавок я заметил, что Хуго говорил как-то скованно, канцелярским языком, словно выступал перед общественностью от имени партии или предприятия. Вместо «я» упорно говорил «человек» или употреблял неопределенно-личную форму. А о братьях своих и о сестре – в первую очередь о Роберте – высказался так: «Он вообще ни о чем понятия не имел. Считал, что все в полном порядке. Этот болван знать не знал, как обстояло на самом деле». И тут никто не насторожился. Где я-то был во время допросов? Я открыл второй протокол, стал читать и наткнулся на пассаж, о котором вообще начисто забыл. Неожиданно, когда речь шла о его отношении к Георгу, Хуго принялся говорить о Тросетах, о Гуннаре и Еве. Рассказал, какие они хорошие люди, и как трудно жили, и как жаль, что Ева умерла так рано. В ее смерти ничего странного не было, она заболела раком, слегла и уже не встала. Это понятно, если вправду все обстояло так, как говорил Тросет. Но с чего бы мне сомневаться? Этаких охотников поскандалить да пошуметь почем зря, как Георг, еще поискать, он и впрямь больше шумел, чем дело делал, хотя, вероятно, вся штука в том, что у них в роду взяли за правило портить да рушить все, что подвернется, – и среди окружающих людей, и в семье тоже. С другой стороны, интерес Хуго к Тросетам. Ведь, по-моему, явно бросалось в глаза, как много он о них рассуждал. Допрашивающий хотел вернуться к несчастью, спросил, не случилось ли в тот день или «в недавнем прошлом» чего-нибудь еще, кроме этой стычки между ним и Георгом. И Хуго ответил: «Мы с отцом были у Тросета». Допрашивающий спросил, что они там делали. Хуго: «Послали Гуннара в магазин и позабавились маленько». Допрашивающий: «Позабавились? Чем же? Еву дразнили?» Хуго: «Нет… Так, поиграли». После этого Хуго попросился в уборную. Я сидел, глядя на строки протокола. «Послали Гуннара в магазин и позабавились маленько». Я отложил папку и прошелся по комнате. Георг Йёрстад. В эту семейку он вошел зятем. Через женитьбу. Нет, отмахнуться никак нельзя. Надо идти к Коре Нурдагуту, рассказать о Роберте и Нине, о моем разговоре с Тросетом, о Хуго. Я ведь слова не говорил о том, чем занимаюсь. Жди неприятностей, что бы дальше ни произошло.


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





