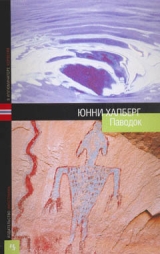
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Грета закрыла дверь веранды.
– Ты где была? – спросила она у Нины и повернулась ко мне. – Вечно она где-то шастает сама по себе. Да, Нина?
Нина громко фыркнула. Сухим лошадиным смешком. Пожалуй, единственное, что ее вправду портило, это смех, очень некрасивый.
– Стейн Уве говорит, паводок будет, – сообщила Грета.
– Да? – с надеждой спросила Нина. – Большой?
– Возможно, довольно-таки серьезный, – ответил я.
– Но вообще-то они не верят, что вода поднимется выше обычного, – вставила Грета.
– Правда? – Нина опять прислонилась к косяку, будто все сызнова вернулось в давно накатанную колею, по которой изо дня в день катится жизнь.
– Пойду развешу белье, – сказала Грета и вышла из комнаты.
– Как у тебя с Робертом? – спросил я.
– Он мой дневник читает. По телефону подслушивает. Обзывает меня шлюшкой, – сказала Нина.
– Кто-нибудь тебя донимает?
Она сморщила нос.
– Да кому это нужно?
– Не знаю. Просто подумал. Так донимает?
Она презрительно скривилась, глядя в пространство.
– Может, поживешь денек-другой у меня? – предложил я.
Нина отошла к глиняной голове, поковыряла ее.
– Почему ты хочешь, чтобы я пожила у тебя?
– Обстановку тебе надо сменить. У меня ты будешь сама по себе. Я ведь на службе. С Гретой я договорился. Она согласна.
Нина потерла шрам на губе.
– А что, по-твоему, скажет Роберт?
– Он-то здесь при чем?
– Он с тебя шкуру спустит. – Она подбоченилась.
Я заметил, что она подкрасила свои большие глаза. Не слишком сильно, просто от этого они казались еще больше. В Йёрстаде у всех большие глаза, кроме Юнни. Нина сдула со щеки прядку волос, искоса взглянула на меня. А я смотрел на ее руку, на изгиб бедра.
Потом нагнулся, открыл кожаную сумку, вытащил две книжки, одну протянул ей. Называлась эта книжка «Дочь Аре». Она взяла ее, посмотрела на обложку. Я протянул ей вторую. Она состроила гримаску.
– А это что такое?
– Марит Истад. «Девчонки бунтуют», – сказал я.
– «Девчонки бунтуют»? Такие вот – и бунтуют? – Она фыркнула, глядя на обложку с тремя девчонками-хиппи. Потом сунула книжку мне и принялась изучать обложку «Дочери Аре», где белокурая женщина крепко прижималась к длинноволосому мускулистому красавцу в расхристанной рубашке с кружевами.
Неподалеку от Оркерёда стоял бреккенский автобус, наполовину в кювете.
Ким Адамсен курил, пристроившись на подножке. В кювете сидел на корточках какой-то парень в черном, с длинными черными волосами, – разглядывал маргаритки. Я припарковался рядом. Адамсен поднял глаза, внимательно посмотрел на сигарету, стряхнул длинный столбик пепла.
– Всего лишь поломка в моторе, – сказал он. Бросил окурок, растер каблуком.
– Может, у тебя бензин кончился? – спросил я.
Черноволосый любитель маргариток поднялся на ноги.
– А что? Может, так и есть?
– Много ты понимаешь в автобусах! Не лезь не в свое дело! – рассердился Адамсен.
– Да ведь мотор кашлял сперва, а потом сдох, – возразил черноволосый.
Адамсен метнул на него яростный взгляд, черноволосый пожал плечами и отвернулся. Я узнал его. Лицом он еще побледнел, одет в черную футболку, на поясе ремень с заклепками. На футболке надпись, название какой-то рок-группы. В руках кофр с фотопринадлежностями.
– Привет! – сказал он, протягивая мне руку.
– Что ты здесь делаешь? – спросил я.
– От газеты приехал.
Адамсен встал с подножки. Раскурил новую сигарету, затянулся так, что табак затрещал.
– Помощь вызвали? – поинтересовался я.
– Финн уже выехал, – уныло сообщил Адамсен.
– Стефан просто помочь хочет, – сказал я ему.
– Некоторые лучше всего работают, сидя на бюллетене, – проворчал он.
– Что-что? – переспросил я.
Адамсен посмотрел на меня все с тем же постным видом.
– Я отвезу Стефана, – сказал я.
Мы сели в машину и опять погрузились в море тумана.
– В гости приехал к родителям?
Он покачал головой.
– Нет, насовсем.
– Вернулся в Хёугер?
– Да, домой, к отцу с матерью.
– А как же Лена?
– Все давно кончилось. Не выходит у меня с женщинами.
– Я думал, ты по свету ездишь, фотографируешь.
– Было дело. Но это не мое. Взгляд у меня не тот.
Кофр он поставил себе на колени.
– И чем же ты занимаешься?
– Временно замещаю одного парня в отделе спорта. Вот как раз возвращаюсь со стрелковых соревнований.
– Но ведь это же сущая тягомотина!
– Да, поэтому нужно придумать оригинальный поворот. А это не всегда легко, – сказал он, глядя в туман.
– Ну и как на сей раз?
– В нескольких километрах от стрельбища, возле Тельи, произошел небольшой обвал. Мы были на стенде и все видели. Какой-то автомобиль вместе с оползнем рухнул к реке. Ну, мы бросились к машинам, рванули туда и помогли владельцу вытащить тачку из-под завала. Вот тебе и поворот – обвал и экстренная спасательная операция.
– И несколько хороших фотографий, – вставил я.
Он посмотрел на меня в упор.
– Нет, потому что мне пришлось вместе со всеми тащить машину. – Он вдруг словно о чем-то вспомнил, чертыхнулся, открыл кофр, достал зеркалку, снял заднюю крышку и вытащил из кассеты всю пленку. Потом спрятал все обратно в кофр. – Как жизнь в полиции?
– Я был на больничном, но уже вышел на работу.
– А Сив как? Детишек не завели еще?
Я промолчал. Об этом я ни с кем не говорил, по-моему, так не годится, это вообще не тема для разговоров.
Он повторил вопрос.
– Мы разошлись, – ответил я.
Стефан смущенно хмыкнул, помолчал немного, потом сказал:
– Жалко. Мне Сив всегда казалась особенной. Все ребята о ней мечтали. Я и сам в школе вздыхал по ней издалека.
– Замечательно.
– Помню, как-то в начале восьмидесятых я видел тебя и Сив, вы шли по Главной улице, оба в коричневых замшевых куртках и в высоких башмаках. Я сидел на скамейке и думал: вот бы мне стать таким шикарным парнем, как ты, – но это была чистая утопия. Сив несла в руке «Easter» Патти Смит. Когда вы прошли мимо, я побежал в «Эксперт», купил пластинку, а после рванул на автобусе домой в Хёугер и сразу ее прослушал. Разбирал тексты и заучивал наизусть, не вникая в смысл. – Стефан улыбнулся. – Знаешь, я мечтал нацепить твою куртку, и башмаки, и перчатки. Ведь, кроме вас, в городишке других настоящих рокеров не было, все местные парни брали с тебя пример. – Он опять улыбнулся, совершенно искренне. – А потом ты пошел учиться на полицейского, и тогда… Ребята недоумевали. Стейн Уве Санн в Полицейской академии? Хотя Полицейская академия, конечно, штука нормальная, – быстро добавил он.
Я выпрямился, глядя на дорогу.
– Связь-то между собой поддерживаете? – спросил Стефан.
– Это зачем бы?
Он извинился за вопрос. Я сказал, что извиняться не за что, и в свою очередь спросил:
– Ты с Робертом говорил?
– Нет, после той истории с Леной не говорил.
– Он давно все забыл. Романов у него с тех пор было немеряно.
– Не-ет, Роберт ничего не забывает. Как-то раз звонил мне в Осло, угрожал.
– А я говорю: забыл он. Ты бы привлек его к какому-нибудь делу, по-моему, парню надо отвлечься.
– Мне так не кажется. – Он открыл кофр, достал свежий номер журнала «Фотография».
Я начал думать про оползень, прямо как наяву его увидел, а заодно вспомнил, что Мелхус стоит почти сплошь на глине. Я поерзал на сиденье, побарабанил пальцами по баранке. Туман слегка поредел. Мимо тянулись зеленые поля. Поодаль на прошлогодней стерне паслась в тумане косуля. А я мысленно видел оползень, скользящий вниз, к реке, и автомобиль на этой земляной глыбе.
Полицейское управление размещалось в сером бетонном здании, опоясанном длинными рядами окон; там же находились городской суд, конторы судебного исполнителя и винной монополии и еще кой-какие учреждения. Здание выходило на автостоянку с видом на церковь и городской парк, где каждую весну школьники готовились к экзаменам и крутили романы. Я поднялся на второй этаж. В паспортном столе Хенрик Тиллер разговаривал через барьер с одной из тамошних сотрудниц. Увидев меня, он вышел в коридор.
– В полпятого тебе надо быть здесь. У нас встреча с ленсманами[2]2
Ленсман – чиновник, выполняющий в сельской местности административные и полицейские функции.
[Закрыть], надо договориться насчет того, как будем принимать людей в Народном доме, – сказал он.
– Принимать людей? Неужто время уже не терпит?
– Ну, кое-кто придерживается противоположного мнения, – усмехнулся он.
Хенрик Тиллер – натура ироническая. Что ему ни скажи, он непременно отпустит ехидное замечание или хотя бы иронически на тебя взглянет. Сейчас он смотрел на меня так, что я сразу понял: что-то происходит, и узнаю я об этом, только если спрошу. Я двинулся дальше по коридору. Он тоже. Мы прошли мимо его кабинета. Побольше моей клетушки. Хенрик Тиллер – инспектор, потому и кабинет у него просторней, чем у рядового сотрудника. Он принялся насвистывать. Я остановился у своей двери, обернулся к нему, хотел сказать, что до стула меня провожать незачем, и тут заметил у себя в комнате Сив.
– Она уже давно ждет. Поговорить хочет с тобой, – сообщил Хенрик.
Я глянул в дверное стекло. Сив сидела у окна, с каким-то журналом на коленях, и смотрела на мой стул. За последнее время она несколько раз мне звонила. На слух голос казался необычным, в нем сквозил некий подспудный тон – растерянность, что ли, – отчего у меня щемило под ложечкой. Я присмотрелся. Она похудела, отрастила длинные волосы, покрасилась в рыжий цвет. И лицо у нее от этого изменилось. Словно помолодело.
– Я же говорил, чтобы она не приходила сюда.
– Ей надо обязательно с тобой потолковать, – тихо сказал Хенрик.
Сив взглянула на дверь, и я поспешно шагнул назад. Хенрик с любопытством наблюдал за мной. Я прислонился к стене, скрестил руки на груди.
– По-моему, у нее важное дело, – заметил Хенрик.
Мне помощь общественности не требуется. Я так ему и сказал и попросил не лезть в мою личную жизнь.
– Тогда не притаскивай ее сюда, эту свою жизнь, – отпарировал Хенрик, потом глаза у него опять заблестели, уголки губ поползли к щекам.
С Хенриком я о Сив не говорил, и вообще никому про это не заикался. Не хотел выдавать, что последние четыре месяца ни о чем другом думать не могу. Хенрик – парень веселый, дружелюбный, но, по-моему, он считает, что люди, которые живут вместе, непременно друг друга обманывают и иначе просто не бывает. Помню, он насмехался над своим братом, когда того однажды ночью нашли в сугробе, полузамерзшего и вдрызг пьяного. Брат узнал, что девушка, в которую он влюблен, завела шашни с другим, напился до бесчувствия и лег в сугроб, чтобы до смерти замерзнуть. Хенрик после твердил, что его младший братишка вечно делает из мухи слона: это ж надо – превратить такую пустяковину, как баба, в вопрос жизни и смерти! Братишка может поиметь кого угодно, а вместо этого решил помереть в снегу из-за девятнадцатилетней соплюшки. Он считал меня чудиком, ведь я говорил, что с женщинами дело вправду может идти о жизни и смерти. «Вот из-за таких, как ты, народ и верит во всяких там святочных гномов», – сказал Хенрик, а когда я поинтересовался, при чем тут святочные гномы, он фыркнул: «Очень даже при чем, Стейн Уве, очень даже».
Хуже всего, что держался он чертовски уверенно и народ безоговорочно ему доверял. Он мог навешивать людям на уши лапшу, а они принимали все за чистую монету – такой уж он человек. Не знаю, понимают ли другие в управлении, насколько опасно возлагать на него столько ответственности. Думаю, Коре сомневался, когда выдвигал Хенрика. Но иначе поступить не мог. Хенрик был надежный, хладнокровный, умел быстро принимать решения. Он имел награды, а что получил он их оттого, что никогда не рисковал и не позволял втягивать себя в истории, которые могли ему повредить или усложнить жизнь, никакой роли не играло.
У меня в кабинете зазвонил телефон. Сив вздрогнула.
Я поспешил к коммутатору и попросил дежурную телефонистку перебросить звонок в кабинет Туве.
Звонила мама. Деду стало хуже. Он уже некоторое время хворал, но теперь совсем плох. Она спросила, не могу ли я приехать. Я взглянул на часы. Успею. И сказал, что сейчас приеду. Мама поблагодарила. Хорошо, что я беспокоюсь о дедушке. Он ведь вправду плох. А папа сидит себе и в ус не дует.
Я повторил, что сейчас приеду.
– Спасибо, Стейн Уве, – мягко сказала она.
В коридоре ждал Хенрик.
– С дедом плохо. Надо ехать. Скажи Коре, к совещанию вернусь. – Я пошел к выходу.
Дом стоял на прогалине, у негусто поросшего деревьями склона, всего на несколько сотен метров ниже границы лесов. Здесь прошло мое детство. Я остановился возле дровяного сарая. Дедов дом обветшал. Ветряная мельничка, которую он соорудил у дорожки, опрокинулась. Штабель досок, из которых отец уже столько лет собирался построить мастерскую, так и лежал под драным брезентом. Я обернулся. Мама стояла у окна, смотрела на улицу. Вздрогнув, как от озноба, я попытался придумать благовидный предлог и смыться отсюда. Но речь-то не о родителях. Я расстегнул тужурку и вошел в дом.
Обнял мать. Странное все-таки ощущение – обнимать родную маму.
– Ну, как вы тут?
Она покачала головой.
– Выкарабкается дед. Сама знаешь, какой он.
– Да ведь ему как-никак восемьдесят пять.
Из комнаты доносился перестук клавиш компьютера – отец шуровал в Интернете. Потом все стихло.
– Пойду наверх, – сказал я.
Мама проводила меня умоляющим взглядом. Хотела что-то сказать. Насчет моей сестры, Катрин. Она-то не приехала. Но тут я ничем помочь не могу.
Я одернул тужурку, постучал, вошел в комнату.
Дед лежал на широкой двуспальной кровати, которая раньше стояла в его доме, – точь-в-точь беспомощный птенец. Беки воспаленные, будто обведенные красным карандашом. Худые руки испещрены стариковской гречкой.
– Что на пороге-то стал? Я тебя не вижу, – проскрипел он.
Я подошел к кровати. Он посмотрел на меня. Глаза ясные. Словно бы насквозь меня видят. Он откашлялся, утер рот и буркнул:
– Полная хреновина.
– Я слыхал, тебе хуже стало.
– Хреновина… – проскрипел он. – Отец твой вчера читал мне газету. Заметка там была про богадельню. Знаешь, под каким заголовком? «Нам здесь хорошо». Ишь ты, хорошо им! Много они понимают. Хреновина это, вот что. Так и надо было писать.
Дед попробовал сесть, но не сумел, опять откинулся на подушки. С трудом переводя дух, посмотрел в потолок, сцепил костлявые руки, пробурчал:
– Как у тебя дела?
– Вышел на службу. К паводку готовимся.
Он кивнул.
– А с Сив как? Заходишь к ней?
– Нет, мы не общаемся. Я же говорил.
Дед хмыкнул.
– Не общаетесь? Ты где работаешь-то? В какой-такой конторе? Послушать тебя – аккурат щенок, который цельный час в ледяной воде барахтался.
– Со мной все хорошо. Все в порядке.
– Помнишь, что я тебе говорил, когда ты стоял тут при полном параде и услышал, что, хоть и стал мужчиной, но ничегошеньки не понимаешь?
– С тех пор столько времени прошло, дедушка.
– Сделаешь для меня кое-что, пока время мое не вышло?
– Что ты, до этого еще далеко.
– Я хочу, чтобы ты привез сюда Сив.
– Зачем? С этим покончено.
– Да, ты говорил.
Иной раз дед бывал невероятно жестким и упрямым. Случалось, и хворостиной меня угощал, и тростью. Вспомнив об этих колотушках, я почувствовал что-то вроде признательности.
– Ладно, попробую привезти ее. Если она пожелает меня видеть.
Он закрыл глаза, попросил воды. Я подал ему стакан.
– Стало быть, по-твоему, не вышло пока мое время?
– Конечно, нет. Ты силен как бык.
– Ошибаешься. Я-то чувствую. Нутром чую.
– Скоро опять на ноги встанешь, гулять начнешь.
– Еще и насмешки строишь?
– Что ты, вовсе нет.
– Ты никак простудился? – спросил он.
– Есть немного.
– Н-да… – вздохнул он.
В комнате стало тихо, я взглянул на деда и обнаружил, что он задремал. Так и сидел некоторое время, смотрел на его лицо, на руки. Знаю, мне просто почудилось, но я словно бы видел, как от его усохшего, испещренного пятнами лица струится свет. Я положил руку на одеяло, рядом с его рукой. Моя рука – большая, сильная, его – маленькая, как у обезьянки, с набухшими жилами. Да, пожалуй, он прав. На сей раз ему не выкарабкаться. Я опять посмотрел на наши руки и загрустил, ведь дедова рука была такая маленькая, скрюченная, а моя – большая, красивая, и грустно мне стало оттого, что он, как видно, решил помереть.
Я встал.
– Мне надо кое-что тебе рассказать, – обронил дед.
Я вышел в уборную, потом вернулся.
– Приподними меня, – попросил дед.
Подсунув ему под спину еще одну подушку, я осторожно уложил его.
– Помнишь Людвика, отца Греты?
– Помню, был там кто-то, о ком никто из родни говорить не желал, – отозвался я.
– Это и был Людвик Йёрстад. Ты его никогда не видел, на Мелё его не допускали. И много лет он жил один где-то возле Хаммера.
– Почему?
– Прогнали его с глаз долой.
История наверняка будет долгая. Я сел.
– Мы с Людвиком – сводные братья, – сообщил дед.
– Почему же ты молчал об этом?
– Да так, молчал, и всё. Росли мы порознь, но много лет дружили, со школы еще, задолго до войны. Он жил на Мелё, я – неподалеку от Оркерёда, ты сам знаешь. Общительностью мы оба не отличались и друзьями стали, как говорится, по необходимости, нужда заставила. Мы были очень разные. Людвика считали парнем загадочным, угрюмым, вдобавок он чуть что вспыхивал как порох, и наши сверстники до смерти его боялись. Я был не такой вспыльчивый, зато дерзкий на язык, потому, наверно, частенько и оставался один как пень.
Дед вздохнул, помолчал, давая себе роздых.
– Ну так вот, Людвик… В пятнадцать лет он до того допек всю семью, что они вышвырнули его из Йёрстада, который был тогда совсем маленькой, захудалой усадьбой. Людвик нанялся скотником, но жилось ему паршиво, он и начал шататься по округе, и потянулся за ним слушок, будто он по мелочи подворовывает и надо держать с ним ухо востро. И вообще, малый опасный и строптивый. Оттого-то его из дому и выгнали, говорили в народе. Но уж кто-кто, а я знал: дома он вовсе не строптивничал. Норовистый, вспыльчивый, только ведь это не обязательно плохая черта. В самом деле, в пятнадцать лет парень оказался предоставлен сам себе, вот и мучился. Так он куролесил довольно долго, потом нашел место в типографии «Курьера» и проработал там не один год, до самой войны. А война всё меж людьми вверх дном перевернула. Людвик Йёрстад сделал то, на что почти никто из здешних пойти не захотел, – воспользовался случаем, вступил в партию и, как ни странно, сразу же был поставлен редактором в «Курьере», потому как раньше работал в типографии и пописывал заметки в газету. Может, недоразумение какое вышло, не знаю, но вообще-то были и другие, образованные люди, которые метили на эту должность. Так или иначе, главным редактором стал Людвик. Он обеспечивал руководство пропагандой тут, в горах, и справлялся, газету держал в ежовых рукавицах, никого не щадил. К примеру, подхватил сплетни про трех местных учителей, все перековеркал и тиснул на первой полосе. Учителей выслали в Финмарк, где двое из них погибли в трудовом лагере. Так продолжалось несколько лет, мало-помалу Людвика Йёрстада стали и бояться, и ненавидеть, и уважать – смотря по обстоятельствам. Жутко было смотреть, как этот человек всего лишь за год превратился в чудовище. Все его дурные стороны как бы вывернулись наружу, вышли на свет Божий и в итоге сделались единственным, что он мог показать. Потом он исчез. Просто сгинул куда-то в один прекрасный день. Никто понятия не имел, что произошло, но в глубине души большинство считало, что его либо закопали где-то в лесу, либо в озере утопили. Как бы там ни было, народ облегченно вздохнул, а режим, который он установил в Мелхусе, смягчился, и сильно, поскольку нацисты тоже были не в восторге от чересчур ретивого мини-квислинга[3]3
Автор сравнивает Людвика с Видкуном Квислингом (1887–1945), организатором и лидером фашистской партии в Норвегии, который содействовал захвату страны Германией.
[Закрыть]. Правда, я лично не верил, что его ликвидировали.
Дед повернулся на бок, перевел дух, хрипло попросил:
– Дай-ка еще водицы.
Я протянул ему стакан. Он напился и тихонько поблагодарил. Я забрал стакан, поставил на столик. Минуту-другую он лежал, глядя в потолок.
– И оказалось, так оно и есть. Всего через несколько дней после окончания войны мы узнали, что он сидит за решеткой, в Нарвике. Знаешь, что сделал этот мерзавец? – Дед хрипло рассмеялся и покачал головой. – Людвик и впрямь был сущий дьявол. Ну так вот, в тот вечер, когда пропал, он двинул на север, в Харстад, а там под чужим именем сумел проникнуть в Милорг[4]4
Подпольная военная организация Движения сопротивления в Норвегии во время Второй мировой войны.
[Закрыть]. Авантюрист он и есть авантюрист, ведь в Милорге наверняка знали про мелхусского подонка, но ему нравилось актерствовать, он и жил так. Словом, пробрался в подполье, участвовал в нескольких операциях, все больше втирался в доверие и в конце концов вошел в группу, которая переправляла людей морем в Англию. Как я слыхал, он шпионил для нацистов, те устроили карательную акцию и начали хватать подпольщиков одного за другим. Некоторых казнили, остальных вывезли в Германию, где тоже не один сложил голову. Не знаю, сколько жизней было у Людвика на совести, но уж точно немало. Я хорошо помню, какое волнение охватило Мелхус, когда стало известно, что он жив. Кое-кто из мужиков, самые непримиримые, собрался двинуть на север и пристрелить его. Только ничего у них не получилось. Мы думали, его казнят на севере или отвезут в Осло и казнят там, ан нет, дело затянулось. И это спасло Людвику жизнь. Кстати, именно на севере и родилась Грета, в войну. Людвик завел себе подружку, которая после его ареста переехала в Нарвик и первые годы, когда он сидел за решеткой, жила в этом городе, вместе с Гретой. А в конце сороковых старший брат Людвика, хозяйствовавший в Йёрстаде, привез ее и Грету на Мелё. Расмус был мужик порядочный, не хотел он, чтоб Людвикова дочка страдала за грехи отца. Да, Расмус был хороший человек. Жаль, рано помер.
Ясными глазами дед посмотрел на меня. Он устал, уголки рта побелели, лицо подернулось желтизной. Я встал, прошел к окну, открыл створки. Снаружи негромко щебетали птицы. Как же здесь тихо, спокойно! Я снова сел у постели.
– Людвик тоже сюда воротился. В середине пятидесятых. Представляешь? В тюрьме он вел себя как ягненок и вышел на волю. Большинство удивлялось, что он так легко отделался, но куда удивительнее, что, выйдя из тюрьмы, он заявился в Мелхус. – Дед хихикнул. – Местные до смерти перепугались. Заперли двери на засовы, обзавелись оружием. Ну, не все, конечно, но многие, в особенности паниковали те, кто сам с ним не сталкивался, а только слышал разные истории. Людвик еще до войны купил неподалеку от Хаммера охотничий домик, там и поселился, послал весточку брату и остальной родне, но они наотрез отказались и встречаться с ним, и говорить. И жене его тоже запретили с ним видаться. Так-то вот. С той поры началась для него в Мелхусе новая жизнь – жизнь отщепенца, изгнанника, который ни с кем не разговаривал и не здоровался, но занимался тем же, что и другие, только тихо и неприметно. Он обзавелся ружьем, охотился, должно быть, для пропитания, ну, против этого никто не возражал. И все ж таки странно, я ведь жил неподалеку от Хаммера и почитай каждое утро слышал, как он стреляет в горах.
Дед приподнялся чуток, откашлялся, сплюнул на пол.
– Тебя никак совесть заела? С какой стати? – спросил я.
– В пятидесятые и шестидесятые годы я несколько раз встречал его. И хотя мы были сводными братьями и дружили в юности, я с ним не поздоровался, не заговорил. Мимо прошел, будто в упор его не видел. Он отпустил длинную бороду, ссутулился, носил видавшую виды шляпу и обтерханные штаны. Каждый раз, когда мы проходили мимо друг друга, он замедлял шаг и вопросительно смотрел на меня, но я прикидывался, что ничего не замечаю, и шел дальше, не кивнув, не сказав ни слова. Вряд ли он застрелил или казнил кого-нибудь собственными руками, но доносить, по-моему, еще хуже, чем быть палачом. Ну вот. Так прошло несколько лет. Людвик в своем убожестве прозябал под Хаммером, а я, потеряв Ранди, начал присматривать себе новое местожительство, и тут, в начале семидесятых, кое-что случилось.
Дед умолк, раз-другой сглотнул, взял стакан, допил воду. Я отставил стакан на ночной столик.
– Странно, что одни и те же вещи в разное время выглядят для нас по-разному, верно? – продолжал он. – Вот смотрю сейчас на кухонный стакан, и он кажется мне тусклым, унылым. Но почему? Наверно, все дело в том, что такие стаканы у меня много-много лет… И в тот день тоже так было. Тогда я впервые после возвращения Людвика заговорил с ним. Я собирал в лесу бруснику. Помню, был ясный, свежий сентябрьский день. Солнце, воздух чистый, бодрящий. Только я наклонился над кочкой, а где-то поблизости вдруг ка-ак бабахнет. Я мигом выпрямился и навострил уши. Тишина после этого выстрела почему-то заставила меня прислушаться. Показалась совсем не такой, какая бывает после обычного охотничьего выстрела. Ну, я подхватил ведерко, двинул в ту сторону, откуда донесся выстрел, и через сотню-другую шагов очутился на пологой прогалине.
Смотрю: среди высокой травы лежит человек – Людвик Йёрстад. Подхожу ближе и вижу: висок у него пробит пулей и из раны течет кровь. А рядом в траве – ружье, «Краг-Йёргенсен». Либо сам застрелился, думаю, либо шальная пуля его достала. Так странно было видеть, как он лежит на боку, ровно отдыхает. Ну, вот тебе и каюк, старый мерзавец, подумал я, нагнулся, поднял ружье, переломил ствол – патрон-то на месте. Интересно. Секунду-другую я недоумевал, но потом сообразил, что к чему. Где-то неподалеку был кто-то еще. Я огляделся: со всех сторон лес, наверняка за кустом или за деревом сидит, а может, стоит и смотрит на меня какой-то человек. Он-то и стрелял, всадив пулю прямиком Людвику в висок. А после подошел к Людвику и, возможно, взял в руки его ружье – выстрелить хотел, – но тут услыхал мои шумные шаги. Помешал я ему, и теперь он где-то затаился и следил за мной. Хреново. Я знал, что, если положу ружье, он поймет, что я смекнул, как было дело. Я замер. Попытался вычислить, кто это и знаком ли он мне. Про Людвиковы лесные обычаи знали многие, правда, не так чтоб хорошо, ведь жил он один-одинешенек. А стрелявший наверняка изучил его привычные маршруты, видно, некоторое время ходил за ним по пятам. По крайней мере, я так подумал. А еще подумал, что больше ничего знать не хочу. И гадать не стану. Жутко смотреть, как Людвик лежит тут, а из виска у него течет кровь, но, если я начну доискиваться, кто стрелял, будет совсем худо. Вот и решил маленько подождать, выстрелить из Людвикова ружья, а потом сходить за народом, чтобы отвезти покойника в город. Сажусь на корточки и тут только вижу: глаза у Людвика открыты и смотрят на меня. От неожиданности я вздрогнул, выронил ружье, а в голове молнией мелькнуло: надо бежать отсюда! Только сам будто окаменел: сижу, смотрю на него и встречаюсь с ним взглядом. Кажется, я назвал его по имени, точно не помню, но, кажется, вправду назвал. Протянул руку, подобрал ружье и сообразил, что он вроде как в сознании. Взглянул на рану. Пуля вошла в висок, но выходного отверстия нет – стало быть, внутри застряла. Не выкарабкаться мужику. От меня помощи никакой. Я положил ружье на колени, гляжу, а он шевелит губами. Хочет что-то сказать. Я опять поднялся на ноги, стою, обмираю от страха, прислушиваюсь, опускаю взгляд и вижу: Людвик пытается повернуть голову, чтобы держать меня в поле зрения. Лежит на земле, истекает кровью, помирает, но хочет, чтобы я оставался рядом. Я не знал, что делать. Маленько оборвал траву и сел возле его головы, чтобы он меня видел. «Посижу тут», – сказал я, и он мигнул в ответ. Глаза у него были серые, как у Хуго, большой нос, большие уши. Глядя на него, я задумался о минувших годах и не без удивления отметил, что он все такой же, почти не изменился с тех пор, как мы учились в школе. То же лицо, те же глаза, нос, рот. А одет-то как плохо, думал я, потертые штаны, обтерханная шляпа, куртка рваная – большущие прорехи на локтях, на спине. Неправильно, что его этак вот застрелили, пусть даже он и виновен в смерти других людей. Губы у него шевелились, будто он непременно хотел сказать мне что-то очень-очень важное, и внезапно я понял что. Отложил ружье, посмотрел ему в глаза: «Людвик! Моргни, если слышишь меня». Он перестал шевелить губами, моргнул, потом губы опять пришли в движение, пытаясь произнести все те же слова, которые не желали выходить из его пробитой головы. «Не надо, не говори ничего. Не хочу я это слышать», – сказал я. Обвел взглядом прогалину, лес и склон напротив, опять взглянул на него. Губы не шевелились. Он меня услышал. Но глаза его говорили теперь о другом. Он лежал тут, зная, что умирает, и, хотя, наверное, давно устал от жизни, умирать не желал. Да только я был не в силах помочь. Мог просто сидеть рядом, и всё. «Людвик, – сказал я, – ты умираешь. Все хорошо. Я буду здесь, рядом с тобой». Он лежал в той же позе, на боку, подмяв под себя одну руку, а другую вытянув на траве. Бородатое лицо перепачкано, но кожа под грязью белая как мел. Мне не хотелось прикасаться к Людвику, но все-таки, сделав над собой усилие, я положил ладонь ему на плечо, наклонился поближе и тихо, спокойно проговорил, прямо ему в ухо: «Не сопротивляйся. Скоро ты освободишься». Немного погодя по изнуренному грязному лицу скользнула тень. Казалось, передо мной животное, которое понимает, что вот-вот умрет, и думает о том, о чем животные думать не могут: вот и конец. Неужели это всё? Страх ушел, глаза смотрели спокойно. Я похлопал его по плечу. «Молодец, Людвик. Так-то оно лучше». Он глядел на меня странным, печальным взглядом, будто зверек или маленький ребенок, не знаю, долго ли так продолжалось, помню только, что я словно угодил в какой-то туннель: все вокруг – деревья, воздух, солнце, трава – исчезло. Существовало, но было далеко, отодвинулось в неясный сумрак. Я видел только спокойные глаза Людвика, которым уже не на что было смотреть, в эти последние минуты они просто отдыхали. Я похлопывал его по плечу, кивал, силился улыбнуться, потом глаза Людвика закрылись, и он перестал дышать. Все произошло спокойно и тихо, а кровь тонкой, ровной струйкой по-прежнему вытекала из дырочки в виске. Я убрал свою руку, сидел и смотрел на изможденное лицо. Лес и прогалина вновь придвинулись. Немного погодя я взял ружье, встал и выстрелил. Потом закинул ружье на плечо, глянул на покойника. И тут меня охватило раскаяние. Ну почему я ни разу не остановился, не поговорил с ним? Мы вместе купались в Квенне, плавали бок о бок, знали, как здорово, когда есть с кем потолковать о разных вещах, о которых никому другому не скажешь, когда можно полностью друг на друга положиться. Мы вместе ходили на лыжах в горы, далеко забирались, сидели в снежной пещере и до смерти боялись замерзнуть, а чтобы не замерзнуть, понарошку валтузили друг друга, – да, ровно два дурака, сидели той ночью в снежной пещере и охаживали один другого кулаками, эта потасовка и спасла нам жизнь, я больше чем уверен. Идиотизм, конечно, с его стороны – вернуться в Мелхус, но он вернулся. Бродил один-одинешенек, растерянный, молчаливый, опозоренный. И временами встречал меня, единственного, кто помнил ту давнюю потасовку, а я даже не смотрел на него, хотя он замедлял шаг, готовый стать униженным просителем. Но нет, я проходил мимо, в упор его не замечал. И вот теперь, прозрачным погожим осенним днем, стоял посреди прогалины над покойником и по-щенячьи горевал, что не поборол тогда свою гордыню, не остановился, не сказал хоть слово. Не сказал, что мне известно, чем он занимался, и что я об этом думаю, и что простить это невозможно. Ну что бы мне сказать по крайности два-три слова, пока он был жив. Так нет же. Я спустился в город и сообщил о случившемся, только про патрон в стволе умолчал. Наверно, нас всего двое – тех, кто знает, как все было. Теперь это неважно. Важно, что я тогда струсил и до сих пор сожалею. И сожалел все эти годы.


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





