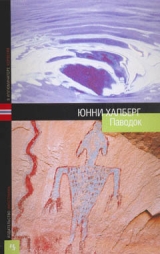
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
– Глянь в окно, – сказал я.
Он потер нос, привстал, наклонился вперед, посмотрел.
– Что ты там видишь?
– Белку, – ответил он, не отводя глаз от окна.
– Какую еще белку?
– Обыкновенную, рыжую.
Настала тишина. Тросет опять сел, откинулся на спинку стула. Я выглянул в окно, но никакой белки не увидел. Обвел взглядом комнату. В углу, за кучей газет и журналов, стояла на мягком сером табурете старая черная пишущая машинка. Над стертой клавиатурой поблескивали золотые буквы: «Ундервуд».
Тросет шмыгнул носом.
– Я ничего не сделал.
– Само собой. И я тоже. Сказал ведь.
Вон она, причина, по которой он восемь лет кряду ежеквартально наведывался в Йёрстад. Его драгоценная машинка, якобы взятая мною на Вербное воскресенье да так и не возвращенная. Я, как сейчас, видел возле нашего крыльца его бесцветную физиономию, под солнцем, под дождем и снегом, слышал его брюзгливый голос: «Я насчет „Ундервуда“. Когда вы его вернете?» Почему он таскался к нам все эти годы, нудным настойчивым голосом требовал свое, а поскольку ничегошеньки не получал, грозил обратиться в соответствующие инстанции и ковылял восвояси? Может, думал я, таким манером он искал подходы? Может, использовал «Ундервуд» как предлог, в глубине души надеясь, что в один прекрасный день я пойму? Высказаться-то он никогда толком не умел. А уж в намеках и вовсе был не силен – пускай другие сами догадываются. В последние годы роль «других» играл я. Может, он шкандыбал но ухабам к нашей усадьбе с крохотной искоркой надежды в груди: что, если нынче все сбудется, наконец-то станет реальностью.
Чего же ему хотелось?
Иметь друга, и только. Всем хочется иметь друга.
И пожалуй, в этом Тросет отдавал себе отчет. Ведь когда его спрашивали, есть ли у него друзья, он наверняка хотел бы ответить, что конечно же есть один, к которому он нет-нет да и заходит потолковать о том о сем, вдобавок надежный, каких поискать. Словом, друг что надо, Роберт, симпатяга, сосед, всегда готовый помериться силами, надежный малый, на него во всем можно положиться.
– Твой дом посреди стремнины. Нельзя тебе тут рассиживаться. – Я взял его за плечо, он вздрогнул, замер, и в тот же миг дом покачнулся. Самую малость, но покачнулся, что-то там уступило напору.
Обеими руками Тросет вцепился в столешницу.
Я сел на перевязанную бечевкой стопку газет. Он напоминал мне этакого фараона в гробнице. Чокнутый малый, изучающий рисунки и письмена, выбитые и нарисованные на стенах и потолке. Упрямый старикан, не желающий расставаться со знакомым, любимым окружением.
– Еще две минуты – и я плыву обратно в Йёрстад.
– Ну, оно конечно… – пробормотал он, глядя в стол.
– Я не вернусь, – сказал я, подождал немного, встал и вышел за дверь. Спустился вниз, прошел по коридору на крыльцо, сел в лодку и начал считать до ста.
Мимо проплыли ель, морозилка, керосиновая бочка.
Досчитав до ста, я вылез из лодки, прямо по воде шагнул к перилам, распустил узел. И тут увидел на пороге Тросетовы резиновые сапоги. Я поднял голову. Он, в дождевике и зюйдвестке. В руке фибровый чемодан. Глаза прищурены.
– Иди садись, – сказал я.
Он еще сильнее зажмурился и пробормотал:
– Никогда этакой воды не бывало.
Я затащил его в лодку. Правда-правда. А что мне оставалось? Ухватил его за ногу и силком поставил ее в лодку. Потом взял старика за талию и поднял на борт, уложил на спину, головой к штевню. Он лежал и смотрел в небо. Я налег на весла. Лодка скользнула в сад, и мы поплыли среди яблонь. На ветках белели мелкие цветы. Тросет, словно худосочный Пиноккио, лежал и глядел на свои деревья. Может, думал о них. Может, о своей жене. А может, чувствовал, как когти паники вонзаются все глубже, все больнее, не давая ни о чем думать.
Кожаный диван, стеклянный столик, черная тиковая этажерка с дешевым кенвудовским музыкальным центром. Портрет лопаря, а рядом – крестьянские похороны. Я помню запах табачного дыма, пепельницы на столе в гостиной, вечно полные окурков. Шорох газетных страниц после обеда. Запах кофе из термоса, как вернешься со скотного двора. Добрый запах навоза в сенях. Трактор, урчащий на холостом ходу возле сараев. Лет с пяти-шести я мечтал сесть за его руль, газовать, поворачивать, выезжать на крутые участки, тащить на прицепе сено, пахать. Я мечтал о тракторе, как другие мечтают стать летчиками. В семь лет видел себя заправским трактористом: вот я сижу за рулем, орудую рычагами, переключаю скорости, утираю сопли, выезжаю на дорогу, а прицеп-то тяжеленный, с силосом. Мне нравилось смотреть, как отец задним ходом сноровисто подгоняет трактор к бетонному блоку, безошибочно попадает в пазы, спрыгивает на землю, закрепляет груз. В таких случаях я с гордостью думал: это мой отец, он все умеет. Настоящий хозяин. Когда-нибудь усадьба перейдет к Хуго, но пока здесь распоряжается он. Захочет – пойдет домой обедать или за скотный двор помочиться. Быстрый соскок с трактора, движение, которого никто, похоже, не замечал, и меньше всех он сам. Замечал один я. И с радостью предвкушал тот день, когда смогу вот так же соскочить на землю. Ходил за ним по пятам, стоял наготове с молотком, коробкой гвоздей или сеткой для курятника. Кустистые отцовские брови и спокойные глаза, бывало, в дрожь меня вгоняли. Иной раз я подходил к нему вплотную, хотел почуять запах его рук. Если он ходил в лес, валил там деревья и обрубал ветки, от его одежды шел свежий запах древесины. А временами его лицо замыкалось. Будто он обнаружил что-то такое, чем нельзя ни с кем поделиться. И тогда наставала тишина. Нет, тишина не то слово – вроде как сидишь возле динамитной шашки и слышишь шипение бикфордова шнура.
Он был работяга из тех, кто обтирает руки ветошью, ошкуривает бревна и рубит жерди, берется за дело без нытья и бахвальства, не смотрится по четыре раза на дню в зеркало, думая: ну, чем я не симпатяга?
Я вышел на улицу. Нина сидела на шелловской бочке. Мать с чемоданами и узлами топталась возле машины, будто ждала уже не один час. Я велел ей выбрать из этого багажа пару чемоданов или сумок. Она оглядела скарб, вытащила из кучи две сумки и чемодан.
Остальное я отнес на второй этаж. А на обратном пути еще раз проверил нижние комнаты. Открыл подвальные люки и двери, чтоб вода сливалась. Обошел гостиную, задержался у буфета, который так и стоял с приоткрытыми дверцами. Вытянул ящик с салфетками и фарфоровыми фигурками. У дальней стенки лежала небольшая пачка конвертов. Я достал их, открыл. Там были платежные бланки и уведомления страховщиков из «Стуребранн». Уведомления сообщали, что сумму задолженности мы сможем выплачивать по частям, так что сохраним страховку на дом от стихийных бедствий. Но в другом письме нас извещали, что наша страховка аннулирована. Прошлый год я точно выплатил страховой взнос, только вот какой и за что? Может, вовсе и не за дом. Ну и ну: мать умышленно прятала все эти бумаги! Получала их на почте, возвращалась домой, открывала буфет и засовывала подальше в ящик.
Я прошел на кухню, выглянул в окно.
Она по-прежнему ждала возле машины. Наверняка ведь все понимает. Если вода будет подниматься дальше, затопит Йёрстад и смоет постройки, никакой компенсации нам не видать. Что тогда? Жить негде. Полный финиш. Ничего у нас не останется.
Я въехал на гору и остановился. В нескольких километрах выше по реке, за верхушками елей, лежал Йёрстад. Я вылез из машины. Подъездная дорога уже под водой, вот-вот зальет калитку. По другую сторону, ближе к Брекке, река кольцом сдавливала Тросетов дом. Казалось, так и должно быть, словно дом его затем и построен, чтоб находиться посреди стремнины. Нина и Тросет тоже выбрались из машины. Он надел зюйдвестку, смахнул с лица капли дождя. Бода в реке закручивалась огромными воронками. Пока мы так стояли, в потоке объявился лось. Он пытался выплыть к нашему берегу, но течение понесло его дальше, вместе с деревьями, ящиками и всяким хламом. Внезапно он угодил в водоворот, закружился, будто на карусели, только морда и тяжелые рога еще торчали над водой.
Мы пошли назад, к машине. Остановился я неподалеку от каменного мостика через небольшой ручей и, когда открывал дверцу, увидел, что ручей затопил мост и промыл на нем поперечную борозду. Сейчас, подойдя к ручью, я понял, что машина здесь не пройдет. Вернулся к своим и сказал:
– Дальше пойдем пешком.
– Так ведь до Хёугера четыре километра! – воскликнула мамаша.
– Пойдем пешком, – повторил я, открыл багажник, вытащил чемоданы и сумки. Подхватил один узел, мешок и серый мамашин чемодан. Тут только и почувствовал, какой он тяжеленный. Подошли остальные, разобрали багаж и двинулись вброд по воде. Я запер машину и следом за матерью шагнул в ручей.
Неожиданно она остановилась, обернулась ко мне.
– Господи, я забыла выключить плиту! – В тот же миг она поскользнулась и потеряла равновесие.
Я швырнул чемодан на тот берег, бросился вперед и успел поймать ее, иначе бы она уплыла в Квенну. Мамаша молча лежала, вцепившись в свои узлы, барахтая ногами в мутной воде. Я подхватил ее под мышки, перетащил на другую сторону. Она села, отвела с глаз спутанные мокрые волосы, взглянула на меня.
– Ты не ушиблась?
– Нет! А ты?
– Да нет, в общем-то.
Остальные смотрели на нас. А мы на них. И вдруг все разом рассмеялись. Кроме меня. Мне этакое веселье действует на нервы. Я помог матери встать на ноги. Нина открыла чемодан, вытащила полотенце и сухую одежду. Мы с Тросетом отвернулись – мамаше надо переодеться.
– Шустрый ты, ровно молния метнулся.
– Не смотрите! – крикнула мать.
Как только она переоделась, мы пошли дальше.
Мать шла впереди, энергичными короткими шагами. Я знал, ей до смерти хотелось явиться в Мелхус этакой промокшей, бездомной бродяжкой, с жалким узелком пожитков в руках. Понятное дело, она была не в восторге от того, что пришлось оставить Йёрстад, но, раз уж поневоле бросаешь родные стены, в город нужно войти не иначе как мокрым до нитки, с высоко поднятой головой и неколебимой стойкостью в лице. А на тротуаре – толпа любопытных, стоит да смотрит. Я предполагал, что в Мелхусе, скорей всего, организован кризисный центр, и прямо воочию видел, как мамаша тащит Юнни вверх по лестницам, прокладывает себе дорогу сквозь очередь в контору, к стойке или к столу, толкает Юнни перед собой и крикливым голосом повторяет: «Поглядите на мальчика! На сынка моего! Бедняжка почитай что разут-раздет!» А потом начнет твердить, что нам никак нельзя ночевать на полу в спортзале вместе с другими бездомными; до тех пор будет голосить насчет немого оборванного сынка, что нам в конце концов отведут комнату в «Бельвю», лишь бы от нее отвязаться. Вот такая она, моя мамаша. Топая вниз по крутому склону, я смотрел, как она шлепает по грязи – ни дать ни взять терпеливая мученица. Теперь ее ничто не остановит. Она твердо решила гордо войти в город и добиться уважения и сочувствия от людей, которым, как ей казалось, на нее наплевать.
У подножия очередного холма Нина остановилась. Села на камень возле канавы, вытряхнула что-то из ботинка.
Мамаша уже была наверху и звала нас. Махала руками, показывая на реку. Нина обулась и пошла к ней. Я подхватил чемоданы, двинулся следом. Мамаша, прищурясь, смотрела в сторону Вассхёуга. Трое скотников выгоняли бычков с огороженного пастбища, что пониже усадьбы. Но мамаша смотрела не на них.
Выше по реке, под высоковольтной линией, плыло что-то непонятное.
– Вроде бы грузовик, – сказал я.
Непонятное сооружение медленно поворачивалось.
– Никакой это не грузовик, – возразила Нина.
Тросет стоял у обочины, физиономия бледная, длинная, сплошь в морщинах. Я спустился к нему.
– Думаю, тебе стоит глянуть на реку.
Он поднялся наверх. Нина кивнула на Квенну.
– Там твой дом, Тросет.
Тросет посмотрел туда, куда показывала Нина. В неспешном исчерна-зеленом потоке, ближе к нашему берегу, легонько покачиваясь, плыл его дом. На крыше по-прежнему красовались коряги, которые он очистил, отшлифовал, подрезал и прибил к коньку. Дом медленно поворачивался по кругу, теперь мы видели его торец. В длинной стене была солидная дыра, как от удара огромного камня. Сквозь этот пролом виднелась Тросетова спальня. Мы смотрели на старую, выкрашенную в белый цвет двуспальную кровать, которую он когда-то делил со своей молчуньей женой и которая теперь сдвинулась с привычного места. Стул, где еще час-другой назад аккуратно висела его одежда, опрокинулся и приткнулся к кровати. В остальном же все было как раньше. Совсем недавно я ходил в этом доме по коридору, по комнате, заглядывал на кухню, поднимался наверх. Такое ощущение, будто он выплыл из другого времени. У меня в голове не укладывалось, что я там был. Кукольный домишко, маленький, убогий. Мне вспомнилась фотография, висевшая возле лестницы: Тросет с женой в Сулёре, в начале семидесятых. Я взглянул на него – впалые щеки, выцветшие голубые глаза. Он смотрел, как его дом плывет прочь, и лицо у него было, как дочиста вытертая школьная доска. Никто из нас не проронил ни слова. Потом Тросет поднял руку, неопределенно взмахнул ею и сказал:
– Он сейчас перевернется.
Дом на что-то наскочил. Накренился, будто непременно хотел плыть дальше и налегал на препятствие, чтобы свалить его и снова оказаться во власти течения. Но стоял на месте, только наклонился вперед. Кровать отделилась от пола и боком скользнула к пробоине в стене. Перевалила через край и плюхнулась в воду. Мамаша тоненько пискнула. Я отвернулся – что-то мерзкое, противоестественное было в этой бултыхавшейся в воде белой двуспальной кровати. Тросет завороженно смотрел, как уплывают прочь его кровать, одеяло, покрывало, смотрел на застрявший дом. В конце концов постройка не выдержала напора воды – одна стена рухнула, черепичины и коряги градом посыпались в воду, угловые стойки вывернулись.
– На куски разваливается, – тихо сказал Тросет.
У его ног в грязи стоял коричневый фибровый чемоданчик. Там он его поставил. На первый взгляд, Тросет вроде и не волновался из-за дома, но фибровый чемоданчик, который стоял в грязи, впитывая дном дождевую воду, говорил о другом. С Тросетом что-то происходило, только ни по глазам этого не видно, ни по рукам, ни по лицу. Мне живо представлялись жестокие схватки на изрытом, топком поле боя, лязг стали, глухие удары по искореженным повозкам, раненые лошади, бьющиеся в грязной жиже среди рваных мундиров.
Тросет смигнул с век дождинки.
– Сызнова одни обломки. – Он нагнулся, поднял чемоданчик, зашагал дальше.
Мать кашлянула. Юнни сунул руки в карманы дождевика. Обернулся, глянул на Тросета, поспешил следом за ним, догнал и, опустив глаза, приноровился к ритму шагов нашего бывшего соседа.
Пониже Йёрсума на трухлявых остатках какого-то помоста под дырявым дощатым навесом сидела девчонка, а рядом с ней маленький черный щенок. Юнни подошел к ним. Девчонка погладила щенка, широко расставленные глаза снисходительно посмотрели на Юнни, который неотрывно глядел на щенка.
– Как его кличут? – спросил я.
– Эдип, – ответила девчонка.
– И сколько ему?
– Взрослый уже.
– Можно он его погладит?
– Нет.
– Почему?
– Гладить Эдипа можно только мне. – Она потрепала щенка по голове.
Я поставил чемодан на землю. Девчонка жила где-то возле Рёси. Подростком мне довелось однажды побывать в Рёси. По объявлению в «Курьере» отёц собирался приобрести там большую печку. Помню, мы заехали в Хёугер, кое-что купили в кафе, а потом двинули в Рёси. Когда я увидел эту усадьбу, у меня почему-то возникло ощущение, что на много миль окрест вообще нет людей, хотя до Хёугера было рукой подать. Мы зарулили во двор и вылезли из машины – отец, Хуго и я. Постояли в ожидании. Никого. Поодаль во дворе виднелось гумно. Отец посигналил. И вдруг из-за угла гумна высунулся лысый старикан в черном и уставился на нас, не говоря ни слова. Через минуту-другую в жилом доме открылась дверь. На крыльцо вышла бабенка лет тридцати, стриженная под горшок, в мужской одежде и в черных сапогах. Когда она здоровалась с отцом, я заметил у нее на руке мужские часы с металлическим браслетом. Голос этой бабенки показался мне странным, звучал все время на одной ноте. А старикан по-прежнему таращился из-за угла. Отец спросил, нельзя ли посмотреть на печь, и бабенка повела его к свайному сараю. Он заглянул внутрь. Мы прошлепали через грязный двор, зашли в сарай и начали по частям перетаскивать печь к машине. На втором заходе я заметил в углу сарая пыльный деревянный ящик с синими камнями. Таких камней я никогда не видал. Синие, как синий школьный мел, округлые. Я присел возле них на корточки, протянул руку и хотел было взять один, как вдруг чей-то голос за спиной произнес: «Не трожь». В дверях стоял мужчина. Тоже стриженный под горшок. Лицо худое, глаза впалые, воспаленные. Желтым от табака пальцем он показал на ящик и проскрипел: «Нельзя их трогать». Подошел ко мне, наклонился над ящиком, провел по камню кончиком пальца. Палец посинел. Он поднес его к губам, проскрипел: «Страшный яд!» – вышел за дверь и уковылял прочь.
– А почему вы пешком идете? – спросила девчонка.
– Пришлось из-за паводка покинуть усадьбу. В Хёугер идем, – сказал я.
– Там один человек утонул.
– Чего она говорит? – Мамаша подошла ближе.
– Женщина. Река ее забрала. – Девчонка прижала к себе щенка.
Я спрыгнул с помоста, подобрал узлы и чемодан и быстро зашагал дальше, таща за собой Юнни. Грязь летела во все стороны. Юнни хныкал. Я думал о Сив. Слышал, как мамаша что-то крикнула в дождь, и свернул за поворот. Вряд ли это Сив. Она откуда хошь выберется. Однажды попала в аварию, «фиат» раздолбала, а сама отделалась парочкой царапин. За поворотом я увидел дома. Юнни высвободился из моей хватки и, опершись ладонями на ляжки, пытался перевести дух. Я рванул к домам, а перед глазами у меня стояло ее лицо, каким я видел его, когда она закрывала за мной дверь. Я ей не позвонил. Между тем я добрался до деревянной церквушки с запущенным кладбищем. У ворот стояли две бабенки лет тридцати, разговаривали о чем-то.
– Очень милая была женщина… – донеслось до меня.
Я бегом припустил за угол. На площади перед кафе стояли два пикапа и несколько легковушек, а на газоне возле парковки толпилось десятка два-три людей. Оранжевый автомобильчик с оранжевой мигалкой на крыше остановился прямо на газоне. Из этого автомобиля вылез мужчина с одеялом в руках. Народ расступился. Мост уцелел, но щит с надписью «Осторожно, дети!» на том берегу исчез. Подъездная дорога и деревья по обе ее стороны тоже сгинули. Йёра вышла из берегов, проложила себе новое русло и смыла десяток метров дороги. Мутно-серая вода в реке вскипала белой пеной. У опушки леса и на лужайке пониже ее громоздились кучи выброшенных течением камней. Я поставил чемодан и узлы на землю. Через дорогу шла какая-то женщина с фотоаппаратом. Я спросил, что случилось. Она ответила, что одна из местных жительниц утонула, когда Йёра меняла русло.
Из-за угла выскочила запыхавшаяся мамаша.
– Кто утонул? – спросила она.
– Не знаю, – сказал я.
– Возьми Юнни! – Она побежала дальше.
Я взял Юнни за руку.
– Утонула Эстер Хёуг, – произнес женский голос.
Я обернулся. Это была хозяйка кафе.
Тросет, тяжело ступая, поднялся по лестнице и вошел в кафе. Мамаша, как я видел, пыталась протиснуться внутрь кольца зевак. Один из них оглянулся и что-то сердито буркнул. На дороге затормозила очерёдная машина. Из нее вылез мужчина с докторским саквояжем, направился к толпе. Мамаша сумела-таки протиснуться между двух зевак с зонтиками. Я видел, как она старается удержать отвоеванные позиции, с улыбкой глядя на одного из мужчин. Кольцо расступилось, пропуская врача. Я мельком увидал серый плед и ногу в белой кроссовке, потом – мужчину, который, сидя на корточках, делал Эстер Хёуг искусственное дыхание. На ней был коричневый свитер. Сив я на газоне не видел и пошел к углу кафе поглядеть, на месте ли ее дом. Выше по склону, между мостом и старой лесопилкой, из леса водопадом хлестала река. Она мчалась мимо дома Эстер, но садик и красный домишко уцелели. Я взобрался на придорожную кучу песка, посмотрел на дом Сив – в окнах темно. Слез на дорогу и вместе с Юнни направился к кафе. Хозяйка вышла на крыльцо, накинув на плечи вязаную кофту.
– Вы не видели Сив? – спросил я.
– Уехала она вчера вечером.
– Вчера? Одна уехала?
– Нет, с каким-то мужчиной. Он за ней заехал.
– Кто это был?
– Не знаю. Не присматривалась. Но точно не полицейский.
Жаль, я тогда не стукнул ее новенький японский джип. Что может быть омерзительнее этакой вот грымзы, обосновавшейся в медвежьем углу вроде Хёугера?!
– Ну-ка, отойди! – Она оттолкнула меня в сторону.
Юнни шагнул вперед и наступил ей на ногу. Она взвыла. Я дернул Юнни к себе, извинился:
– Он ведь немой, сами знаете.
Хозяйка что-то проворчала и ушла.
Я глянул на Юнни. Он пожал плечами.
В кафе я подошел к столику, за которым расположился Ларе Колдинг, поздоровался. Ларе крепко пожал мне руку, сказал: ну и дела, ужас что творится. Я кивнул: что верно, то верно, ужас. Он покачал головой: с Эстер-то Хёуг и впрямь жуткая история. Да, кошмар, сказал я. Но не стал говорить, что, насколько мне известно, Эстер Хёуг хороводилась чуть не со всеми здешними мужиками. Трахалась поголовно с каждым. Поселковой шлюхой ее не считали, просто с ней всегда можно было гульнуть. Бабы про это знали, однако ж здоровались с Эстер и разговаривали, будто так и надо. Почему – понятия не имею, ведь она не вызывала ни малейшей симпатии, а все-таки одержала верх над всем здешним населением. Вот и водопроводчик Ларе наверняка тоже ходил с ней в лес. Он не хвастун и не дурак. Но, стоя с ним рядом и слушая, как он убивается из-за Эстер, я подумал, что и ему доводилось по пьяной лавочке угодить к ней в койку. Что и он поступал, как все остальные. Ларе поинтересовался, как обстояло на Мелё, когда мы уезжали. Спросил насчет скотины. Пригладил волосы и повторил: ужас что творится. В зал вошла Бента, его жена.
– Я говорила с Гретой, – сообщила она. – Останетесь со мной. Я на машине.
– Мы можем и подождать, – сказал я.
Они вышли из кафе. За столиком у окна сидели те две бабенки, которых я видел возле кладбища. Обе смотрели на меня. Местные знали про нас с Сив.
Я налил две кружки какао, поставил их перед Юнни и Тросетом. Они сняли насквозь промокшие дождевики и сидели съежившись – точь-в-точь два вконец измученных брата.
– Заночуем здесь, – сказал я.
– А завтра что? – спросил Тросет.
– Переправимся на лодке.
– А после? – не унимался он.
– Что-нибудь придумаю.
Я отошел к стойке, взял себе венскую булочку, откусил и направился назад, к столику. За окном быстро прошагали к насыпи трое мужчин. Я остановился. Пышные кроны берез у церкви склонились от ветра, поднятого вертолетом. Четыре человека торопливо несли носилки, на которых лежала Эстер Хёуг. Одна ее рука свесилась вниз и покачивалась из стороны в сторону. Народ устремился следом. Небо мрачно хмурилось, острые верхушки елей казались совершенно черными, над полями за Йёрой лупил косой дождь.
Стефан занимал проходную комнату. На стенах множество фотографий, его авторские работы. Некоторые сделаны в других частях света. Я подошел к книжному шкафу. Уйма книг. Серьезная литература и видеозаписи семидесятых годов. Комната точь-в-точь как у студента или преподавателя. Но Стефан ни тот ни другой. Черные волосы до плеч, серое, малокровное лицо. Я вытащил одну из книг, взглянул на обложку, прочел вслух название. Поставил на место. Стефан сидел в низком кресле, обтянутом черным плюшем, на носу у него были очки в черной оправе. Я подошел к портьере, отодвинул ее в сторону.
– Там темная комната, – сказал Стефан.
Я отпустил портьеру. Он перебирал пальцами заклепки на ремне.
– Значит, в «Курьере» работаешь?
– Искал вакансию и получил место в спортивном отделе.
– После твоей фотовыставки в Осло…
Он встрепенулся.
– Ну, дела шли не так уж удачно.
– Но все же у тебя была персональная выставка.
– Я капитулировал.
– Из-за рецензий?
– Нет. – Он обиженно отвел глаза.
Я остановился перед одной из фотографий.
– Все-таки я не понимаю. У тебя была студия в Осло и персональная выставка, ты мог ездить по всему миру как фоторепортер. Зарабатывал кучу денег. И вдруг все бросил. Живешь в Хёугере с родителями, работаешь в местной газетенке.
Он молчал. Характер у него мягкий, несамостоятельный, заденешь по больному месту – парень сразу лапки кверху. Стефан подошел к аквариуму, принялся кормить золотых рыбок.
– А где сейчас Лена? – спросил я.
Он отставил банку с кормом, сказал:
– Я жалею о случившемся.
– Она сама тебя выбрала. Всё просто.
– Нет, тут было что-то большее.
– Выбрала она тебя, как яблоко. Ты и пальцем не пошевелил.
Он рассмеялся. Смех очень его красил.
– Так что же сталось с Леной? – спросил я.
Стефан разом посерьезнел.
– Знаю, ты жил в Уллеволе[6]6
Уллевол – район Осло.
[Закрыть]. Сам не пойму, почему я к тебе не заехал, – сказал я.
– Выбрось это из головы.
В дверь постучали. Я встал, взял его за плечо и повел по коридору в гостиную. Ларе, Бента, Юнни и мамаша выстроились шеренгой, в бумажных колпаках, с дудками в руке. Я втолкнул Стефана в комнату. Они затянули деньрожденную песню, а потом расступились. За спиной у них на столе красовался кремовый торт с зажженными свечками.
– Задуй свечки! – скомандовала мать и хлопнула в ладоши. Она обожала дни рождения, хотя ее никогда на них не звали.
Стефан огляделся по сторонам.
– Это мне?
Ларе и Бента посмотрели друг на друга.
– Нынче тебе исполняется тридцать один год, – сказала мамаша.
– У меня нынче день рождения? – Стефан растерялся.
После кофе с тортом и вручения подарков мы со Стефаном вышли на воздух. Смеркалось, свет будто медным колоколом накрывал холмы и всю долину. Мы присели на краю газона. Ниже виднелись уступы с цветочными грядками. Колдинги любили цветы. Каждое лето высаживали возле дома множество роз, петуний, тюльпанов, мимоз и крокусов.
– Жить-то где будете? – спросил Стефан.
– Где поселят. В спортзале или в пансионате.
– А как насчет Хуго? У него ведь большой дом.
– Ты, видать, поглупел.
– Он вроде опять с кем-то судился?
– Да, Хуго любит сутяжничать.
– С кем же он судился на сей раз?
– Перво-наперво с охранником. Собрался в Хёугволл на рождественский бал. И у входа затеял перебранку с охранником. Объявил, что имеет право на скидку, поскольку состоит в Хёугволлском благотворительном обществе. А охранник слышать ничего не хотел. Хуго стоял на своем: давай, мол, скидку! – и не желал выходить из очереди. В результате охранник стукнул его по носу, потекла кровь. Хуго подал в суд и получил компенсацию – три тысячи крон.
– У него, кажись, и трудовой конфликт был?
– Ага, он судился с Ларсом Андерссоном, с «Готовым платьем».
Я рассказал, как Хуго устроился продавцом в магазин готового платья. Через год его уволили, потому что он грубил клиентам и постоянно препирался с хозяином, Ларсом Андерссоном. Сразу после увольнения Хуго подал на Андерссона иск, потребовал восстановить его на работе. Андерссон пытался достичь компромисса, но братец мой ни в какую. Обратился в суд по трудовым спорам, заручился поддержкой властей – и, как только суд вынес решение, на следующий же день явился в магазин. За одну неделю, можно сказать, вся клиентура разбежалась. Если кто и заходил, то поглядеть на Хуго. Ларе Андерссон – мужик обходительный и малость педантичный, наверняка старался по возможности угодить всем покупателям. Не больно-то великая личность, но, по крайней мере, честный, порядочный человек. Всего через месяц-другой после возвращения Хуго на работу Андерссон запил, да так, что уже не мог постоянно, изо дня в день, заниматься магазином. Еще через несколько месяцев «Готовое платье» пошло с молотка, а через год Ларе Андерссон превратился в полную развалину и уже не выходил из дома.
– Ты видел брата после отъезда? – спросил Стефан.
– Два раза. Первый раз – в «Йернии». Я там газонокосилку покупал. Он вошел в магазин, посмотрел на газонокосилку, которая стояла у прилавка, потом уставился на меня, будто на убийцу какого, и утопал за дверь.
Про второй раз я рассказывать не стал. Я тогда сидел у окна в «Твоем кафе», ел яичницу с беконом. Вдруг вижу – он, стоит за окном на тротуаре, спиной ко мне. С черной сумкой из кожзаменителя, купленной, еще когда ему было девятнадцать. Я хорошо помню, как он первый раз собирался на работу: в тот день он встал ни свет ни заря и, когда я спустился на кухню, укладывал в эту сумку пакет с едой, клетчатый термос и яблоко. Словно ходил на работу уже лет тридцать и успел состариться. А было ему девятнадцать. Потом он что-то буркнул, но, когда мать пожелала ему удачи, не ответил и зашагал к мосту. Я сидел у окна, смотрел за реку, на автобусную остановку. Вон он стоит, один-одинешенек, с сумкой в руках, упрямый и растерянный, словно в очереди ждет. И в тот миг, у окна, я почувствовал к нему легкую жалость. Да, иначе не скажешь, именно жалость. Мне было жаль, что он такой, каков есть, и никогда не изменится. Он стоял у окна кафе, спиной ко мне, с сумкой, в старой потертой кожаной куртке, за которую городские юнцы-рокеры наверняка бы отвалили не одну сотню крон, – стоял, как тогда на автобусной остановке: упрямый и растерянный. Смотрел через дорогу, где и смотреть-то вроде бы не на что. Немного погодя он слегка повернул голову, так что я увидел его профиль. Мне не хотелось, чтобы он заметил меня, и я замер без движения, будто это могло сделать меня незримым. И вот тут-то обнаружил, что он шевелит губами. Чуть-чуть, едва приметно, но пока я видел его профиль, губы все время двигались, быстро-быстро. Я прямо-таки обалдел. Мой старший братец, сутяга и крохобор, стоял на улице и разговаривал сам с собой. Достал из кармана носовой платок, развернул, высморкался, потом опять сложил платок и спрятал в карман. Слегка усмехнулся и тотчас же помрачнел. Тогда-то я тихонько отодвинул стул и пошел в уборную. Остановился у автомата с презервативами и сказал: «Черт побери!» Дважды повторил, во весь голос, а после добавил: «Нет, черт побери. Нет и нет!» – и треснул кулаком по автомату. В ту же секунду дверь открылась, на пороге возник начальник отдела культуры. Глянул на меня и выпятился вон. Я вернулся в зал, но остался в глубине. Хуго так и стоял на тротуаре, спиной к окну. Через несколько секунд он потер щеку и зашагал прочь, будто заметил, что я жду, когда он уберется, и что этим ожиданием он напоминает мне все то, о чем я не хочу думать.
– А второй раз?
– Тогда Роберт получил взбучку, – сказал девичий голос.
Стефан вскочил. Я присмотрелся: она стояла за деревьями.
– Ну что ты болтаешь!


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





