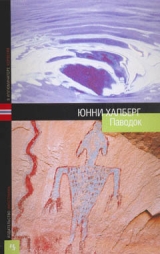
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Дед откинулся на подушки, закрыл глаза, хрипло вздохнул. Казалось, он все еще там, в прошлом.
Я встал, шагнул к двери.
– Нет, погоди, – донеслось с кровати.
Он сел, пытаясь что-то сказать, прошептал:
– Не может быть, что это конец.
– Разумеется, нет. Еще много времени впереди.
Дед покачал головой.
– Мне хочется большего. Хочется верить. Но я не могу. Ведь сейчас я верю, только чтоб спасти себя. А это не вера. Вера… совсем другое.
– Ясное дело, вера – нечто большее.
Он криво, неприязненно усмехнулся.
– Ты что же, вдруг уверовал?
– А что прикажешь говорить? Я здесь. И я тоже боюсь смерти. Но не довелось мне пережить ничего такого, что помогло бы уверовать. Это все, что я знаю.
Я положил руку ему на плечо. Он задремал. В дверь постучали. Мама.
– Ну, как он? – спросила она.
– Выкарабкается.
– Ты правда так считаешь?
– У него железный организм.
– Стейн Уве… – быстро сказала она. И умолкла, не находя слов. Как всегда. – Ты бы почаще заезжал, а? Если на Клоккервейен все будет тихо-спокойно.
– Мне хорошо дома.
Она всегда обо мне тревожится.
– Ты мобильник не отключаешь?
– Звони, если ему станет хуже, – сказал я и спустился вниз.
Отец сидел возле печи, читал книгу о вьетнамской войне. Это его конек, второй после Джона Ф. Кеннеди. Он собрал массу книг о Кеннеди, мог поименно назвать всех его родственников и знал правду о том, почему Джона Ф. Кеннеди убили, но держал ее в секрете. Об этом никому рассказывать нельзя, тем более родным. Я стоял и молчал, не зная, что сказать. Никогда я не знал, что сказать отцу.
– Что читаешь? – спросил я в конце концов.
– Книгу о сложностях свертывания военного участия США во Вьетнаме.
– По-твоему, США всего-навсего участвовали в войне?
Он кивнул.
– А то! Сложности участия США во вьетнамской войне.
Снаружи в комнату сочился серый свет. За окнами тянулись длинные вереницы елок.
– Как на службе?
– Отлично, – ответил я.
– Много возни?
– Более чем.
– Ну и хорошо. – Отец перевернул страницу, устремил взгляд на фотографии «военного участия».
После совещания я вышел из зала вместе с Тиллером и Туве. Им предстояло съездить в верховья долины, обсудить с вспомогательными отрядами готовность к паводку. Хенрик шагал, засунув руки в карманы.
– Как дед?
– Думаю, оклемается.
– Ба, это еще кто такой? – спросил Туве.
Дальше по коридору стоял Терье Трёгстад, охотник на куропаток и контрабасист. Много лет он играл в собственном ансамбле. Группа неплохая, но исполняли они почему-то только чужие композиции. Однажды вечером я поинтересовался у Терье, почему они сами ничего не сочинят, способные ведь ребята. Он ответил, что сочинять дано не всякому, они вот умеют только подражать другим. Я много раз слышал, как их гитарист играл «Hey Joe» – на мой вкус, грубовато. И сказал Терье, что им бы все-таки не мешало попытать счастья – вдруг сумеют не просто копировать. Он послушал совета. Через полгода они записали на студии свой сингл. Под названием «Солнце светит». В Мелхусе он шел нарасхват. Я не сразу смекнул, что большинство покупало сингл для смеху. А уж когда и сам Терье сообразил, что к чему, встречаться с ним стало не очень-то приятно. Он насмешек не терпел.
– Вынюхивает небось, что тут было, – сказал я.
– Лучше б ему этого не слышать, – заметил Хенрик.
Отец Терье, Хьелль Трёгстад, в свое время продавал «саабы» и пользовался большим влиянием, и детство, проведенное рядом с торговцем автомобилями, наложило на Терье свой отпечаток. Мы рта открыть не успели, а он уже махнул рукой в сторону двери.
– У меня тут есть кое-что для вас.
Его машина была припаркована у подъезда. Мы вышли на улицу. Терье открыл багажник.
– Я нашел ее нынче после обеда, – сообщил он.
В багажнике на куске пластика лежала его пропавшая собака. С перерезанным горлом.
– Где ж она была? – спросил Хенрик.
– Под верандой, – ответил Терье.
Хенрик наклонился, внимательно осмотрел рану, выпрямился.
– Я пришлю кого-нибудь за собакой, надо отправить ее к патологу. Идемте.
– Посадите Роберта под арест, а? Жена до смерти боится.
– Вы точно видели ночью его?
– А кого же еще-то?
– Что у вас случилось в Хёугволле? – спросил я.
Терье так и вскинулся:
– Разве я тут обвиняемый?
– Нет. Но мы должны знать…
– Она проходу мне не давала, дуреха сопливая. Вот и пришлось дать ей тычка, пока не поздно… – Терье повернулся к Хенрику. – Думаете, я вру?
– Идемте, – сказал Хенрик.
Терье захлопнул багажник и скрылся в уборной.
Мы прошли в комнату для допросов и стали ждать.
– Ты хорошо знаешь Роберта, – обратился ко мне Хенрик. – Мог он такое сделать, как, по-твоему?
– Нет. – Я встал, выглянул в коридор: Терье безуспешно пытался застегнуть штаны, но молнию заклинило, и, махнув на нее рукой, он двинул к нам.
– Ну, так как? – спросил он с порога.
– Роберт не трус, – сказал я. – Он бы явился прямиком к вам.
– Прямиком ко мне?! – завопил Терье. – Шныряет у меня в саду которую ночь кряду, собаку мою убивает, всю мою жизнь норовит разрушить. Ночной дежурный из «Бельвю» видал его на Прёйсенвейен. А вы говорите, он не трус!
– Он только подозреваемый, – сказал я.
– Так я и думал, – буркнул Терье, садясь на стол.
– Как там с фургоном?
– С фургоном? Вы о чем?
– Никто вам не звонил? Иной раз владельцу звонят по телефону.
– Нет. Никаких звонков не было. – Он фыркнул, лицо побагровело.
– Вечером я вам звякну, – сказал Хенрик.
А Терье, похоже, что-то вспомнил. Сунул руку в карман куртки.
– Я вот еще что нашел. – Он протянул мне фортепианную струну.
На ней была кровь.
– Ах ты, черт… – пробормотал Хенрик.
– Да уж, полная хреновина, – кивнул Терье.
– Что верно, то верно. – Я достал из шкафа пластиковый пакет.
– Вы чего?! – хрипло вякнул Терье. Губы у него опять задрожали. Но во всем поведении чувствовалась какая-то фальшь. Скажет слово – и глядит на нас. Вроде как проверяет.
– По-моему, вы прекрасно все понимаете, – сказал я ему.
Он молча буравил меня взглядом. Потом чмокнул губами, посмотрел на Хенрика, а поскольку тот молчал, утопал из комнаты, в сердцах хлопнув дверью.
– Что ты думаешь? – спросил Хенрик.
– Нет, это не он.
– Тогда кто? – Он пристально рассматривал струну. – В Йёрстаде есть пианино?
– Не знаю, – сказал я и призадумался. – Подглядывать Роберт мог, но вот насчет струны – это вряд ли.
Хенрик отправил струну в пакет.
– Я поручу это дело Туве, – сказал он.
– Не можешь ты так поступить!
– А ты представляешь, что будет? На первой полосе «Курьера» тиснут фотографию собаки, хозяин которой, музыкант танцевального ансамбля, по уши в долгах. И в довершение всего – самозваный защитник подозреваемого!
– Так ведь у меня все версии на руках.
Хенрик навис над столом.
– Парень спит и видит, как бы с тобой разделаться. Надоело ему хуже горькой редьки, что ты везде лезешь. Вот тебе и версии.
– Я полицейский.
Хенрик утер рот.
– Дело возьмет Туве.
Я двинул к себе в кабинет. Полседьмого уже. Все-таки не сходятся тут концы с концами. Не мог Роберт струной перерезать собаке горло. Застрелить или пришибить до смерти мог. Но чтоб струной? Не-ет.
Я вошел в кабинет. А вдруг все-таки он? За последние годы он много серьезных глупостей наделал. Я набрал номер Хуго. В это время он обычно сидел в «Пиццарелли». Мобильник был включен, Хуго ответил. Я сказал, что буду через десять минут, и положил трубку, не дожидаясь отклика.
Хуго сидел на своем привычном месте, у окна. Между шестью и семью вечера он всегда пил кофе с пирожными, рассеянно глядя на уличную жизнь.
– Я сегодня в Йёрстад заезжал.
– Ну-ну, – буркнул он, прихлебывая кофе.
– Ты с Гретой поговорил?
– Времени не было.
– Думаю, тебе надо позвонить.
Хуго отставил чашку. У него не было ни малейшего желания встречаться с Робертом. Он мог бы, конечно, потолковать с Гретой, но и это все откладывал. Не любил разговоров с людьми, и точка.
– Ты что, пришел упрашивать, чтоб я матери позвонил? – спросил он.
Я заказал минералку. Хуго положил руки на стол и уставился на меня. Темно-серые глаза – словно заклепки меж веками.
– Решился? – в свою очередь, спросил я.
Он раздраженно провел пятерней по ершистым черным волосам. Доел пирожное, глянул в окно. Потом протянул руку назад, сдернул со стоячей вешалки кепку и старую куртку коричневой кожи.
– Уходишь?
– К делам пора возвращаться.
Он надел куртку.
– Паводок будет. Я пробовал объяснить Грете, но, по-моему, до нее не дошло. Кто-нибудь должен ей втолковать, что дело нешуточное. Кто-нибудь, кого она уважает.
Хуго кивнул, коротко и протестующе.
– Не исключено, что им придется уехать из Йёрстада, – продолжал я.
– Не исключено, – повторил он таким тоном, будто речь шла о прогулке по лесу.
Я сдался. Однажды я для пробы употребил при Хуго слово «диалог». Так он аж перекосился, будто я в морду ему плюнул. Парень разъезжал по усадьбам – с револьвером, ружьем и забойщицким пистолетом – и выстрелом в голову приканчивал животных, сломавших ногу либо лежавших со вздутым брюхом, больных и увечных коров, быков, овец, телят. Я не раз думал, что он носит в себе что-то такое, о чем никто знать не знает. Мозговал, что бы это могло быть, хотя в глубине души понимал, что не очень-то и хочу докапываться.
– Что сказать Грете? – спросил я.
– Скажи: чему быть, того не миновать. – Он надвинул на голову кепку и затопал к выходу, громыхая кожаными сапогами.
На улице лило как из ведра. Хуго направился в сторону Главной улицы. Домой идет, на Нурдре-гате, засядет перед теликом вместе со своей Бетти.
Я выпил два пива и двинул домой. Мой дом стоял высоко над городом, на уступе крутого склона, и обзор оттуда открывался фантастический. И город видно, и долину далеко окрест, и снежные вершины гор за холмами, и озеро. Дом был бревенчатый, и вообще-то его выстроили внизу, у магистрального шоссе. В начале века там располагалась маленькая почтовая станция, где меняли лошадей. В середине восьмидесятых, закончив Полицейскую академию, я купил участок на горе, разобрал сруб и перевез наверх, на Клоккервейен. А там снова собрал. Через несколько лет мне стало ясно, что ввязался я в крайне неблагодарное и утомительное предприятие. Сидел кругом в долгах и почти все время что-то разбирал, собирал, выкапывал, засыпал, пилил, приколачивал, ровнял и сажал. Три года вкалывал день и ночь. Только и делал, что ходил на службу, надрывался дома да спал. И все потому, что хотел иметь собственное жилье, а не снимать дом или квартиру в городе. Хотел освободиться от всего, что могло сделать меня зависимым от других, исключение составляли только служба да Сив. Я вошел в дом, открыл дверь веранды, приготовил себе тарелку кукурузных хлопьев и устроился на веранде, глядя в сад. Вокруг насыпи я посадил душистые травы – розмарин, шалфей, базилик. У стены – помидоры и подсолнухи. А уж среди высоких тенистых деревьев чего только не росло – сущий ботанический сад. Я доел хлопья и вернулся в дом. Стал посреди комнаты, огляделся по сторонам. Из Винье, что в Телемарке, я перевез сюда часть отцовского наследства, старинные вещи из крестьянской усадьбы, где прошло отцово детство. Сам отец давно потерял к ним интерес, хотя долгие годы они были ему полезными спутниками. Маслобойка, секретер, скамья-кровать, валек для катания белья, сотканное его матерью покрывало со сказочными узорами. Теперь все это находилось на моем попечении. Я подошел к угловому шкафчику, провел по нему ладонью, ощупал гладкую поверхность. Открыл дверцы, заглянул внутрь и подумал, что не мешает покрасить внутренние стенки. Принес краски, кисти, расстелил газеты, открыл банки с красками и принялся выгружать полки и ящики. И тут мне в руки попалась фотография – Сив и Финн. С Финном я не разговаривал с того дня, как застукал их вдвоем. Снимок был из похода, мы втроем ходили тогда к озеру Мёсватн. Лето, небо ярко-голубое, Сив и Финн стояли на палубе «Канюка», глядя на горы, обступающие озеро. Мы ставили палатки и шесть дней провели на плоскогорье Хардангервидда. И хотя жили в разных палатках, тогда-то все и случилось. Финн – заядлый рыболов. Он любил посидеть, а то и постоять у озера или водопада, забрасывая и подсекая, забрасывая и подсекая. Мне это надоедало, наводило скуку. Я любил ходить, моя стихия – движение. Под вечер мы разбивали лагерь, и они с Сив, взяв удочки, шли на рыбалку. Обычно их не было до темноты, а иногда и до глубокой ночи. Удивительно, как это я ничего не понял, ведь вообще-то Сив рыбалкой не интересовалась, а они раз от разу возвращались все позже и рыбы приносили все меньше. Дело происходило прямо у меня перед носом, однако я палец о палец не ударил. Как же так? Мало того, я еще и оправдывал их, когда они слишком задерживались. Среди ночи поодаль, за кустами, слышался звонкий смех Сив, потом резкий хохот Финна, а ближе к палаткам они приумолкали, переговаривались невнятным шепотом. У меня и мысли не мелькало насчет того, чем они там занимаются. Финн был мне приятелем, Сив – женой, мы все трое дружили. И продолжалось этак чуть не три года. Однажды Финн встречал с нами Рождество. Я лег рано, лежал и слышал в гостиной их голоса, звучавшие все тише, под конец почти шепот, потом я уснул. Сив и мой приятель. Друг дома. Не знаю, что тут хуже. Особенно меня бесило, что все это происходило у меня перед носом, а я ничегошеньки не замечал. Ну и что Финн был мой приятель.
Одно время я подумывал с ними разделаться. Сновал туда-сюда по дому на Клоккервейен и воображал, как пристрелю обоих, засуну трупы в пластиковые мешки, отвезу на озеро и утоплю. Но ничего такого я не сделал. Не тронул их ни в тот раз, когда нечаянно застукал в «Бельвю», ни после. В гостиницу я заехал за бездельником, который проживал там щедротами социального ведомства. И вот иду я по коридору и вижу: дверь одного из номеров открывается, и выходит оттуда Сив, а за ней – Финн, на ходу надевает куртку и целует Сив. Она оборачивается и видит меня. Я стою перед ней, зажав в зубах ручку. Они даже не пытались оправдаться. Сив сползла по стене на пол и заплакала. Финн стоял, с гипсовой улыбкой глядя на меня, куртку он надеть как следует не успел. Думал, наверно, я что-нибудь сделаю. Но я не из таких. Я вышел в холл и сел у стола, разглядывая стены, где висели пейзажи с водопадами, елями и плетнями. Финн притащился следом, попробовал что-то сказать, я не двигался, не смотрел на него. Упустил свой шанс. Финн тихо исчез. Через минуту-другую явилась Сив. Я мог бы ударить ее, но какой смысл? Разве что-нибудь изменится? Тошно было видеть ее испуганное, зареванное лицо. Она отлично знала, что наделала, и тем не менее все ближайшие дни безостановочно плакала и просила прощения. Пыталась разжалобить меня смирением, даже в ту минуту, когда стояла с чемоданами в руках, – ни дать ни взять жертва неподвластных ей сил. Я выставил ее за дверь, но злорадства не испытал.
В последнее время она опять начала названивать по телефону и заходить ко мне. Я знал, чего она добивается. Финн сбежал. Она осталась одна. И в Хёугере было уже не так уютно. Я бросил фотографию в шкаф, закрыл дверцу, убрал газеты и краски. Духу не хватило выкинуть снимок. Я опять слазил в шкаф, достал маленькую бутылочку бренди, хлебнул добрый глоток. Потом прошел в спальню. Полдвенадцатого уже. Я открыл окно, зажег свет, глянул на улицу, спрашивая себя, когда же это кончится. Меня бросило в холодный пот, ладони взмокли, я твердил себе, что ничего страшного не случилось.
Около двенадцати я надел куртку и опять двинул в город, точнее – в «Эйвинн». Это кафе располагалось к югу от центра, возле шоссе. Простенькое, скромное заведение. Я уже бывал там несколько раз.
Дул порывистый ветер, швыряя в лицо струи дождя, но было тепло. Я остановился, подумал, что наверняка пожалею, но все-таки зашагал дальше. Повернул за угол, увидал освещенные окна, а немного погодя уже входил в кафе, смахивая с куртки капли дождя. В зале было человек пять-шесть. Она стояла за стойкой, улыбалась мне навстречу. Я сел и взял кружку пива.
Четверть часа спустя она хлопнула в ладоши и объявила, что пора закрывать. Посетители, собрав вещички, потянулись к выходу.
Она навела порядок, вытерла столы, погасила свет. Мы вышли на улицу. Ветер еще усилился, так и норовил вывернуть наизнанку ее зонтик. Я отдал ей свой дождевик.
В центре ни души. Пустые, мокрые от дождя улицы.
Она старше меня и не сказать чтоб красавица, зато милая и уютная, к тому же ей нужен друг. Думаю, я не худший из тех, кого она приводила к себе домой. Да и она тоже не худшая из тех, с кем я имел дело. Честно говоря, их по пальцам перечтешь. Но она мне нравилась. С ней было хорошо.
Жила она возле Мёллы, в старом рабочем районе.
– Что с тобой сегодня? – спросила она.
– Да ничего особенного.
Мы свернули на Балдерс-вей.
– О ком ты думаешь? – опять спросила она.
– Ни о ком.
Она посмотрела на меня. Лицо у нее небольшое, круглое.
– Наверно, не стоит нам этого делать.
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, не стоит идти ко мне.
Я обнял ее за плечи.
– Почему?
– Все дело в тебе, – сказала она, крепко сжав мой локоть. – Только не придавай этому большого значения.
– Чем нынешний вечер такой особенный?
Я остановился. Чуть дальше по улице, прислонясь к трансформаторной будке, стояла девчонка в красной джинсовой куртке. Я присмотрелся. Нина Йёрстад. Она меня не заметила. Раньше я никогда ее тут не видел. Тем более в такую поздноту – без малого в час ночи.
– Нина! – окликнул я и направился к ней.
Увидев меня, она поспешно отошла от будки.
– Что ты здесь делаешь? – крикнул я.
Нина побежала прочь, то и дело оглядываясь. Я бросился вдогонку. Она исчезла в боковом переулке. Я пересек мостовую, но в переулке никого не было, она исчезла.
Грета жаловалась, Роберт, мол, злобится на Нину, потому как думает, что в Мелхусе она с кем-то встречается, а ему не по душе, что она хороводится с девчонками и парнями своего возраста, ходит в кино или в «Макдоналдс». Он требует, чтобы Грета запретила Нине шастать по ночам, после одиннадцати она должна быть дома. Нет ли у Роберта каких сомнительных намерений, подумал я тогда. Но, так или иначе, это не объясняет, что Нине понадобилось в Мёлле. Ей тут совершенно нечего делать. Репутация у этого района не из лучших, если Мёллу вообще можно назвать районом.
Я вернулся к своей спутнице.
– Кто это был? – спросила она.
– Девчонка, за которой не мешает присмотреть.
– Она и раньше тут бывала. Среди ночи.
– Одна? Или с кем-нибудь?
– Одна вроде бы. А в чем дело-то?
– Я и сам плохо понимаю.
Роберт Йёрстад
Я взял щуку под жабры, затащил в лодку, а потом и на берег выволок. Она разевала пасть и сипло шипела. Достав нож, я сел на щуку верхом, приставил острие к твердокаменному хрящу между глаз и хватил кулаком по рукоятке. Щука выгнулась дугой, несколько раз дернулась и обмякла. Я вырвал нож, встал, сходил за безменом, прицепил рыбину к крюку и поднял.
– Десять с половиной кило!
Юнни, сидя на прибрежных камнях, пристально наблюдал за происходящим. Здоровенная щука, вторая по величине из пойманных здесь; первая, которую он поймал шестилетним мальчонкой, весила целых двенадцать с половиной кило. Строго говоря, ее тоже поймал не он. Нынешняя плавала в заводи возле берега, вертелась так и этак, ровно хворая. Я взял удочку, забросил блесну, повел – она и цапнула крючок. Удилище я передал Юнни, сказал, что добыча его, вдобавок вон какая громадная! Он подхватил рыбу за жабры, поднял и заковылял к дому. А я зачалил лодку и пошел следом, не сомневаясь, что в щуке полно всякой дряни. У меня не было ни малейшего желания торчать на кухне, срезать филе и пропускать через мясорубку. Я дотащился до крыльца, где со щукой в руках стоял Юнни, пытаясь задом открыть дверь. Я сам открыл ее.
– Скажи, что щуку поймал ты. Положи ее на кухонный стол, – распорядился я, снимая сапоги.
С радостной улыбкой он поволок добычу на кухню. Я стоял в сенях, глядя на черный выключатель. Потом повернул его – раз, другой, третий. Когда он поворачивался, внутри что-то щелкало. Обычно, когда я приходил домой и, повернув выключатель, зажигал свет, меня охватывало приятное чувство, но сегодня было иначе, сегодня и выключатель, и лампа наводили тоску. Я прошел в переднюю, бросил на пол сумку с рыбацкими причиндалами, заглянул в гостиную. Мамаша что-то писала, склонившись над столом. Она вздрогнула, прикрыла листок локтем и поинтересовалась:
– Ну, как улов?
– Юнни поймал щуку.
– Неужто опять щуку? – заволновалась она.
Мать не выносила рыбный запах, слизь и потроха, плавающие в мойке. Пока рыба не вычищена и не разделана, она наотрез отказывалась к ней прикасаться, а уж вонючей десятикилограммовой щуке в доме вообще не место.
– Что пишешь? – спросил я.
– Так, письмо.
– Кому?
– Подруге.
– Подруге? Ну-ну, – пробормотал я.
Она выпрямилась, посмотрела на меня.
– Юнни ждет на кухне, – сказал я и вышел из гостиной.
Нина, стоя в дверях, наблюдала, как Юнни чистит рыбину под струей воды. А ведь чем дольше щуку промываешь, тем больше слизи, но для Юнни это без разницы, он хоть целый день может чистить.
– Это Юнни ее поймал? – спросила Нина.
Я кивнул. Она прошла к рабочему столу.
– Давай поглядим, что она слопала напоследок! – Нина взяла длинный нож.
Я сбежал оттуда, вновь задержался на пороге гостиной. Мать по-прежнему писала. Потом подняла ручку, черкнула внизу страницы свое имя. Взяла конверт, сунула в него исписанный лист и запечатала.
– Вот так! – Она встала и направилась на кухню.
Господи, да пускай пишет кому угодно, только бы не в «Курьер», думал я. Последнее ее письмо в редакцию напечатали под заголовком «Король не улыбался», а накропала она его после визита в Мелхус короля Харалда, который открывал Дорожный музей. Когда король перерезал ленточку и произнес речь, мать, ясное дело, торчала на площади перед музеем. Но в заметке ни о музее, ни о торжественной церемонии, ни о людях, которые там выступали, не было ни слова. Мать критиковала короля Харалда. Она считала, что нынешний наш король не чета прежнему. Улаф V, старый король, всегда держал в запасе улыбку. А вот новый, Харалд то есть, почти никогда не улыбался. Лицо у него угрюмое, неприветливое, на вид чуть ли не всегда усталое, больное. Стало быть, Норвегия заполучила кислого, недовольного короля. А кому такой нужен? И мамаша моя предлагала: раз мы живем в демократическом обществе, то король должен поступить как другие «представители». Пускай пройдет курс улыбок и «таким образом вернет себе уважение и восхищение нации». После этого я целую неделю носа в город не казал. Потому как знал, что народ читает ее опусы и хохочет до слез, а журналюга, который печатает мамашины бредни, делает это нарочно, из ехидства. Но говорить ей без толку. Свои заметки она вырезала (о чем бы ни шла речь – о скверно покрашенных домах или о бесконечных дорожных работах) и вклеивала в папку. Что ж, вся надежда, что она вправду писала подруге, хотя это не более вероятно, чем появление Тросета об руку с обалденной красоткой.
– О Господи, – простонала мать.
Я тоже двинул на кухню. Юнни с Ниной стояли, наклонясь над мойкой. Мать, зажав нос, топталась у них за спиной.
– Что там? – спросила она.
– Маленькая щучка. Внутри большой, – ответила Нина.
Юнни поднял вверх бледную белоглазую рыбешку. Мать выскочила вон из кухни.
Нина скорчила гримасу, крикнула:
– Они лопают друг дружку! – и расхохоталась.
Я вышел на воздух. Туман редел. Видно и реку, и сосну, и дом Тросета, и сеновал поодаль. Я обогнул скотный двор, влез на трактор, посидел там минуту-другую. Надо бы съездить за сеном, задать скотине корм, убрать навоз. Для меня вкалывать на скотном дворе – самое милое дело. Накормишь коров, подоишь – сразу и полегчает. Я взялся за ключ зажигания, оглянулся на прицеп и, как уже не раз бывало, выпустил ключ из рук. Вспомнил, как Хуго стоял, глядя в колодец, словно прикидывал, прочистить сток самому или вызвать по телефону грязевой насос. Я подошел к нему, а он, как увидел меня, так прямо взбесился, сгреб за грудки, отпихнул в сторону и гаркнул: «Не на что тут зенки пялить!» Я прислонился к трактору, по-прежнему недоумевая, как же он сумел выкрутиться. Мне хотелось, чтобы он ответил за содеянное и во всем признался. Никто мне не верил, но ведь это ничего не меняло. Хуго убил отца и ушел от ответа. Годами он копил обиды, вредил исподтишка да наводил критику. Вечно препирался со стариком, а если придраться было не к чему, в два счета изобретал повод. Не один, так другой. То возмущался, что отец ходит в грязных брюках, то злился, что он пукнул при людях, то бурчал, что на праздниках старик напрямик выкладывает все, что думает о спортивной команде или о каком-нибудь начальнике. Назовет отец кого-нибудь в глаза лакеем или жополизом, так Хуго извиняется за него. Еще я вспомнил, как стоял во дворе и смотрел на отца, он копал канаву. Было мне тогда лет девять-десять, и я обратил внимание, до чего равномерно и сноровисто он кидает лопатой липкую глину, раз за разом совершая руками, корпусом и лопатой одни и те же движения, и мне это нравилось. Вот так и должно быть: мой отец под весенним солнцем копает канаву к реке, а кругом тают остатки снега и текут ручейки. Немного погодя он вылез из канавы, воткнул лопату в землю, взглянул на меня, утер пот, оперся на черенок и стал смотреть на дорогу. Так он простоял несколько минут. И тут я услыхал, что за спиной у меня вырос Хуго. Он глядел на отца, который стоял к нам вполоборота, и кривил губы. «Ишь, старый черт, – сказал Хуго, устремив на меня свои серые глаза-заклепки, – наверняка что-то замышляет». – «Что замышляет?» – спросил я. «Как обычно». – «Так что же?» – опять спросил я. «Это мы с тобой скоро на своей шкуре узнаем. Ты даже не представляешь, что у него в башке творится», – сказал он, повернулся и не спеша направился к дому. Отец выпрямился, посмотрел на меня, утер пот со лба, спрыгнул в канаву и опять принялся сноровисто кидать землю. Отец частенько совершал странные поступки, но никогда пальцем меня не тронул, и не только меня, Хуго тоже, по крайней мере я про такое не слыхал. И пьяницей он не был. Кряжистый, молчаливый, он говорил все, что думал, – кому угодно и когда угодно. Мог целый час простоять не шевелясь, глядя на гребни холмов, мог уйти и вернуться лишь поздно вечером, не сказав ни слова о том, куда собирается или где был. Суровый, неподкупно-честный, он тем не менее стал для Хуго сущим исчадием ада. Помню, еще подростком Хуго однажды пришпилил к стенке в своей комнате десяток-полтора рисунков – сплошь голые женщины. Дверь он оставил открытой, чтобы отец увидел. Так и вышло. Мы долго гоняли в футбол, потом двинули домой и уже с порога заметили отца: он стоял в дверях, смотрел на эти рисунки. Хуго вздохнул поглубже и направился к нему. Отец глянул на него сверху вниз, посторонился, пропустил в комнату. И, не говоря ни слова, зашагал прочь. Хуго замер как вкопанный, устремив взгляд на рисунки. Он чуть не плакал, глотал слезы и судорожно двигал челюстью, лицо побагровело. Что его так разозлило? Что он – сын, а отец – отец? Или тут другое? А ведь у Хуго был талант, которым я не обладал. Он умел рисовать. В те годы вся его комната была завалена рисовальной бумагой. Люди, животные – точь-в-точь как живые, того гляди, сойдут с листа. И рисовал он непрерывно, правда, другим свои работы никогда почти не показывал. Школьный учитель норвежского видел кой-какие и пришел в такой восторг, что специально заехал в Йёрстад поговорить с родителями: не послать ли Хуго в художественное училище. Но не тут-то было. Едва Хуго смекнул, куда клонит учитель, как сразу же взъерепенился и сбежал в крепость. А через несколько месяцев, на каникулах, порвал все рисунки, изломал карандаши и кисти, искромсал бумагу. Никто не пытался его остановить. Отец даже бровью не повел, хотя и против рисования тоже не возражал. И все-таки в итоге Хуго ходил туча тучей и брюзжал, словно именно мы принудили его бросить рисование и живопись.
Вел он себя тогда вообще странновато. Раздобыл в школе скакалку, сделал петлю, накинул себе на шею и повесился на пожарной лестнице. Так бы, наверно, и задохнулся, не наткнись на него кто-то из учителей. Потом он начал воровать в магазине, мало того, завел тетрадь, куда аккуратно заносил все украденное, с указанием стоимости. Отец нашел эту тетрадь, и грянул скандал. Вести учет собственных краж – как это похоже на Хуго! После становилось все хуже и хуже, я не мог взять в толк почему, но догадывался, по какой причине он в то утро метался по дому как психованный и почему так орал, когда отец остановил его – просто схватил за плечи, не говоря ни слова. Я сидел у двери в гостиную и слышал, как отец что-то тихо говорит, но разобрать ничего не мог. Время от времени доносились громкие всхлипы, один раз Хуго что-то выкрикнул, а позже в тот день он задавил отца.
Мать громыхала кастрюлями и сковородками, поставила воду. Я смотрел на ее спину, на руки, мелькавшие среди посуды, на забранные в пучок тусклые седоватые волосы. Она помешала в кастрюле, подняла ложку, постучала ею по краю, сунула в большую кружку. Потом обернулась. Глаза у нее блестели.
– Что случилось? – спросил я.
– Ничего.
– Ну да! Выкладывай.
– Стейн Уве заезжал.
– Что ему тут приспичило?
– Прогноз мне показывал. Вода, дескать, через день-другой может затопить усадьбу. Он говорил, что на выходные нам лучше уехать из Йёрстада.
– И всё?
– Да, а что?
Я поглядел на свои руки, на тыльной стороне жгутами проступали вены. Снял куртку, сел.
– Ты, мама, живешь тут с четырех лет. Вода поднимается каждый год, иной раз до самой дороги, но дорогу никогда не заливает. Зачем нервничать из-за прогноза, который составили в Управлении водного хозяйства, за сто километров отсюда? Ты разве не знаешь, как ведет себя Квенна?
Она сняла с огня кастрюлю с картошкой, выключила конфорку.
– А как же все-таки с прогнозом?
– Они предупреждают на всякий пожарный случай: ежели что, с них и взятки гладки. Каждый год одно и то же. Чтоб никто не обвинил их в нерадивости и безответственности, – сказал я и пошел на улицу.
Во дворе у дровяных козел стоял Юнни. Положив щуку на козлы, пытался отпилить ей башку. Дело у него отнюдь не спорилось. Я спустился с крыльца. Юнни поднял голову, опять взялся за пилу, но безуспешно. Он стиснул зубы – пила не слушалась.
Я сходил за топором и одним ударом снес щуке башку. Юнни поднял ее с кучи опилок.
– Червяков не было? – спросил я.
Он помотал головой. Потом показал на машинный сарай, предлагая мне приколотить щучью башку к стене, разделать рыбину и приготовить биточки. Принес молоток и гвозди. На стене сарая красовались высохшие серые форели, их еще отец там повесил; под ними я и прибил щучью голову. Жуткая харя. Юнни подтолкнул меня локтем, кивнув на нее.


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





