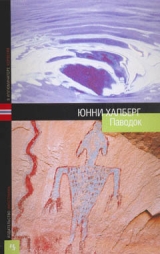
Текст книги "Паводок"
Автор книги: Юнни Халберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Да, так и будет висеть тут до скончания веков, – сказал я, глядя на щучью харю. Потом отнес молоток в сарай.
Юнни подхватил обезглавленную рыбину и зашагал в дом. Я жестом указал на гараж:
– Съезжу в город – за сливками, чесноком, петрушкой и зеленью!
В Мелхусе я закупил все необходимое и зашел в паб. Мортен вешал на стене над кассой неоновую рекламу «будвейзера», поправил ее и сказал:
– Красиво, да?
– Класс! – согласился я, прихлебывая пиво.
За окном лил дождь. Темнотища, прямо как в унылый зимний день. Мортен сел на табурет за стойкой.
– Сив вчера заходила.
– Ну и что?
– Два раза про тебя спрашивала.
– Одна приходила или с кем-то?
– Одна. Никак намечается что?
– Да нет. Что ты имеешь в виду?
– Ну, может, заварушка со Стейном Уве.
– А Стейн Уве при чем?
– Вдруг он узнал?
– Не иначе как от тебя.
Мортен нацедил себе пол-литра пивка. Иногда он выпивает на работе. Но не тайком, в открытую. Его неоднократно ловили на нарушении правил торговли спиртными напитками, и каждый раз ему приходилось на целый месяц закрывать лавочку. Однако ж, хотя в этой паршивой дыре собиралась вся мелхусская шваль, муниципалитет не делал поползновений прикрыть ее насовсем. Дело в том, что Мортен держал четыре игральных автомата – вон они лязгают и громыхают в глубине зала. Как ни крути, властям на руку, что наркоманов и алкашей тянет к этим автоматам будто магнитом. Тощие обкуренные типы из Эневарга, кривоногие телки из Алвхейма, «бесправные» шоферюги из Юна – все скопом пополняли культурный бюджет города. Здешняя разношерстная клиентура, по сути, и отстегивала львиную долю деньжат на мелхусскую культурную жизнь. Ведь Мортен ежегодно выкладывал большие тыщи за разрешение держать в пабе автоматы. Стало быть, пятерки из карманов Кари, Йёрна Уве и Ханса Петтера перекочевывали прямиком в культурную кассу, обеспечивая четырнадцатилетним подросткам возможность играть в хоккей, а любительскому театру – средства на очередную никудышную постановку «Волшебного клада» летом в Хёугволле. Вот таким манером в Мелхусе делают дела. Собирают голодранцев в одном месте, что, кстати, на руку и полицейскому, которому положено держать скандалистов под надзором.
– Нацеди еще пивка, – сказал я, подвигая Мортену свою кружку.
Он взялся за насос, нацедил еще пол-литра. Над дверью звякнул колокольчик.
– Господи, только не это! – тихо пробормотал Мортен.
Я повернулся вместе с табуретом и прямо перед собой увидел испещренную красными жилками физиономию Терье Трёгстада. Он кивнул кому-то из мужиков, шагнул к стойке и отсчитал несколько монет.
– Плесни-ка мне кофейку, большую чашку, – сказал Терье.
Мортен налил. Терье взял чашку, пригубил.
– Пей пиво, пока можешь, завтра будет поздно, – сказал он мне.
Я поставил кружку, вытащил сигареты.
– Я пью в любое время.
От Терье несло затхлым конторским потом. На указательном пальце у него блестел золотой перстень, якобы купленный на Страстном пути в Иерусалиме.
– Нынче утром я кое-что слыхал, – обратился я к Мортену.
Он поднял взгляд и тихо сказал:
– Пей свое пиво, ладно?
– Группа-то Трёгстадова обанкротилась. Долгов у них, говорят, немеряно.
– Не заводись, – буркнул Мортен.
– А тут вдруг фургон ихний угоняют, со всеми прибамбасами, – упорно продолжал я, оборачиваясь к Терье.
Он выпучил на меня свои рыбьи зенки, раздул волосатые ноздри.
– Разве не странно? – спросил я.
– Кто это сказал? – выдавил Терье.
– Фургон угнали часиков этак в одиннадцать, правда-правда.
– Кто это сказал?
– Тут, кажись, эхо бродит?
Терье вздрогнул и еще сильней набычился. Поставил чашку на стойку, поднял руку и толстым пальцем ткнул мне в физиономию.
– Возьми свои слова обратно.
Я отвел его руку.
– И тем самым долги погашены…
– Возьми свои слова обратно, – выдохнул он.
Я ждал, что он перейдет к действиям, хотя принимал в расчет и другой вариант: ожидания могут пойти прахом. Небось видал его на праздниках в клубе. Он стоял на сцене со своим контрабасом и страдальчески морщился, когда за рифленой стенкой слышался шум драки. Не одобрял он мордобой.
– Ну, берегись, – прошипел Терье, опять занес руку и громко выкрикнул: – Берегись! И за родней своей присмотри!
– Пятерню убери, – сказал я.
– К примеру, за сестрицей! – гаркнул он.
– Всё, Терье, кончай! – прикрикнул Мортен.
Я резко оттолкнул Трёгстадову руку.
– Ты Нину не трожь!
– Не трожь?! – Он помахал пальцем. – Да она сама ко мне липла. Знаешь, между прочим, кой-кому уже впору от нее шарахаться, никакого житья нету. А ты и не знал, да?
Я замер, глядя на рекламу «будвейзера».
– Роберт, – тихо предостерег Мортен.
Что было дальше, я толком не помню. Очухался возле уборной. Трое подвыпивших мужиков, прижав меня к стенке, орали наперебой:
– Хватит, Роберт! Хорош! Он свое получил! Кончай!
Краем глаза я углядел, что Терье, прикрыв рукой рот, сидит на полу возле перевернутого стола, среди битого стекла и окурков.
– Уймись! Хватит с него!
Терье кое-как встал на ноги, оперся о колонну, покачнулся и несколько раз моргнул. Недоуменно посмотрел на меня. Избил я его, впервые за долгое время избил кого-то за дело – и ничегошеньки не помню. Я поднял руки: дескать, сдаюсь.
Коре, Алф и Эудун ослабили хватку.
– Нельзя этак-то, – сказал Коре.
– Он ведь замухрышка, хиляк, – заметил Алф.
– А ты чересчур уж расходился, – добавил Эудун.
Терье вякнул что-то про полицию, шаткой походкой побрел к выходу. Мортен посоветовал ему не садиться за руль, а взять такси, но он, не отвечая, уковылял за дверь и потащился к стоянке. Мортен велел Коре, Алфу и Эудуну прибрать в зале и вымыть полы, а сам подошел ко мне.
– По-моему, ты сломал Терье челюсть.
– Жаль, что черепушку не проломил, – сказал я, хотя на самом деле ничего такого не думал. Видок у Терье был и впрямь фиговый, когда он отвалил из паба. Как бы мне хотелось верить в собственную правоту!
– Про что он толковал?
– Да выдумал он все.
– Нет, не выдумал. Кому это от Нины житья нету?
Мортен проворчал, чтобы я убирался отсюда, пока за мной не пришли.
– Кому от нее нету житья? – Я дал ему тычка.
– Понятия не имею. Мало ли что он напридумывал! – Мортен отпихнул меня к остальным.
Алф успел принести ведро и тряпку, и все трое стояли в ожидании. Я подошел к ним. Они принялись мыть пол и подбирать осколки. Я смотрел на них, а та мысль все вертелась в голове.
Коре поднял голову. Довольный, как паровоз, – развлеклись-то будь здоров!
– Так и будешь торчать тут столбом?
Я вышел на улицу. Рванул к поликлинике, к травмопункту, стал у входа и заглянул в стеклянную дверь. В приемной сидел Терье, раскачиваясь из стороны в сторону. Перед ним на корточках пристроился врач, ощупывал его челюсти. Терье заметил меня, показал рукой на дверь, что-то крикнул, схватился за подбородок и обмяк.
Дверь была заперта. Я сел на ступеньки. Вообще-то я и не думал искать неприятностей, так выходило само собой, неприятности будто сами ко мне липли. На ручку дверную нажать не могу – наверняка потребуют возместить убыток. Вот и теперь, вряд ли я очень ошибусь, если скажу, что Терье на меня заявит, а значит, будет суд, и дело кончится тем, что мне придется оплачивать баснословные счета челюстных хирургов и стоматологов, а чего доброго, еще и штраф. Деньги-то откуда взять? От усадьбы доходов кот наплакал, у матери и Юнни хотя бы есть страховка, а Нина по выходным моет полы в начальной школе.
Неожиданно я заметил мать и Юнни. Они стояли наверху, возле каменной ограды. Я помахал им рукой, и они стали спускаться вниз. Юнни отворил калитку. Мать подошла ко мне, скрестила руки на груди.
– Приезжали за тобой, – сообщила она.
– Кто был в машине?
– Туве Бакке да Ролф.
– Вы потому и рванули в лес?
– Ничего мы не рванули. Юнни кого-то углядел наверху, возле ограды. Мы и пошли туда.
– С какой стати там кому-то торчать?
– Почем я знаю. Он сказал, что углядел кого-то.
– А чего они за мной приезжали?
– Собаку Трёгстадову нашли. Удавил ее кто-то.
– Сучку его? Сеттера? Удавили?
– Струной от пианино.
Минуту-другую я молчал.
– А у нас пианино в сенном сарае, – пробормотала она.
– Сам знаю. Ну и что?
Она смотрела на меня с мягким сочувствием. Терпеть не могу этот ее взгляд.
– Пожалуй, надо нам вместе сходить в сарай и проверить, все ли струны на месте в этом треклятом пианино.
– Зачем? – быстро сказала мамаша. – Я тебе верю.
– Нет уж, пойдем проверим!
Она отпрянула, словно я кулаком на нее замахнулся.
– В чем дело?
– Ни в чем, – прошептала она.
– У меня и в мыслях нет драться, – сказал я.
Она снова отпрянула, даже глаза зажмурила.
– Не надо так! – воскликнул я.
Мать опрометью бросилась к курятнику – она всегда спасалась в курятнике, если попадала в затруднительное положение.
Отперев дверь, я прошел на кухню, достал щучье филе, порезал на куски. Не мог я взять в толк, кому понадобилось красть собаку да еще и душить ее. И если уж хотели подставить меня, то почему выбрали струну от пианино? Никто ведь не знал, что у нас в сарае стоит старое пианино. Впору поверить, что Терье по дурости сам все это устроил, но я-то знал, как он любит своих собак.
Я сложил кусочки филе в кухонный комбайн, полил сливками, добавил кукурузной муки, чуток оливкового масла, мелко порубленной петрушки и кориандра, рыбного бульона, имбиря и чесноку. Несколько лет я поставлял биточки Ларсу Гундерсену из Рыбного центра, пока не выяснилось, что он мухлюет с расчетами, и лавочку не прикрыли.
– Ты испугался, когда они явились? – спросил я, выключив комбайн.
Юнни помотал головой. Я повторил вопрос. Он кивнул.
– Ну и зря. Это пустяки. Они просто хотели задать мне пару вопросов. Никуда я не денусь.
Вооружившись ложкой, я начал формовать биточки. Все-таки готовка здорово помогает. Я выложил первый биточек на сковороду. Он зашипел, по кухне разнесся аппетитный запах. Мамаша наверняка стояла в коридоре. Я не слышал ни ее дыхания, ни шороха движений, но точно знал: она там.
В этот вечер я и увидал возле крепости какого-то человека. Он стоял на опушке леса, причем не с пустыми руками. Уже смеркалось. Едва я подошел кокну, он встрепенулся, прошагал вдоль каменной ограды к лесу и исчез за деревьями. У меня не было уверенности, что это мужчина, просто чутье подсказывало. Я оглянулся. Мамаша с Юнни смотрели по телику сериал о крупнейших цунами нашего столетия.
– Пойду прогуляюсь, – сказал я и вышел, прихватив с собой карманный фонарик.
На улице по-прежнему было тепло и сыро. Несколько часов уже такая духотища, что разрядить ее могла бы разве только свирепая гроза. Я поднялся по склону к каменной ограде и двинул вдоль ограды дальше, к крепости. На траве за оградой валялись обертки от шоколада, несколько бумажных стаканов от макдоналдсовской кока-колы и пустая упаковка из-под таблеток от головной боли. Я присел на корточки, подобрал обертки от шоколада. Так-так, стало быть, тут сидел какой-то сладкоежка, у которого болела голова, лопал шоколад и пялился на нас. Я глянул вниз, на дом. Гостиная видна как на ладони, мамаша с Юнни по-прежнему смотрят телик. Ну скажите на милость, зачем в окна-то пялиться? Ничего интересного там не увидишь. Мамаша, Нина, Юнни да я сам – бродим по дому, ссоримся, в картишки играем. Недруги у меня, понятное дело, есть, только вряд ли кто из них станет подглядывать. Я подобрал стаканы и упаковку от таблеток, направился к дому. С другой стороны, может, всё из-за Нины? Может, это какой-нибудь ухажер, которого она отшила. Или которого она вообще не знает. Или обиженный на нее. Или робеющий с ней заговорить.
У моста, на той стороне протоки, в вечерних сумерках стоял Тросет со своей мерной рейкой. Опять проверяет уровень воды. От его долговязой сутулой фигуры, тычущей рейкой в воду, веяло печалью, на ней словно лежала печать однообразной и никчемной жизни, которая близится к концу. Я поднялся на насыпь и окликнул:
– Тросет!
Он выпрямился, посмотрел на меня. Я помахал рукой и крикнул:
– Духотища!
Он взял ведерко с краской, извлек из пластикового пакета кисточку, окунул в ведерко. Темнело, Тросет тонул в сумраке, превращаясь в черный силуэт на фоне горы. А я думал о его жене и о том, как пусто, наверно, стало в его доме, когда она слегла и тихо угасала, словно уже от всего отрешилась. Под конец она была сущий скелет, вся в пролежнях и не говорила ни слова. Да и сам Тросет не больно-то много говорил. Я видел его черный силуэт на фоне чуть более светлой горы, видел, как под ровный плеск реки он шмыгнул через мост, спустился к дому, поставил ведерко и пакет с кисточкой на крыльцо, взглянул на яблоневый садик. Потом вдруг поднял ногу и с силой топнул по ступеньке. Резкий звук эхом прокатился меж холмов. Тросет открыл дверь и исчез в доме. Временами он этак вот чудил. Как-то ранним утром я вышел на лужайку, смотрю, а он пляшет на горе возле моста. Правда-правда. Пляшет без всякой музыки, в утренней тишине, один, грузно и неуклюже, ни дать ни взять цирковой слон. Топоча сапожищами и лихо размахивая руками. Страшно смотреть, ведь запросто может споткнуться, упасть и сломать ногу. Впрочем, все обошлось. Он вдруг оборвал пляску, словно кто выдернул из него штепсель, и ушел в дом.
Я снял ботинки и заглянул в комнату. Юнни лег спать. Мамаша смотрела телик.
– Пойду лягу, – сказал я.
– Больше ничего не стряслось?
– А что могло стрястись-то?
– Почем я знаю?
Я сходил в уборную, спустил воду.
– Роберт! – окликнула она из комнаты.
– Чего? – отозвался я.
– Я тебе худого не желаю. Так и знай. Ты всегда был добрым мальчиком.
В верхнем коридоре я задержался возле чулана, открыл дверь, запустил руку за коробки с гвоздями, где припрятал бутылочку медицинского спирта, полученную от Стефана. Доставал я ее, только когда совсем уж припрет. И сейчас был аккурат такой случай. Я хватил один глоток, потом еще один. И еще. И еще. И еще, маленький. Потом еще один и еще. Бутылка опустела. В желудке жгло, но слабовато.
Я включил радио. Меня бросило в пот, перед глазами маячили батареи пивных бутылок, холодных, запотевших. Каким резким шипом они отзывались на откупоривание! Поднести горлышко ко рту и впервые за долгую трезвую неделю почувствовать вкус пива. Обалденно приятный вкус холодного пива после целой недели трезвости. Для начала спокойненько высосать половину, крякнуть, глянуть на бутылку в руке, ощутить, как к горлу подступает отрыжка, и подумать, что вообще-то незачем пить после этого единственного глотка.
Неожиданно мне вспомнилась история, случившаяся несколько лет назад. Я тогда отыскал Юнни в лесу, с самострелом в руках. На тропинке перед ним сидела большущая жаба, а в спине у нее торчали три стальные скобки. Я напрочь забыл, что он стрелял в эту жабу, мучил ее. А теперь воочию видел его невинное лицо и глаза, устремленные на тропинку. Видел, как перед моим приходом он поднял самострел, прицелился, спустил пружину и обнаружил, что скобка вошла в жабью спину. Видел, как жаба дернулась, дрыгнула лапами и скакнула дальше. Юнни двинулся за ней, достал новую скобку, зарядил самострел, пальнул еще раз. Невинное мальчишечье лицо глядело на очередную скобку в жабьей спине.
Я лег, закрыл глаза, заворочался. В голову так и лезут самые неподходящие мысли. Я закутался в одеяло. Без толку. Включил лампу и, как всегда в бессонные ночи, уставился в стену, на узор обоев. Пока я так лежал, снизу донеслись шаги. Нина вернулась, сняла куртку, поднялась наверх. Мне было слышно, как она умывается, чистит зубы и идет к себе. Я закрыл глаза. Где-то далеко звучали шаги матери: она тоже пошла к себе. Я парил в темноте и в конце концов отключился.
Проснулся я оттого, что меня окликнули по имени. Нина. Стоит в дверях.
– Чего тебе?
– Не спится, – сказала она.
– Почему?
– Душно очень. А тебе нет?
– Я спал.
Мы помолчали. Я и не думал о том, что она без бюстгальтера. Груди у нее большие, но сестра есть сестра.
– Хорошо тебе – спать можешь.
– Ага, нынче мне повезло, – согласился я.
Она потерла шрам на губе, отвела с глаз прядку волос.
– Я усну, если пустишь меня к себе.
– Ты что, в постель ко мне хочешь?
Она подошла, присела на край кровати.
– Ну да, как раньше.
– Мало ли что было раньше. Дело прошлое.
– Что – прошлое?
Я смотрел на щелочку между ее передними зубами. Симпатичная такая щелочка. Очень ей к лицу и вовсе ее не портит, как пятнышки не портят кошку.
– Сама знаешь.
– Нет, не знаю, – с невинным видом отозвалась она, но глаза смотрели кокетливо.
Я попросил ее уйти. Она неожиданно бодро встала и пошла к двери. Я передумал, остановил ее. Не надо было этого делать, но я сказал, что она может ненадолго прилечь. Она вернулась, юркнула под одеяло, спиной прижалась ко мне.
Теплая и пахнет так хорошо. Она оглянулась через плечо и тихо проговорила:
– От тебя пивом несет.
Я вытянул руки по швам, чувствуя спиной прохладную стену.
– Если хочешь знать, ты что-то совсем поплохел, – деловито сообщила она, взяла мою руку, обняла ею себя, положила ладонью себе на живот. – Чувствуешь, какой холодный?
– Нет. Отпусти руку-то.
– Как насчет погладить маленько? Чтоб согреть. – Она Принялась водить моей ладонью по кругу.
Я резко высвободил руку.
– Давай спать, а?
Она было закинула на меня ногу. Я отодвинул ее на край кровати.
– Тебе не нравится? Что-то не так? – спросила она.
– Спокойной ночи! – Я повернулся к ней спиной. Услышал, как она села, оперлась на ладони, наверняка уставилась в одну точку. Я зажмурил глаза, стараясь дышать ровно. Она встала с кровати, тихонько прошла к двери, открыла ее и исчезла. Все смолкло. Я расслабился, перестал жмуриться, задышал свободно.
Немного погодя в коридоре опять послышались осторожные Нинины шаги. Она прошмыгнула в комнату. На сей раз на ней была ночнушка, которой я раньше никогда не видел и которая больше смахивала на распашонку. Розовая, полупрозрачная, с мелкими красными розочками на груди. Нина опять кокетливо глянула на меня.
– Смотри, что я вчера купила.
На меня вновь пахнуло ее запахом. Он изменился, стал более сладким и зрелым.
– Повернись ко мне, – шепнула она и, подойдя к кровати, кончиками пальцев слегка потеребила меня за плечо. – Я больше тебе не нравлюсь?
Я обернулся и в полумраке увидел ее длинные ноги и задравшуюся рубашонку.
– Выходит, я для тебя недостаточно хороша? – Она наклонилась ко мне.
Я оттолкнул ее, послал к черту.
Она ушла, хлопнув дверью. Я прошелся по комнате, рухнул в кресло. Теперь она меня возненавидит. Ну и хорошо. Глядишь, полегче станет. Откинувшись на спинку кресла, я незаметно уснул. А ближе к утру подскочил как встрепанный – гром, что ли, бабахнул. Пошатываясь, добрел до кровати, лег на живот, перевернулся на спину и опять услыхал грохот.
Затарахтел будильник – я со стоном хлопнул по звонку, ощупью поискал стакан с водой и таблетки от головной боли, нашел, бросил в рот две штуки, запил тепловатой водой, открыл глаза и увидел в щелке между гардинами голубое небо. Солнечный луч падал в комнату, на истоптанные половицы. Я приподнялся на локтях. Полшестого, все еще спали. Мне снилось что-то про Сив, про тот первый раз, когда мы были вместе. Когда Стейн Уве выгнал ее, она переехала к подруге, медсестре из областной больницы. Вот там-то, на большом празднике, все и случилось. Я вдруг осознал, какая она хорошенькая. Впрочем, «хорошенькая» – не то слово. Красавица, да и только. После разрыва со Стейном Уве у нее в лице и в глазах появилось совершенно новое выражение. Я глаз с нее не сводил. А когда она посмотрела на меня, тотчас смутился. Вообще-то я думал, говорить с женщинами вовсе не трудно. Но неожиданно оказалось почти немыслимо не то что заговорить – пройти из одного конца зала в другой. Что я ей скажу? Ну как брякну что-нибудь невпопад? Что она тогда сделает? Улыбнется?.. Я встал с кровати, пошел в уборную. Сив почти на десять лет старше меня. Всем известно, что она веревки вьет из мужиков и что характер у нее – порох, кого угодно заклюет. Однажды, лет семь назад, она сцепилась на пикнике с двумя бабенками, которые решили, что она отбивает у них мужей. Все это говорило о том, что лучше оставить ее в покое. Но что-то в ее лице, в глазах притягивало меня, как магнит. Она словно бы знала нечто такое, о чем мне тоже хотелось узнать… Я стоял в уборной, взвешивая «за» и «против», как старая хрычовка, и тут дверь распахнулась. Вошла Сив. Заперла дверь и стала прямо передо мной.
С тех пор минуло четыре месяца. Я все отчетливей понимал, что кончится эта история хреново. Но не мог не думать о ней, всегда, каждую минуту.
Я достал из шкафа одежду. Не знаю, что я скажу, но мне просто необходимо ее увидеть.
Надев чистую полотняную рубашку, я раздвинул гардины и заметил, что снаружи царит тишина. Полная тишина. Утро солнечное, а птиц почему-то не слышно. Я прищурился от яркого солнца, подождал, пока глаза привыкнут к свету, и увидел, что береза на лужайке завалилась набок. В нескольких метрах от земли ствол надломился, рухнул на телефонные провода и сорвал их. Я подумал, что ночью, как видно, бушевало жуткое ненастье, спустился вниз и вышел поглядеть на дерево и на провода – кругом по-прежнему глухая тишина. Тут-то я и заметил: моста как не бывало. Лишь на том берегу виднелись остатки опоры. Я пересек двор и бросил взгляд на Тросетов дом: он сиротливо стоял на крохотном островке посреди воды. Глянув на Квенну, я бегом помчался к калитке. Река разлилась по долине и теперь больше походила на фьорд. Ниже по течению, возле Хисты, где река образовывала излучину, стоял один из домов Веума – они звали его «прибрежным», – и сейчас вода поднялась до самых его окон. Вассхёуг я отсюда не видел, но на бычьем выгоне к северу от усадьбы плавало за огорожей что-то белое – ванна, из которой обыкновенно пили молодые бычки. Выйдя за калитку, я увидел мамашу. Она сидела у реки, под сосной. Я спустился к берегу, стал у нее за спиной. Она сидела, сложив руки на коленях. Слышала, как я подошел, но не обернулась. Она была в брюках, на голове – зеленый нейлоновый платок.
– Мост снесло, – сказала мамаша.
Я ответил, что уже видел, и поднялся на дорогу. Вот что я слышал сквозь сон. Не раскаты грома, а оглушительный грохот мостовых опор, которые не устояли под натиском стремнины и рухнули в грязно-желтый поток. Примерно треть моста была разбита вдребезги, и выброшенные водой обломки устилали шоссе чуть ниже по течению бешеной желтой реки. Я опять глянул на домишко Тросета. Вода затопила и дорогу, и его усадьбу, кольцом обтекала невысокую насыпь. Домишко стоял на ней словно этакий печальный памятник одиночеству и душевному износу. Яблони в воде. Дровяной сарай исчез.
– Надо вызволять Тросета! – крикнул я.
– Да он небось уехал, – отозвалась мамаша.
Я вернулся к ней. Как завороженная, она глядела на тот берег, на скалу, высматривала белую метку, которую Расмус сделал еще в пятидесятые годы, после высокого паводка. Квенна никогда и близко к этой метке не подходила. Но сейчас белая полоска скрылась под водой.
– У нас мало времени, – сказал я и направился к машине. Мать не пошевелилась. Я повернул назад, опять подошел к ней. – Ты слышишь? У нас мало времени.
– Еще немножко, – тихо попросила она.
– Нет.
– Ну, одну минуточку! – Она сидела выпрямившись, высоко подняв голову, устремив большие глаза на иссиня-черную водную гладь, поблескивающую на солнце. Я взял ее под мышки, поставил на ноги.
Дома я разбудил Нину и Юнни, а сам спустился вниз. Мать накрывала в кухне на стол. Вытащила из буфета десертные тарелки, разложила ножи и чайные ложки, расставила стаканы.
– Всмятку или вкрутую? – спросила она.
Я не ответил. Она поставила на стол подставки для яиц, принесла закуски и делала все это против обыкновения спокойно, без суеты.
– Все ценное надо перенести на второй этаж, – сказал я.
– Всмятку или вкрутую? – повторила мамаша.
Вошла Нина, глянула в окно на Квенну, на Брекке.
– Где мост? – спросила она.
– Снесло его ночью, – ответил я.
– Всмятку или вкрутую? – спросила мамаша у Нины.
– Мост снесло? Я не люблю яйца.
– Ну и ладно.
Мамаша порезала помидоры, выложила на тарелку, украсила петрушкой. Налила молока в белый кувшин. И остановилась, глядя на него. Вошел Юнни, прошагал прямиком к столу, сел, взял ломоть хлеба, намазал маслом и посмотрел на нас, ожидая, когда и мы сядем. Мамаша показала на кувшин.
– У моей мамы был такой же. – Она устремила взгляд во двор, на березу, повисшую на телефонных проводах. – Однажды Расмус срубил сухую березу, что стояла за прачечной. Когда береза упала, ствол треснул вдоль. Дупло там было. Ну, они взялись за пилы и топоры и видят: в дупле что-то синеет. Это оказались черепки от маминого молочного кувшина, который в один прекрасный день куда-то пропал. Мама решила, что кто-то из нас, детей, разбил его, а черепки выбросил, чтоб не получить взбучку, только она ошибалась, ведь кувшин лежал в дупле. Как он туда попал – ума не приложу. Однако ж черепки нашлись именно там. Мама их собрала и склеила. – Она налила нам молока. – Интересно, куда подевался тот кувшин? Может, на чердаке лежит? – Секунду она смотрела в пространство, потом стала опять разливать молоко.
– Мам, собираться надо, – сказал я.
– Садитесь-ка лучше, – сказала она.
Нина села за стол.
– Нина, я же сказал: нам пора уезжать отсюда.
Она метнула на меня сердитый взгляд. Мать села и замурлыкала какой-то мотивчик, будто радовалась завтраку на солнечной кухне. Будто и не слыхала, что я говорил. Пускай река хлынет во двор, адом сойдет с фундамента и унесется прочь, как фермерский домик из «Волшебника Страны Оз», – мамаша моя все равно будет напевать «Ни разу море не сверкало так».
Я притащил из подвала большое цинковое ведро, шваркнул его на стол.
– Подъем!
Они встали. Мать взглянула на меня. Она прекрасно понимала, что будет. Нина с Юнни отошли в угол, к двери Юнниной комнаты. Я сгреб тарелки с яйцами, помидорами и петрушкой, отправил все это в ведро. Побросал туда же порезанный хлеб, масло, печеночный паштет, сыры, банку сардин, земляничный джем, кофейные чашки, молочные стаканы, подставки для яиц, пакеты с молоком, огурцы и помидоры, поставил ведро на пол, умял содержимое, чтоб выкроить место, и смахнул туда со стола все остальное. По полу текло молоко, разлетались куски еды и осколки тарелок и стаканов. Я еще раз нажал сверху ногой – треск, звон стекла, осколки. Потом сунул ведро мамаше.
– Вот тебе завтрак. Закусишь в машине.
Она взяла ведро, но не удержала, оно грохнулось на пол.
– В нашем распоряжении час, – сказал я. – Через час все должны быть готовы к отъезду. Соберите все, что понадобится на одну-две недели.
Юнни присвистнул.
– Поедем в Мелхус, – пояснил я.
Юнни опять присвистнул.
– Боишься? – спросил я.
Он засвистел еще громче.
– Значит, радуешься?
Он помотал головой и знаками спросил, где мы будем жить.
– Устроимся где-нибудь.
Юнни опять помотал головой и знаками сказал: «Никто нас к себе не пустит».
– Что он говорит? – спросила мамаша.
– Интересуется, где мы будем жить.
– В «Бельвю», – ответила она и пошла к телефону. Поднесла трубку к уху, удивленно посмотрела на меня. – Не работает.
Я пошел на скотный двор.
Скотина может пастись на верхнем участке. Коровы, понятно, останутся недоены, но забрать их с собой в Хёугер невозможно. Я выпустил кур на лужайку, а коров и телят погнал в гору, к крепости. Огромные черные тучи наплывали с севера на долину. Скоро хлынет дождь.
Мамаша снимала с сушилки белье, причитая:
– Мы лишимся всего, что имеем. Всего, что нажили.
– Нет, Йёрстад наверняка выдержит паводок.
– А после? Когда вода спадет? Что тогда?
– Вернемся и все отстроим.
– Отстроим? На какие шиши? Деньги из воздуха не возьмешь!
– На страховку.
Она тревожно взглянула на меня.
Я греб по затопленному участку, возле первых водоворотов повернул лодку и, отчаянно налегая на весла, направил ее к саду. Вот и яблони – подплывая к крыльцу, я заметил, что киль цепляет за траву. Выпрыгнул на ступеньки, зачалил лодку за перила. У Тросета в доме я не бывал с той осени, когда он упал с лестницы и здорово расшибся, но, едва войдя в сени, я сразу узнал запах линолеума, сырой одежды, залежавшейся и оттого заплесневевшей, тяжелый смрад пригоревшего свиного сала, пережаренных котлет и тушеной капусты, въевшийся в стены. В комнате все та же мебель, что и в семидесятые годы. На полу три высоченные стопки мелхусского «Курьера». Я знал, что Тросет обожает новостные программы. Окна его светились голубым с пяти вечера и до окончания передач НГРТ[5]5
Норвежское государственное радиовещание и телевидение.
[Закрыть]. Много раз я видел, как он сидит и смотрит репортажи о молодежной преступности, о покушениях на черных президентов, о поножовщине в Алжире, о пассажирских самолетах, которые взрывались и падали на жилые кварталы. Вся на свете мерзость и злоба не где-нибудь, но в комнате этого человека, который никогда не умел общаться с людьми. Вечер за вечером Тросет сидел в ушастом кресле и глазел на экран, тяжело, со скрипом ворочая мозгами. Взгляд переключался с националистов на антирасистов восточной ословской окраины. Произвол в трехстах километрах отсюда. Однако ж совсем рядом.
Я поднялся на второй этаж, глядя на поблекшие семейные фотографии, развешанные по стене. Тросет в лесу со своим отцом. На стадионе, с копьем в руках. Братья, которые шпыняли его, будто кутенка. Тросет с женой. Я почти забыл, как она выглядела, помнил только, что была она какая-то бесцветная, унылая. Сейчас, на лестнице, мне вдруг подумалось, как это иные женщины умудряются растерять всю свою особинку. Йенни или Марит куда-то исчезают, вместо этого появляется безликое серое существо, измученное заботами и разочарованиями. Вот такой была и жена Тросета. Взойдя по лестнице, я заглянул в первую комнату – никого, лишь диван да транзисторный приемник. В конце коридора виднелась приоткрытая дверь. Я постучал, глянул внутрь. Он сидел за столом, спиной ко мне, и смотрел в окно. Вокруг высились горы журналов и газет. Наверняка не одна тыща номеров. «Актуэл», «Норшк укеблад», «Де бесте», «Фамильен», «Криминалшурнал», «Форбрукер-раппортен», «Бил ог мотор», «Аллерш», «Факта» – великое множество газет и журналов, памятных мне с семидесятых и восьмидесятых годов. И среди этих пыльных гор, среди портретов Харалда Тюсберга, Йона Эйкему, Андерса Ланге, Норы Брукстедт, королевы Сони и Турид Эверсвеен сидел Тросет, повесив голову, как потерпевший кораблекрушение мореход на сиротливом островке из выцветшей бумаги.
Он повернул голову, посмотрел на меня.
– Чего тебе надо?
– Ты на реку глядел?
– Я ничего не сделал, – пробормотал он.
– А разве я сказал, будто ты что-то сделал?
Тут запах был сухой. Наверно, так пахнет всё, что за долгие годы стерлось из памяти. То, чем люди когда-то занимались, но уже запамятовали или перестали интересоваться.


![Книга Подвиг 1974 № 02 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Ледовая свадьба • Паводок • Восемь часов полета • Хроника Видлицкой коммуны] автора Эдуард Хруцкий](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1974-02-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-ledovaya-svadba-pavodok-vosem-chasov-poleta-hronika-vidlickoy-kommuny-250270.jpg)





