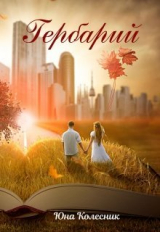
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Хорошая девушка Милка ловит меня без предупреждения на следующий день, когда в обед я выхожу из отдела за минералкой. Голова моя гудит, от сигареты делается только хуже. А Милка подбегает, глазенки горят, голос звонкий:
– Илья Петрович! Вы же помните, как вызывали меня год назад? Я наврала вам тогда, а вы поверили.
– То есть ты реально думаешь, что я такой болван?
– Э… нет. Ладно. У меня идея есть! Я ведь могу сказать, что Артём никуда не поехал, а остался у меня.
Вдруг вижу, как к нам приближается Чижов. Капюшон, кеды – это в ноябре-то! Дети, какие они, в сущности, ещё дети. Он идёт прямо к нам, на лице жёсткая решимость. Тоже что-то задумал? Как он здесь оказался, шёл за ней? Смотрю на него, сквозь Милку, а сам говорю:
– Новая, свежая мысль. А если серьёзно – выброси из головы, Соколова. Отец его уверен в адвокате, а ты себе проблем наживёшь.
– Каких проблем? Это же неправда. Но как запасной вариант, по-моему, здорово. Смотрите. Я скажу, что в ту ночь Артём был со мной. Мама у меня в отъезде была, а дедушка подтвердит. Он всё расскажет в подробностях – и как ужином нас с Тёмкой кормил, и как постельное бельё новое доставал… А спросят меня, почему молчала, скажу: боялась, что парень мой узнает, ревнивый он, бешеный.
Чижов подходит на половине фразы. Она не слышит его шагов. Он подходит, слушает. Закрывает глаза. А когда распахивает их вновь – там зрачки зверя, животного. Он кладёт руку ей на плечо, резко разворачивает к себе, шипит:
– Вот, значит, как. Отличница, да?
– Не трогай девочку, придурок, – делаю шаг к нему, но не успеваю. Он отшвыривает Милку в сторону.
– Девочку? Да она…
Я не люблю, когда матерятся при женщинах. Я бью его прямым в челюсть. Плавно уходит, но вскользь по скуле я попадаю. Брызжет кровь. От его правого хука, неумелого, слабого, уворачиваюсь и бью таким же, только левым и ниже – в печень.
Милка кричит, Диман и ещё кто-то заламывают мне руки.
Когда с Артёма снимут обвинение, радости не будет. Соколова приведёт ко мне этого парнишку, такого же смуглого, как отец, и он зачем-то станет долго-долго трясти мне руку. Но не будет радости, нет. Почему? Да потому что в Милкиных глазах её тоже не будет.
III
В тот день, через неделю после суда, Милка не пойдёт на лекции. Несколько часов бесцельно прошатается – в библиотеке, в ботсаду, в парке, замёрзнет, проголодается. Купит в ларьке стакан кофе и весёлый розовый пончик. Вот только и усталость и апатия всё равно будут тянуть, заполоняя всю её изнутри, прорастая заплесневелыми пятнами, гадкими, от которых не отмыться. Кофе Милка выпьет, чтобы согреться, а пончик выбросит в урну.
Когда стемнеет и придёт время ехать домой, она чуть было не пропустит телефонный звонок. В трубке спросят, без приветствия и вступления:
– Соколова, ты где сейчас?
– На остановке.
– Конкретней.
– Напротив универа.
– Стой там, никуда не уходи.
Минут через десять напротив неё притормозит чумазый «Логан». Открывается дверь, Илья кивком зовет её в машину. Она садится, долго пристёгивается, потом никак не может устроить на коленях рюкзак. Илья, уже на ходу, не поворачивая головы, забирает его, кидает назад, говорит:
– Ну привет, боец. Настроение как?
– Так себе, – пожимает она плечами.
– Аналогично. Очень торопишься? Если да, то подвезу. Если нет, давай просто по городу?
Милка снова пожимает плечами. И он замолкает, проглатывая свою трусливую многословность, и едет куда глаза глядят. Транспорта немного. Он смотрит на дорогу, она – в окно. Там колонны Оперного театра, старые пафосные дома. Ей физически плохо от вида этих серых, надменных сталинок. «Нарочно он, что ли, повёз меня здесь? Да нет, как он может знать…» Дальше – Кремль, набережная.
Вот и вокзал. Отсюда они уезжали в Сочи, сюда и приехали…
«Он не нарочно», – думает Милка про Илью. «Просто совпало», – Земфира с флешки подпевает. Просто весь этот город, весь, насквозь пропитан взглядами, встречами, словами. В основном несказанными… А может, придуманными, а?
Всё у тебя рушится, Милка. Умер Грэй, преданнее нет существа на свете. Олеськина бабушка умерла, добрая женщина была, наверное… ни в чём не виноватая. Умерла дружба с Олеськой? Как она после суда вскочила, Тёмку обняла… Она тоже верила, что он не мог! Но она понимает, что сама виновата. И понимает, что ты понимаешь. И это как кость в горле и у дружбы вашей, и у их любви. А помнишь, ты мечтала, как две свадьбы в один день? Вот дура. Хотя главное – чтобы у них сложилось… А у вас? Уже нет, не получится. Умерло что-то важное к Никите. Почему он не пошёл с тобой к Илье? Ты же почти кричала ему в лицо:
– Как ты можешь? Он твой друг!
– А что я могу сделать? Ничего. А буду соваться – и меня загребут. И ты не лезь, не твоё это дело.
Как же погано стало после этих слов. И с Ильёй он не стал говорить. А самое страшное – поверил, что она может вот так его обманывать, с Артёмом. Из-за обрывка фразы вон что устроил… «Кто же из нас первый упадёт?» – опять поёт Земфира. Как так вышло? Это получается, что они совсем чужими друг другу стали. Когда это случилось? Почему?
Илья едет прямо, прямо… Поворот направо. Бесконечные бетонные заборы заводов, змеи трамвайных линий. Налево, вдоль речки, площадь, здание с флагом. Бульвар. Озеро, ивы, домики парами…
Он убавляет одновременно и звук, и скорость:
– Красиво.
Милка наконец-то внимательно смотрит на него.
– Я здесь живу вообще-то.
– Да ты что? Вот совпадение! А я и не знал!
– Врёшь ведь, Илья Петрович.
– Ага.
Она кивает, не спрашивая, откуда он знает её адрес и зачем ему это, но чувствуя, что раз так, то можно перейти на ты:
– Вот смотри. Я тут десять лет гуляла с собакой. А теперь не с кем.
И она рассказывает – про Грэя, про дедушку, про остров… О чём угодно говорит, только не о Никите. Илья поворачивает к стадиону, тормозит. Дальше не протолкнуться – выходной, машины в три ряда. Они выходят, смотрят на тёмное небо и тёмную воду, по которой под низенький мостик плывут невесть откуда взявшиеся целые острова из листьев.
Илья хочет сказать ей, что, скорее всего, останется без работы. Но вместо этого говорит про Вику. Сухие слова шуршат, как камыши у берега… Он говорит о том, что уже почти год снимает квартиру. О том, что родители далеко, на Камчатке, а в Питере – сестра. Зачем-то говорит про капающий кран и бесконечные перепалки Голубева с Маркушевой. Милка слушает, кивает невпопад, а на её пальто падает снег и тает, тает, оставляя мокрые следы. Илья курит, смотрит на эти рябые, расплывчатые пятна и говорит:
– Поехали.
Снова кивок.
– Домой?
«Нет», – Милка мотает головой.
И они опять едут молча. Обратно, но другой дорогой. Виадук над букетом рельсов, площадь с нелепыми столбами, мост… Снег, мокрый снег, что липнет на лобовое стекло. «Голос проспекта молчит, нажать бы кнопку и вовсе звук отключить…» Илья думает: «Эмма?.. Хорошая музыка, вот только от неё хочется или выпить, или башку проломить тому, кто… Эх, тоска…»
На светофоре Илья смотрит на её профиль, на опущенные уголки губ. Она шепчет: «Ненавижу. Ненавижу этот город!» Ну уж нет. Так нельзя.
У него мелькает абсолютно шальная мысль, и он уже почти знает, что делать.
Берёт смартфон, набирает эсэмэску Вадиму: «Я согласен». Потом резко перестраивается и уводит машину с проспекта. Там, во дворах, знакомых ему до камушка, до трещин на асфальте – его серая «свечка». А вот здесь, не доезжая фонаря – яма у бордюра, сейчас наполненная грязной водой, слегка припорошенная не успевшим растаять снегом. «Илюха, ты мужик или нет? Ну!»
Он резко тормозит, ловит Милкин недоумевающий взгляд, говорит:
– Слушай, здесь кафешка за углом. Там кофе хороший. Пошли?
Она пожимает плечами, но есть очень хочется, и она решается, тянет рюкзак с заднего сиденья. Щелчок ремня, скрип двери, смачное хлюпанье глубокой лужи и Милкино сдавленное:
– Да блин…
Илья выпрыгивает из машины, обходит капот.
– Паразиты, а? Коммунальщики? Не дороги, а чёрт знает что! – он грозит кулаком куда-то в сторону. – Здорово промокла? Сходили, попили кофейку…
Она уже стоит на тротуаре, беспомощно смотрит на свои грязные ботинки, на джинсы, мокрые почти до середины икры. Он качает головой, стараясь не слишком сильно сокрушаться:
– Слушай, тут до моей берлоги три дома всего. Пошли, батареи огонь, мигом высушим.
Милка кивает. А какие варианты?
И вот она сидит на единственном диване в квадратной комнатке. На коленях у неё одеяло, в руках кружка. Он вносит литровую банку с мёдом, пытаясь на ходу открыть прилипшую крышку. И она вдруг смеётся. Почти истерически – над ним, над собой, над этой чёртовой лужей, в которую провалилась, смеётся сквозь слёзы, поджимая босые холодные пальцы, потому что стесняется залезть на диван с ногами, спрятать их под одеялом.
Илья ставит злосчастную янтарную банку прямо на пол, идёт к окну, отодвигает тоже медово-жёлтую, когда-то блестящую штору и возвращается обратно. Наклоняется и надевает ей огромные шерстяные носки, пятка у которых сразу уезжает куда-то вверх… Колючие носки, серые с синими полосками. Потом, словно не выдержав её взгляда, садится на пол спиной к дивану и говорит очень тихо:
– Милка. А если я уеду…
Выдыхает, ему непросто это произнести:
– В общем, поедешь со мной?
И ей понятно – это из-за неё, из-за этой истории он должен уехать. И ей понятно, что всё на свете она отдаст, только бы не видеть никогда этого города, где каждый дом знает, шепчет, твердит об одном и том же… Она ставит чашку на облезлый подлокотник дивана, молчит и думает, думает: «Любовь? А что это? Страсть, желание, наркотик? А может – проще? Может, это благодарность? За оказавшуюся ненужной помощь, за вот такие жертвы? За маленькие хитрости большой души? За шерстяные носки…»
Он ждёт её ответа, закрыв глаза, и думает: «Что такое любовь? Страх потери? Восхищение? Наваждение? А может, это и есть – благодарность? За доверие. За слова и за молчание. За её долгожданный смех…»
***
Его снова вызовут на ковёр.
– Ну что, Петрович, какая муха тебя укусила?
– Я в рапорте всё изложил.
– Угу. А я тебе уже объяснял, что за такие вещи могут и насовсем из органов попросить. Это не просто залёт. Всё, собирай манатки, орёл.
– В смысле?
– Да успокойся. Перевод тебе готовят. Поедешь в глушь, в Саратов. Шучу. В Подмосковье, хату служебную дадут, на месте разберёшься. Уж лучше, чем в область на зону простым шнырём. Попросил за тебя человечек один важный. Приказ будет в понедельник. Молча подписывай и езжай. Тебя здесь что-то держит?
– Э… Нет…
– Вот и славно. И не благодари.
Мама отпустит Милку легко:
– Через полгода обратно прискачешь.
Дедушка будет качать головой, собирая в коробку ложки, вилки, перекладывая старыми газетами тарелки. Потреплет Милку по голове, как Грэя когда-то:
– Бесприданница моя.
Но слёзы в горле у неё встанут только раз, когда она уже будет сидеть в машине, а дедушка, пожимая руку Илье, которого видит второй раз в жизни, притянет его к себе и скажет:
– Береги её, парень.
IV
До Москвы – одна ночь. Ветреная ночь. Плохая, мокрая ночь. И дорога плохая, чуть прихваченная льдом. После половины пути и короткой остановки на заправке – полудрёма. Я боюсь попросить, чтобы Милка говорила хоть что-то, чтоб тормошила меня. Когда мне кажется, что она уже спит, выключаю музыку. Пару раз останавливаюсь, выхожу дышать, но не курю, боюсь, что может сморить.
На место приезжаем около шести утра. Несколько здоровых коробок, пара сумок и смешной узел из простыни. В нём – две подушки и одеяло, о которых вспомнили прямо перед отъездом и впихнули на заднее сиденье. Вот и вся наша новая жизнь.
Ещё темно… Я не могу ждать, пока закипит чайник, к девяти мне надо быть на Лубянке. Даже на душ времени нет. Умываюсь, бреюсь, допиваю кофе из термоса, касаюсь её щеки: «Может, подремлешь? Я позвоню» и уезжаю.
***
Милка достаёт кружку, заливает булькающей водой чайный пакетик, топит его ложкой. Торопливо выпивает, обжигаясь, а вот заснуть не может. Впрочем, и не пытается. Сидит у окна, всматриваясь в светлеющий на глазах двор, слушает пиликанье домофонов, бодрый перестук невидимых электричек где-то там, за рядами разномастных гаражей. Ей легче. Намного, гораздо легче. Отпустило в дороге, словно и правда это родной город держал её в кандалах, не давал вздохнуть.
Она думает: «Машин мало, даже странно. А людей – много. И все торопятся. Звуки другие, незнакомые. Первый этаж, но высоко, и решётки на окнах… Символично? – усмехается. – Брось, глупости. Каждый ромбик как отдельное окошко. В одном – качели, в другом – палисадник. Так что теперь у вас квартира с сотней окон и цветником. У вас? У нас…»
Милка отводит взгляд от подмороженного ночными холодами палисадника. Ей не хочется ни думать, ни размышлять. Решает: «Нужно просто заняться делом».
И час за часом она моет полы на кухне и в комнате, скребёт плиту и ванну, чистит скрипучий диван, поражаясь неряшливости тех, кто жил здесь раньше…
Спустя некоторое время садится на табурет, чтобы отдышаться. Устала. Пока не стемнело, ей нужно вынести мусор и купить хлеба. Пересчитывает наличку: «Может, сосисок ещё? И макароны сварить. Успею ли? Уже четвёртый час».
Она торопливо обувается. «Даже зеркала возле двери нет… Стоп. Пока нет. Будет!» – внушает сама себе, выходя из квартиры. У подъезда смотрит на два окна. «И их надо вымыть, обязательно! А занавески? Как же про занавески ты забыла? Можно было взять из дома старые синие шторы».
Она идёт по чистому тротуару, мимо новенького детского городка, оглядывается, запоминая дорогу. «Ну смотри – не общага, не съёмная, служебная, платить только за свет и воду. Повезло. Кому? Тебе? Илье? Вам, вам повезло, пойми ты, наконец. Что же так грызёт? Да, пожалуй, мысль про универ. Заочка? Академ? А смысл? До конца четвёртого курса дотяну, съезжу, сдам. Диплом? И диплом сдам. Тема есть, ноут есть, с Филатовым и по ватсапу можно работать».
Она заходит в супермаркет, покупает хлеб, молоко, овсянку, сосиски. Старается запомнить – вот аптека, а чуть дальше, в красном доме – почта и банк. Неожиданно за поворотом оказывается шоссе, широченное, сплошь забитое транспортом. По прозрачной изогнутой трубе Милка шагает над дорогой, снова, уже сверху, удивляясь плотности потока, отдельной правой полосе с белыми буквами «А» и огромному цветному кварталу, парящему над городом. Спускается на другую сторону и завороженно бредёт вдоль дороги туда, навстречу высоткам, стройным, надменным…
Милку провожают деревья, тревожно шепчутся. Их голосов она не слышит – сигналят нервные водители, гудит, подъезжая к станции, электричка. Она автоматически кивает тополям и осинам. Ни назойливых клёнов, ни привычных ясеней здесь нет, но чуть дальше, через дорогу, которая вливается в шоссе, стоят великанами чёрные мощные липы – былинные, величественные. Милка ждёт зелёные цифры светофора, бежит к липам.
«Вековые… Как много, наверное, они помнят… А что здесь было раньше? Историю города ты ведь совсем не знаешь…»
Она вдруг наклоняется и поднимает с тротуара сердце. Блёкло-горчичное сердце липового листа. С еле заметными зубчиками по краю, оно больше её ладони. Не мятое, не рассыпающееся, бархатистое с изнанки, с жёсткими, сильными прожилками.
«Это как же ты сохранился здесь, лист? Пережил дожди, первые морозы, слякотные брызги? Или ты нарочно? Меня ждал, да?»
Она оглядывается. Вот ещё один и ещё… Собирает их, штук десять, шагая всё дальше и дальше. И когда останавливается, запрокидывая голову, те высотки, к которым она шла, которые казались такими изящными, почти игрушечными издали, уже окружают её, обступают, напирают…
Милка вдыхает прохладу вместе с запахами грязных шин, близкой реки, какой-то краски. «Не бойся. Им же надо вверх, вверх, к небу, как стволам сосен. Это же просто лес. Лес из камня. Каменные джунгли», – она уговаривает сама себя. И понимает, что у неё нет желания быть испуганным, затравленным зверьком. Тонкие колючие иголки паники тают, растворяются.
И тогда любопытство, острое, как в детстве, когда крадёшься по тропинке от озера в чащу, не зная, что там, за высокими кустами дикой малины, – это самое любопытство накрывает её с головой, унимает трепыхающегося птенца в сердце, и она садится на уголок скамейки во дворе возле детской площадки и просто смотрит. Мимо едет мальчишка на самокате, в смешном капюшоне с ушами, за ним быстрым шагом – мама с дочерью, обе в джинсах, с озорной раскосинкой в глазах, говорят взахлёб, не замечая никого.
На самой площадке – красавица-мама с розовым слингом, волосы забраны в высокий хвост, на ногах каблучки, а вокруг неё водоворот детских голов. Сколько их – трое, четверо? Милка улыбается.
Красивая женщина в очках с выбившейся из-под берета рыжей прядкой ступает осторожно, будто боится растерять, расплескать ей одной видимую чашу – с мыслями, с рифмами? – а вокруг носится такая же рыжая, изящная, лёгкая собачонка.
Ещё женщина – мягкие черты, яркая авоська с коробкой молока, яблоками и мотками пряжи. И она с собакой – катится впереди хозяйки сердитый пушистый клубок.
Резко тормозит машина, порывисто выходит высокая блондинка, выскакивают парнишка и девочка – все трое красивые, сильные, как выросшие на чернозёме плетистые розы. Непонятно кричат: «Мин! Мина!..»
На подоконнике сидит чёрная блестящая кошка, её обнимает рука невидимой за занавеской девушки. Кошка жмурится, и Милка знает – та, чьи пальцы утопают в мягких шерстинках, тоже жмурится – от удовольствия.
«Жизнь… Почему раньше ты не видела людей, Милка? Видела лишь тех, кто был с ним, с Никитой, рядом, понять хотела только их. Для чего? Чтобы разобраться, чтобы ему помочь… А если не нужна была ему твоя помощь? Ни помощь, ни любовь… Не нужна, понимаешь? Илье – нужна. Но Илья не станет тебя мучить. Даже его молчание – радость, не издёвка. С ним ты – свободна. Свободна думать, свободна жить».
Раздаётся тихая и требовательная трель. Она чуть не роняет трубку, скользя по экрану непослушными от холода пальцами.
– Мил. Я уже домой. На сегодня всё.
«Домой…» И ей хочется бежать к нему навстречу, повиснуть на шее, целовать часто моргающие уставшие глаза, бормотать незнакомые ласковые слова. Ему, единственному близкому человеку в этом чужом городе. Но как сказать об этом бездушному экрану, если и вживую нелегко? Она неловко смеётся:
– А я… Меня там нет.
– Здрасьте. Это как? И где же ты?
– Ой, погоди. Сейчас, – Милка бежит к углу дома, щурясь в сумерках, разглядывает синюю табличку. – Вот. Павшинский бульвар, пятнадцать.
– Понял. Стой там, горе моё, лягушка-путешественница. Не замёрзла? Минут через десять подъеду.
Она закрывает глаза.
«Ты столько лет корпела над систематикой, рефератами, над пыльными страницами и холодными мониторами. Почему ты решила, что и душу можно точно так же, на предметное стекло? Чужую душу – как каплю пота, как подопытную лягушку? А если душа сопротивляется, дрыгает лапками, хочет спрыгнуть со стола и сбежать? Чтобы жить в своём болоте, где для неё и убежище, и счастье?.. Вот, смотри – сколько их, людей, особей, человеков. Каждому – своё. Наблюдай. Любуйся. Слушай».
Она снова поднимает голову, и ей кажется, что небоскрёбы, раскачиваясь, поют. Как лес на закате – чуть поскрипывая, звеня. Да, жизнь. Огромные дома – деревья. И все здесь – взрослые, дети, животные – дети этого леса, они двигаются, дышат, куда-то стремятся. Вкалывают муравьишки, теряют крылья бабочки, неуловимо скользят ящерки…
И ей хочется впитать в себя весь этот новый мир. Он не связан с её саднящей любовью, в нём не увязнешь, как в трясине чужих неозвученных мыслей… Она вдруг верит – в этом мире можно радоваться. Как вот этим листочкам, зажатым в замерзающей потихоньку руке.
Милка улыбается. Не уголком обветренных губ, а широко, так, что проступает ямочка на щеке. А потом смеётся в голос, не боясь показаться смешной для этих прохожих, отчего-то ставших приветливыми, почти родными, смеётся, запрокидывая голову. Она машет двоим круглолицым девчонкам, что встречают сердитую худенькую подружку с лисьим личиком, машет длинному небритому парню, застывшему на балконе со смартфоном в одной руке и с сигаретой – в другой. Тот не видит, он смотрит вверх, то ли на медленно крадущуюся к нему луну, то ли на мигающий огнями пузатый самолет, что уверенно идёт на посадку.
***
Вечер. Я не могу пробраться в тот двор, где меня ждёт Милка, он запечатан полосатым шлагбаумом. Ну это надо, куда забрела! Приходится бросить «Логан» на бульваре и идти искать эту упрямицу среди машин, песочниц, стриженых кустов. И вот наконец-то я смотрю на неё, сидящую в сумерках на скамейке с охапкой листьев на коленях, смотрю чуть сбоку, вижу ямочку на щеке, которая появляется так редко, и хочу только одного – видеть её всегда. Милка… Славная. Забавная. До безумия красивая. Подхожу к ней сзади, обнимаю. Она не вздрагивает, как раньше, она сама прижимается ко мне плечами, затылком, узнавая, ласкаясь.
Забираю пакет с продуктами (и когда успела?), веду её к машине, усаживаю, ни о чём не спрашивая. Едем молча, целых полчаса – жуткая пробка.
Входим в подъезд, я хочу достать ключи, но решаю – нет. Вызываю лифт. И на девятом этаже этого старого кирпичного дома мы вдвоём стоим на пожарном балкончике, у которого всё ограждение – лишь ржавая решётка, невысокая, до уровня груди.
Мы смотрим на город за рекой. Там – настоящие небоскребы, там – огни, там воздух пропитан скоростью и спешкой, бензином и креозотом.
Держу Милку за руку, разворачиваю к себе её кулак с зажатыми до сих пор листьями. По одному, как ребёнку, отгибаю пальцы, освобождая чуть влажные, но начинающие уже черстветь, скручиваться по краям жёлтые сердечки.
Шепчу ей:
– Отпусти. Пусть летят.
Она послушно протягивает руку. Холодный ветер нетерпеливо хватает её подарки, подхватывает их, кружит. Он несёт их туда, где загораются сотни тысяч огней, где металл и стекло, где над рекой висит пешеходный мост, отражаясь в стылой густо-кисельной воде.
Холодный ветер. Он не в силах выстудить главное. От него ещё теплее в объятьях того, кому ты действительно нужна, Милка. Того, кто примет тебя, кто сможет стать для тебя большим, чем просто осенний лист, сможет стать не прошлым, а будущим.








