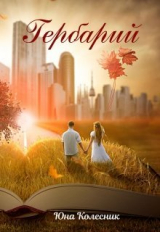
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Лист пятый. Никита. Подсолнух (лат. Helianthus)
I
Оперный театр – почти в центре города. По обеим сторонам от него, да и сзади тоже – солидные дома сталинской эпохи, те самые, где настоящие подворотни с арками, с лепниной из перевитых лентами фруктово-ягодных гирлянд.
Узкие окна бледно-жёлтой сталинки уныло смотрят на компанию девчонок – уверенных, слегка циничных. На стенах дома – трещинки, на ступенях крыльца – искрошившиеся сколы. А девчонки трещат о чём-то, как стайка воробьёв, шелестят бумажными пакетами, в которых – мартини, сок, фрукты.
Ксюша чуть в стороне, цедит в трубку слова – по одному, сквозь зубы.
Милка тоже стоит одна, подняв голову. Ей хочется дотронуться до раненой штукатурки, обнять весь этот старый дом, такой пафосный с улицы и совсем обездоленный – со двора. Ей грустно от того, что сегодня она впервые по-настоящему поругалась с Олесей. Та шипела на неё змеёй: «Зачем ты с ними идёшь? Мало тебе было прошлого раза, когда они над Ромкой стебались? Так же хочешь, что ли? Чтоб над тобой?..» Прошлый раз… Милка покраснела, понимая, что не помнит, кто и как издевался над Ромкой, она помнит совсем другое… Ещё ей подумалось, что Олеська просто завидует, что Милку позвали, а её – нет. И от стыда и неприятного чувства, когда ты – объект зависти, она только дёрнула плечом: «Я так решила. Мне надо». А сейчас жалеет, ведь могла бы ответить, что они приглашение примут, но только вдвоём. Могла бы, но не стала.
– Ну всё, пошли, – Ксюшка машет рукой, достаёт ключи.
Шесть этажей, лифта нет и в помине. Высокие лестницы, широкие и длинные площадки, пол на которых выложен плиткой. В подъезде – эркеры и подоконники в цветах. Кованые витые балясины, широкие, отполированные десятилетиями перила… У Милки вдруг мелькает мысль: «Как в старом “Ералаше”. Ну да, точно, мальчишки в какой-то серии по таким катались».
Дверь в квартиру обычная, металлическая. Вот только за ней…
– Вау!
– Отпад, Ксень…
– А родичи-то куда свалили?
– В Прагу, в Прагу, конференция там вроде.
– Это сколько ж тут комнат, а?
– Четыре. Всего четыре. Так. Ручонки свои убрали. Селфи делаем, так и быть. Но! Книжки с полок не берём. И камин не включаем, я не знаю, как он работает. Не берём книги, я сказала! Они антикварные! И рыб не кормим, а то сдохнут, я вовек не рассчитаюсь!
Гостиная. На каминной полке пара китайских ваз, странные фарфоровые статуэтки. Дальше – две спальни и библиотека с маленьким, незастеклённым балкончиком. Яркая стайка разлетается по квартире – потрогать пробковые стены, пофоткать инкрустированный паркет и диковинных рыбок, а Милка застывает перед картинами: состаренные (или старинные?) рамы, масло и непонятная графика – вперемешку, целая стена над коричневым кожаным диваном… Она тихо радуется: «Значит, ты живёшь, дом, как раньше живёшь, с умными необыкновенными людьми внутри… А корешки книг – не соврала Ксюшка! – как их много!»
Её зовут:
– Мил, ты где зависла? Шагай сюда! Ты ж хозяйственная. Давай-ка пошурши.
Она идёт в конец коридора. Там кухня – неожиданно узкая и длинная, почему-то с икеевскими фасадами. На широком подоконнике – цветущий комнатный подсолнух, единственное яркое пятно среди припыленных оттенков.
Милка послушно кивает в ответ на распоряжения, достаёт из пакетов и складывает в мойку виноград. Слышит, как двигают столик в гостиной, слышит разговоры:
– Атмосферка-то давит.
– Нет, не так – обязывает.
– Уж Моргенштерна точно не врубишь.
Девчонки хохочут. Включают музыку с хозяйской флешки, узнают, удивляются – там и Дэвид Гетта, и Кейко Мацуи… Милке эти имена ни о чём не говорят.
Раздаётся трель – звонок в домофон, Ксюшка танцующим шагом идёт в прихожую.
«Кто там ещё? – думает Милка. – Динка, Лина, Настя – все здесь. Элита… Для Лины тебя вообще будто нет, пустое место. Для остальных – так, удобное приложение к учёбе. И уж точно – не подруга. И ведь если б не поругалась с Олеськой, если бы не Ксюшкино обещание, ты бы ни за что сюда не поехала. Ясное дело, теперь должна будешь. Что именно? Как обычно – курсовик или лабу. Разберёшься потом».
Она режет апельсины кружочками, осторожничает с незнакомым керамическим ножом. Открывается входная дверь.
– Что, не ждали?
Рыжая половинка, брызгаясь, выскальзывает из рук, прыгает по полу. «Никита? Он… Почему никто не сказал, что он придёт?..»
– Ждали, ждали!
– А почему один? А Тёмыч? Игнорит наше общество, значит? Ну-ну, припомним.
– Он же писал тебе, занят сегодня. Плюс он не пьёт. А я вот не такой правильный, я к вам сбежал.
Милка слушает, пытается понять: «Значит, приглашали… значит, сказали адрес? Ну да, ну да… тебе же докладывать не обязаны…»
Его встречают шумно, ведут по квартире, показывают комнаты. Раскат смеха в спальне – Милка слышит что-то про кресло и Камасутру, морщится.
«Может, уйти? Ты же здесь вообще случайно. И позвали-то, наверное, по приколу. Думали, откажусь. А может – напоят, вот так вот весело поржут… А если… Если будет как тогда?»
Она замирает, боясь утонуть в воспоминаниях. И тянет, тянет время… Дорезает апельсины, долго ищет бокалы в кухонных шкафах. Нет, до кухни компания даже не дошла. Милка делает вдох, проскальзывает в гостиную. Никита сидит верхом на стуле, положив руки поверх спинки. Встречает её мягким, тягучим взглядом, чуть заметным кивком. Она опускает голову, шепчет: «Привет», расставляет конусы бокалов. Он заканчивает какой-то пошлый то ли анекдот, то ли случай:
– … Так и жил один.
Девчонки смеются, заливаются.
– Ну, а ты, Чиж? Ты-то сам? Что такой одинокий?
– А мне, может, девушки неинтересны?
– Не верю! Гонишь!
– Ого! Вот и разгадка!
– В смысле?
– Так про вас с Тёмкой слухи разные ходят…
– Э, полегче. Тёмыча не трожьте, у него девушка на родине.
– Ну так это у него, а мы тебя спрашиваем.
– Я к отношениям морально не готов.
– Так давай мы это исправим, а, Динуль, ты как, за?
– А то!
– Я вас разочарую, дамы. Даже время не тратьте.
Его смех. Гортанный, переливчатый, он манит, заколдовывает. Но Милку сейчас коробит, просто разрывает на части, внутри неё – оживший, разбуженный часовой механизм, он тикает, он на грани, малейшая неосторожность – и рванёт. Пока она держится, пока она ещё способна на подобие рассуждений: «И не скажешь им ничего. Вот и стой истуканом, улыбайся, а ещё лучше – шагай обратно на кухню. Да, тащи фрукты. Кто ты? Никто. А он? Он им зачем? И зачем он смеётся? А что ты хочешь им сказать, если ничего и нет? Если кроме того вечера, когда вы целовались, и одного-единственного раза, когда он за руку тебя держал, – не было ни-че-го? Что ты хочешь, Милка? Чтобы он обнял тебя у них на глазах и сказал: “А мы вместе!” Так? Почему нельзя так? Потому что это неправда?»
– Ну всё, хорош, – Никита уже разливает «Бьянко».
– Чиж, а давай на брудершафт?
– Рано, рано, не торопите.
Она сидит, дежурно улыбаясь. Цедит только сок. Потом все танцуют, но совсем немного, опасаясь соседей. Потом спорят о генной инженерии слегка уже нетрезвыми голосами. Потом Динка рыдает в трубку, Настя с Линой курят на кухне в вытяжку, потому что Ксюшка запретила до темноты выходить на балкон.
Запах ментола и вишни щекочет ноздри… Девятый час. Поздно… И Милка вспоминает, по какой причине она вообще согласилась прийти сюда. Она выходит в полутёмный коридор, идёт на спокойный, ровный звук голосов. Никита на диване, в центре, одна рука за головой. Слева от него, нога на ногу, Ксюшка, сзади, облокотившись на спинку – Лина, почти касаясь грудью его волос. Или не почти? У Милки слегка темнеет в глазах, рамы на стене сливаются в единое жутковатое полотно, но голос её звучит ровно:
– Ксюш. Ты про атлас Гофмана в оригинале говорила. Покажи мне, а?
– Какая ты занудная, Соколова! Отстань уже. Чего-то не устраивает – никто тебя не держит.
А ладонь её, Ксюшкина, на его коленке.
Милка разворачивается.
«Ревность? Дурацкое слово. Ревнуют своё – к чужому. А он – не твой. Так ведь и не их. И не поймёшь – шутка это или они обе и вправду злятся? На кого? На тебя – помешала? Да и чёрт с ним, с этим ботаническим атласом! Домой». Она отыскивает в прихожей свой рюкзак, хватает ботинок и застывает, услышав:
– Ну что, красотки, пойду я, пожалуй. Мне тут пешком минут пятнадцать.
– А кто тебя отпустит?
– Оставаться – так всем вместе. Даже Настюха домой не поехала.
– Никит. Ну жутковато нам одним в чужой квартире, пойми.
– Ок, уговорили, но Соколову-то не пускайте на ночь глядя, ей на другой конец города переться.
– Не младенец, сама решит.
И тут в Милке неожиданно просыпается упрямство, которое, как мартини с соком, смешано с подобием мазохизма: «Нет – останусь. Всем вместе? Ок. Смотреть на это всё? Ну и что. Зато буду знать».
Она бросает обувь, хватает из рюкзака телефон. Набирает городской номер:
– Дедуль, не переживай, я переночую в общежитии. Да, готовимся. Нет, не голодная, – тараторит, ни капли не смущаясь от собственного вранья.
II
Музыка гаснет… истлевшим угольком, усталым фонариком. И вот кто-то уже плещется в душе, кто-то помогает Ксюшке застилать постели. Девчонки укладываются по двое в спальнях, периодически мелькая полуголыми красивыми телами. Никите разобрали диванчик в библиотеке, он полулёжа что-то набирает на планшете.
Милка снова уходит на кухню. Долго читает этикетки на средствах, что забавно висят на рейлинге. Моет, протирает тарелки и бокалы. Собирает мусор в пакет с завязками, ставит на плиту чайник. Красивый, с золочёной ручкой и такой же пипкой на крышечке.
Ксюшка стоит в проходе, облокотившись на косяк:
– Хорош греметь! Иди спать уже, а?
– Ксюша, это правда важно. Здесь точно Гофман…
– Слушай, ты двинулась уже. Давай завтра. Иди ложись, там тахта в дальней спальне, подушка есть и плед.
– Я приду, приду. Вот чайник вскипит, и приду. Ложитесь.
Ей слышны голоса, хохот Насти, страшно-дурашливый голос Никиты, гораздо позже – редкие всхлипывания Динки.
Она сидит притаившись, как мышка. А когда всё замирает и из звуков остаётся только трамвайное позвякивание, крадётся в коридор. Как бы невзначай толкает дверь. И правда – заперто. Улыбаясь, тянет носом воздух. Пахнет сигаретным дымом.
«Курит на балконе? Да, наверное… Пусть, пусть хоть обкурится. Главное, что не с одной из них. Ладно. Надо спать. Может, лучше здесь, на кухне? Нет, тут холодно, ноги мёрзнут…»
Она умывается, распускает хвост, надевает футболку, которая не пригодилась на физре, потому что как раз с неё, с последней пары, они и удрали.
По дороге в спальню ещё раз тихонько останавливается возле двери.
Тихо-тихо нажимает на ручку, и тяжёлая дверь вдруг поддаётся, ползёт внутрь.
Она подкрадывается бесшумно, босиком это не трудно. Спит?.. Опускается на колени возле дивана, на жёсткий плетёный коврик. Когда глаза привыкают – любуется, долго… Точёный профиль, тонкие губы… Сил нет терпеть, молчать, сдерживаться – никаких сил у неё больше нет. И когда сердце колотится уже где-то почти в горле, когда она слышит собственный пульс – только тогда руки, только лёгкие, тонкие пальцы, лишь касаясь кожи, пробегаются по его щеке, гладят висок, ямочку под рассечённой мочкой уха…
Она растворяется в нежности, задыхается от того, что вот он здесь, с ней и только с ней. И она знает, уверена – ему нравится, пусть он и делает вид, что спит. Ресницы его чуть вздрагивают, и дыхание – уже неспокойное.
Нельзя останавливаться… выступ ключицы, плечо, локоть, торопливо – по середине груди… Обратно вверх… Его выдох. Разочарованный?
«Нет? Не надо? Хорошо, хорошо, так – не буду…»
Какое же это счастье – угадывать. Целовать его лишь кончиками пальцев. И снова – вниз по груди, по вздрогнувшему животу и так смело – чуть ниже…
Никита резко садится на кровати:
– Уверена? – хрипловато шепчет.
В ответ – её нелепое, уже запоздалое:
– Я замёрзла…
Он беззвучно смеётся, двигается к стене, потянув её за руку:
– Иди сюда. Сейчас будет жарко.
И больше – ни одного слова. Только дыхание, горько-сладкое дыхание, и его губы, которые невозможно отпустить ни на миг.
Что это? И правда – жар. Стучащее в виски слово «вместе…» И гладкое, ровное такое скольжение, совсем не резкое, словно по волнам. Но она ничего не понимает. Она не чувствует собственного тела. Для неё главное – он. Главное – с ней. Что ещё нужно?.. Он упирается руками в пружинящий диван, и она видит силуэт его тела на фоне высокого незашторенного окна, видит, как двигаются его мышцы. Милка обвивает его ногами и тает, тает… Чувствует, как он сдерживает стон, как резко покидает её, чувствует тягучие капли кожей живота, и его губы уже не требовательно, а благодарно спускаются к её шее…
А потом магия испарится. Он рывком сядет на край дивана, быстро наденет джинсы, бросит вполголоса:
– Я сейчас приду.
И где-то вдалеке, словно за горами и долами, за полями и лесами, зашумит вода… И Милка, закрыв глаза, будет лежать с головой под одеялом и ждать.
«Он же сказал: “Приду…” Он вернётся и снова будет с тобой. И тогда точно – навсегда! Куда угодно. Лишь бы с ним. И тогда ты скажешь ему всё – что не можешь без него жить, что он самый лучший на свете, что даже дышать без него – невозможно…»
Но он не придёт. Раздастся сухой щелчок открывающейся двери, лёгкие его шаги… И зазвенит тишина… Она сползёт с узкого диванчика, вытрет живот краешком пододеяльника, натянет почти до колен так и не снятую футболку и робко выйдет из комнаты. Сядет напротив него за кухонный стол, не зная, что сказать, что сделать. И прошепчет, даже не подняв взгляд, самые нелепые слова в своей жизни:
– Ты позвонишь?..
III
Я ждал чего угодно. Хотя нет – скорее всего, даже не ждал, а хотел – её слёз. Со всхлипываниями, с дрожащими плечами… Чтобы можно было поправить растрёпанные волосы, мятый платок достать из джинсов, что намертво пропахли дешёвым моим табаком, и вложить в эти смешные ручонки. Да что ж ты заладил: смешные, смешные! Уже совсем не до смеха. Одно дело – стебаться с теми, гладкими, приторными, мериться – кто кого переязвит. И другое – вот это, что было пять минут назад.
Залетев в ванную, включаю вытяжку, всасываю пару сигарет сразу. Офигеваю сам от себя, от звона в голове, от глуповатой улыбки в зеркале.
Отличница… Маленькая, но до безумия смелая отличница… И пусть бы они услышали, как скрипел диван, пусть бы зашли, и тогда ты уже никуда бы не делся и выкрикнул бы им: «Что, получите, развратные сучки? Думали, это вы играете? Ан нет – у меня своя игра, вам непонятная! Вы мне ни нафиг не сдались, нет. Вот, смотрите, завидуйте – мелкий, ласковый мышонок, который будет только со мной…»
А потом, когда засовываю голову под струю воды, накрывает реальностью. Неужели опять – лажа? Не только твой мышонок-то, вот оно как… Но ведь она и не говорила тебе, что это первый раз. Тогда, на балконе, когда ты говорил ей о тренировках, о посёлке своём, а она смотрела на тебя, как на икону, там и слова-то не нужны были, потому что были её губы, такие же, как только что – и упрямые, и послушные…
Нет, нет, не об этом, не сейчас. Но признайся – хотел же оказаться первым? А кто не хочет? Видел, что она уже влюблена в тебя по уши, что ревнует дико. Но как держалась, а? Смелая девчонка. Так чего же тебе надо было? Сопротивления? Боли? Крови? Нет. Три раза нет. Не было. Ни хрена из этого не было! Сама пришла, сама захотела, ты только дверь открыл. И на тебе, Чиж, получи. Отличница? Окей. И в учёбе, и в сексе.
Не могу я заставить себя зайти обратно в комнату. Она выходит оттуда сама, ноги голые, майка длинная, не по размеру, как чужая. Садится напротив. Как будто ничего и не произошло. Как будто это так для неё… привычно? Сделать то, что не вышло у этих кукол. Да говори уже как есть. Соблазнить? А что, скажешь, нет? Да. Да и ещё раз да. Уверенно и со знанием дела.
И это её почти беззвучное: «Ты позвонишь?» вызывает у меня припадок бешенства. И что за манера такая – тихо говорить? Почему каждое слово отгадывать нужно? С трудом могу процедить:
– Угу.
– Но… Ты и номера не знаешь.
– Скажи, я запомню.
– 22-55-424.
– Это что?
– Домашний.
– Серьёзно?
Застрелите меня, с кем я связался! Что это? Наивность? Так бывает вообще? В двадцать первом веке живём, какие номера? Вспоминаю, что её и правда нет в соцсетях, только ВКонтакте. Но всё равно – в мире биткоины, лазеры на свободных электронах, чёрные дыры как на ладони, а напротив меня сидит девчонка в мятой футболке и диктует мне номер домашнего телефона! Молчу, слов у меня нет.
Наконец она поднимает на меня взгляд. Что-то непонятное в нём… Смесь, симбиоз беззащитности, растерянности и упрямства. А ещё – желание. Тёмное, спрятанное от самой себя, словно запертое в кладовке со старыми книжками, с поношенными шмотками. И желание это такое горячее, что я чувствую, как топится от него и вся злость моя, и ревность к тому, кто был с ней раньше.
Доходит до меня вдруг странная штука – а не смотрюсь ли я в эти глаза, как в свои собственные? А если они – просто отражение? И если до скончания веков смотреться, если оказаться там, внутри этого влажно-чёрного зрачка – может, и станет ясно, для чего живу? Может, всё просто – для того, чтобы быть центром её жизни, солнцем, серединой?
Словно кипятком вдруг обдаёт меня – хочу обнять, прижать, поделиться хоть чем-нибудь. Но только сделать так, как хочется мне, а не поддаваться, не принимать её правила. Чтобы не её руки были главными, а мои. И шептать потом в эти закрытые глаза, что щекочут короткими ресницами: «Скажи ты мне, скажи, отличница, мышка мелкая… Зачем я тебе? Скажи! И пусть ничего потом у нас не выйдет, просто скажи…» Выдавить бы, выплеснуть из себя это спрятанное так глубоко: «Любишь? Милка! Или это так – и правда игра? Ну не первый, плевать на это, только не ври, Милка!»
Я не могу с собой справиться. Вскакиваю, в два прыжка добираюсь до кухонной двери, запираю её изнутри. Поворачиваюсь, хватаю её за локти, поднимаю, сажаю прямо на стол. Мысли мои слишком туманные, слишком быстрые: «Погоди, мышка, давай по-другому. Ты же и не поняла ничего толком. Не нужна мне темнота, глаза твои хочу видеть! И слова мне не нужны, и так всё пойму!» Целую её, оторопевшую, почему-то снова холодную, беру за руки, поднимаю их, кладу себе на плечи. Она напрягается, как будто боится, что отпущу, оттолкну, осторожно трогает пальцами мои ещё мокрые волосы на затылке.
Майка её ползет вверх, оголяет ноги, тканью джинсов я задеваю внутреннюю сторону её бедра, и в глазах темнеет. Соединяю руки у неё на пояснице, там, где мягкая ямочка, сжимаю чуть сильнее… В голове беснуется набат, понимаю, что если сейчас стащу с неё эту майку, то могу взорваться.
Да, я нереально хочу эту девочку. И там, у Ромки, хотел, и сегодня весь вечер наблюдал за ней и ждал, и если бы она не пришла, я бы сам пошёл к ней, за ней… Это – моя девочка, и сегодня я могу делать с ней всё, что захочу. Прямо поверх майки обхватываю грудь её…
И вдруг слышу всхлип, судорожный, полузадушенный:
– Нет, не-е-ет! Пожалуйста, нет!
– Что… что не так? – мне трудно сейчас и говорить, и думать. Но отстраняюсь, смотрю на неё. Слёз нет, но и той темной страсти в глазах нет, вместо неё – страх, дикий какой-то, как у зверька, она и правда совсем как мышонок, живой, но зажатый перекладиной капкана. Изо всех сил держит мои запястья, не даёт дотронуться, притянуть к себе. Шепчет:
– Отпусти меня. Пожалуйста, Никита, миленький, отпусти.
Как может шёпот звенеть в ушах? У меня сносит крышу. Да что ж это за хрень, а? Что ты со мной делаешь, девчонка? Со всей дури бы кулаком, костяшками по столу, разнести всю эту блядскую хату вдребезги! Она ослабляет хватку, от её ногтей у меня остаются полукруглые следы.
– Да что с тобой?
Она снова прерывисто шепчет:
– Потом, потом… Не смогу сейчас…
Отступаю на шаг.
– Всё тогда, хватит. Иди спать, – звучит грубо, но как иначе?
Она спускается со стола, сначала одной ногой нащупывая пол, потом – другой… скользит к двери, открывает её и уходит, почти убегает, не оборачиваясь.
Нахожу в каком-то из шкафов коньяк, щедро наливаю в чайную чашку. Залпом вливаю в себя, зажмуриваюсь. Курю прямо здесь, у окна, выбросив спичку в ведро под раковиной, а пепел стряхивая в цветочный горшок на подоконнике. От коньяка тепло в практически пустом желудке, дрожь унимается, возбуждение тоже. Иду и ложусь, падаю на постель, нащупываю наушники. Тёзка поёт: «Кому жизнь – буги-вуги, ну а мне – полный бред». Соглашаюсь. Похоже, опять я всё испортил. Не умею сдерживаться, не умею останавливаться, сколько проблем этим уже нажил себе.
Медленно-медленно, кружась, проваливаюсь в пустоту. Объёмную, вязкую. Там не обидно, не больно, не противно. Я знаю – в этой пустоте живут даже не воспоминания, а так – отрывки, в ней живу я сам… Как со стороны вижу, сверху наблюдаю, что ли. Не хочу помнить, не хочу возвращаться, но всё равно – вижу…
Никита считает эти отрывки снами, но хочет он другие видения – пусть и без ярких, насыщенных красок, но такие, где нет вопросов, одни ответы. А пока в его копилке детские обиды, разочарования, мечты, сбывшиеся не так, как было загадано. Он и эту ночь будет хранить там, в копилке под замком.
Ему не привыкать.
IV
Никите было двенадцать, когда один-единственный день превратил их семью – мирную, правильную – в нечто иное, покалеченное, уродливое.
Он помнит тот декабрь, бесснежный и сухой. Вечером за окнами темень. Чёрные тени, чёрный силуэт забора вокруг дома. И чёрные – выигрывают.
Никита говорит отцу:
– Пап, шах тебе. Ты рассеянный сегодня.
Отец смотрит поверх его головы куда-то на стену:
– А? Да. Слушай, Ник, а где мамина книжка кулинарная?
– Тебе-то зачем? – Никите смешно.
– Про щуку фаршированную спрашивают на работе… Ты только маме не говори, я рецепт сфоткаю и верну.
– Ну пап… – Никита пожимает плечами. – На кухне, как всегда, в ящике над плитой.
– Там нет, я смотрел уже… – большая, красивая, ухоженная ладонь зажимает белого ферзя в кулаке, застывает в воздухе.
Никита сглатывает слюну: «Мамина щука – это, конечно, круто… один раз в году она её готовит, эту красоту и вкусноту. Кроме мамы, никто так не умеет». Но отвлекаться нельзя, ситуация на доске – критическая.
– Мат! Пап, всё – мат!
Отец улыбается, кивает, треплет его по голове.
…Утро, будильник – Никите раньше, чем обычно, нужно успеть в школу до прихода учителей, подарки проверить, открытки подписать. Дом ещё только просыпается. Он выползает из своей комнаты, умывается, одевается… Пока закипает чайник, подтягивается раз десять на настенном турнике. Потом жуёт холодную котлету, запивает чаем и идёт в прихожую обуваться.
Так вот же она, книжка! Внизу, на полке под зеркалом. И закладка есть! «Очень свежую щуку почистить…» И дальше – тоже от руки, маминым круглым почерком: «С рыбы аккуратно снять кожу…» А вот разделывает рыбу всегда папа. Точными, осторожными движениями.
На кожаной банкетке – отцовский портфель, под банкеткой – начищенные до блеска туфли, мамина гордость. Отец ездит с шофером, ему не нужна зимняя обувь. Портфель… Никита решает: «Надо книжку с рецептами туда положить, точно! И мама не заметит, и отцу – приятно».
Он щёлкает замком, расстегивает молнию. Портфель как-то услужливо распахивается. Документы, ежедневник… а сверху – два шуршащих пакета. Никита удивлённо переворачивает, рассматривает их, в каждом – погремушка. Одинаковые, деревянные, только цвет шариков в середине – разный. Один шарик синий, другой – голубой. «Подарки для кого-то на работе, – догадывается он. – У папы добрая душа». Никита слышит шаги, поднимает голову.
В дверях стоит отец.
– Пап. Доброе утро! Я нашёл книжку. Просто положить тебе хотел, извини. А это кому?
Отец тяжело опускается на банкетку.
– Значит, время пришло. Ник, позови маму.
От его тона – обречённого и гордого одновременно – холод бежит у Никиты по лопаткам, и что-то чёрное заплывает прямо в душу, заполняя непонятным и страшным.
Мама, такая уютная, утренняя, в халатике поверх сорочки, уже колдует на кухне. Никита берёт её за руку, тянет в прихожую.
Отец медленно поднимается к ним навстречу, говорит быстро и чётко.
– Сын. Света. Я ухожу. Не смогу по-другому. У меня дети.
– Какие дети, Пашенька? О чём ты? – мама улыбается, вытирая руки белоснежным полотенцем.
– Двойняшки. Если точнее – близнецы.
Мамин вскрик режет уши.
Никите бы остаться, быть рядом с ней, вместе было бы легче, но он выбегает на улицу, впихивая ноги в ботинки уже на площадке.
Он не знает, что будет дома дальше. Он бежит по улице, глотая морозный воздух, и кричит, орёт на всю улицу:
– Так не бывает, не бывает так!
А в голове у него тупо вертится бесконечное, закольцованное: «Со щуки аккуратно снять кожу… Аккуратно. Папа! Отец! Ты же умеешь – аккуратно…»
Мама, нежная, добрая мама, вычеркнет отца из их с Никитой жизни. Запретит ему общение с сыном, процедив на прощание: «Только сунешься сюда – убью! Мне плевать на твои регалии!» Она даже не станет подавать на алименты.
V
Пройдёт года три.
– Где шляешься до ночи, подлец? – голос матери срывается на визг.
Никита хочет сказать: «Не кричи, мам. Не позорь. Посёлок маленький, все, кто так жадно хочет услышать – все слышат». Хочется погладить её, успокоить, мол, всё хорошо, работаю я опять, мам, Ашоту в сервисе помогаю, хоть какие-то деньги, осенью в город ехать, одеться нужно.
Но он не отвечает, не может, не умеет. Только сверху вниз хмуро смотрит на мать красивыми серыми глазами.
Он, Никита, всегда был красив. «Весь в отца!» – бросала мать с упрёком. Ей было тяжко – до развода она никогда не работала, а теперь вкалывала в двух местах, и почти каждый день заканчивался криками, укорами, пощёчинами. Он давно понял – мать возненавидела его, кровинку и копию бывшего мужа, и ненавидела слепо и безжалостно. За то, что тот, кого она так же слепо любила, неожиданно и жестоко её предал. Всего три года прошло, но мама изменилась очень быстро, теперь это другая женщина – замученная, злая. Несчастливая…
Никита с головой тонул в учёбе. Ему легко давалась наука, причём все предметы без исключения, опять-таки – наследственный талант, отец так же легко учился. Феноменальная фотографическая память, логика, воображение, та самая «врождённая грамотность»… Как следствие – победы на олимпиадах, в основном технических. Гордость обычной сельской школы, единственный отличник. Как итог – после девятого класса направление в город, в центр одарённых детей. Так в пятнадцать лет он уехал от матери. Свобода? Да. Самостоятельность – трижды да.
Дальше – как картинки в калейдоскопе, живописные, всегда новые, но не остановить ни одну, не зацепиться, чтобы разглядеть, оценить, полюбоваться.
Друзья, девочки, спиртное – как без этого? Это только на бумаге звучит красиво – центр одарённых детей, а по сути – интернат-инкубатор, та же общага, энергетики, бомжацкие макароны, ранний запретный секс. Почти накануне ЕГЭ случится у Никиты короткий, месяцев на пять всего, мучительный роман с той самой «умной и красивой», бывшей выпускницей их центра, удачно выскочившей замуж, но уже скучавшей по вольной жизни. Разом переставшая быть интересной учёба. Время, измеряемое ожиданием встреч, жарких сцен у неё в машине, в кинотеатре, на лестничных площадках. И такое же быстрое, за пять минут, расставание. Она была намеренно жестока, чтобы не дать ни единого шанса продолжению их связи. Был ли у Никиты шок? Пожалуй.
Экзамены он сдал средне. Об МГУ можно было забыть, баллов оказалось мало, катастрофически мало. А какие были планы, какие амбиции… В итоге прошёл на местный мехмат, районные олимпиады помогли.
И был остаток, оборванный кусок лета, провёденный дома – вино, разборки, какие-то девочки, бессонные ночи, скандалы с матерью. Музыка, шрамы, сигаретный пепел… Но это всё картинки, картинки, одна за другой…
Потом – универ. Редкие лекции. Общага. И снова по кругу – водка, девчонки, над которыми он в основном глумился, выискивая недостатки. Разборки, знакомство с полицией. Это притом, что он не буянил, чаще ставил на место – примерно, как Лазаревым, реже – провоцировал сам. Чередой полетели прогулы зачётов и экзаменов. Беседы с деканом. Академ на полгода. Неожиданный перевод на биофак, потому что только там были свободные бюджетные места. Куча долгов, особенно по лабораторным. Другая группа, естественно. Он не рассчитывал задержаться там, никаких попыток и не делал. Но появилась Милка…
Утром, когда Никиту трясут за плечо, а в воздухе так остро пахнет настоящим, дорогим молотым кофе, Милки уже нет в квартире. Он понимает это, как только ловит кусочки гневных реплик:
– …давно говорила, что она чокнутая. Это ж надо додуматься – смоталась и дверь нараспашку!
– Больная на всю голову. Насть, проверь сумки – всё на месте? И атлас этот чёртов, где он – вдруг спёрла?
Никита стоит перед ними босой, с голым торсом, наощупь затягивает ремень.
– Вы бы поаккуратней выражались, дамы, – сталь во взгляде, едкое презрение в хриплом голосе. – Я свою девушку оскорблять не позволю.
VI
Он полностью оградит её от язвительных нападок однокурсниц.
На лекциях Милка теперь сидит между ним и Артёмом на одной из задних парт, а Олеська демонстративно занимает первый ряд одна.
Милка так и не захочет объяснить, что с ней произошло тогда, а Никита не станет спрашивать.
Отношения их сложатся странно, негладко, не слишком понятно со стороны. Они то неделями будут жить у неё дома, пока Милкина мама в очередной раз не поднимет крик из-за невымытых чашек, то станут сутками пропадать в общаге.
Почти все вечера Милка станет проводить в комнате парней, устроившись на кровати с ноутбуком, поджав ноги. Будет слушать типичные мужские разговоры, многого сначала не понимая, но впитывая, как губка. Будет ловить скользящие взгляды, осторожно и ласково улыбаясь всем подряд.
Никита впустит её в свою жизнь, а Милка будет готова на всё, лишь бы быть рядом с ним. Она притащит ему все свои лекции за полтора года, напишет с ним курсовик и заставит сдать все долги по лабораторным. Молча удивится, когда узнает, что он забросил спорт, и тогда он, смеясь над самим собой, начнёт элементарные утренние тренировки. Весной каким-то секретным средством она полностью выведет тараканов на их этаже, чем окончательно очарует комендантшу, и та будет закрывать глаза на Милкины ночёвки.
Постепенно, уже ближе к лету, соседи Никиты станут доверять ей, внимательной, немногословной, всякие «страшные тайны», будут объяснять «мужскую логику», научат играть в карты, разделывать зайца и готовить плов, а ещё – пить водку и даже курить (ей, кстати, понравится).
Милка выучит и полюбит все его заморочки, начиная с обязательных двух коробков спичек в карманах джинсов и заканчивая привычкой засыпать в наушниках.








