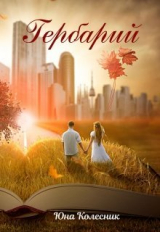
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Для самого Никиты откровением станет то, как незаметно он разделит Милкину неуёмную страсть к ботанике и экологии – тем дисциплинам, которые раньше он и всерьёз-то не воспринимал.
За полгода секс у них случится только дважды, примерно такой же, как и в первый раз, а все внешние проявления нежности, поцелуи, объятья – словно так и останутся где-то там, в чужой квартире.
Когда Никита устроится на работу, охранником на стройку, Милка будет возить ему обеды-ужины в баночках и оставаться с ним до утра практически под открытым небом. В одну из таких ночей они усядутся на пол, одинаково поджав колени, и Никита скажет:
– Учись и ничего не бойся, Мышка. Ты многого не знаешь в жизни, тебя слишком легко обмануть. Общайся, учись. Жизнь – это не только универ.
Милка кивнёт, а он продолжит говорить, ломая, кроша в пальцах сигарету:
– Я не могу ничего дать тебе. У меня ничего нет – ни кола, ни двора. И я не даю тебе никаких обещаний и обязательств. Запомни это!
Она снова кивает, глотая слёзы, ежесекундно умирая от каждого его слова, от рвущей душу, но такой сладкой любви своей.
Она бережно собирает свой гербарий. Из фраз, музыки, интонаций, касаний рук. Она мечтает, что, вопреки его словам, спустя годы они будут перебирать эти страницы. Вместе.
Однажды кто-то из парней покажет Милке колечко для своей девушки, мол, зацени! Она найдёт в себе силы одобрительно кивнуть, но практически сразу выскочит в коридор. За её спиной откроется дверь. Мягкие, неторопливые шаги по коридору, руки Никиты на её плечах – скорее успокаивающие, дружеские, чем любящие.
– Мышь. Ты знаешь – я не могу делать такие подарки. Я никакие не могу. Пока. И говорил уже, помнишь? Я не могу тебе ничего обещать.
– Мне ничего и не надо.
– Плохо.
– Почему? – она оборачивается к нему.
– Как почему? Вот закончим универ, и что дальше?
– Уедем к тебе. У вас же там не просто заповедник, у них и научная работа есть.
– Это для тебя. Для меня там перспектив нет.
– А тебе можно в школу, биологию и химию вести. И с армией вопрос решится, – умоляющие интонации в её голосе никак не меняют его выражения лица. – А молодым специалистам сейчас дома дают по госпрограмме. Никит, ты представь только – домик с верандой. И огород! И кролики…
Он наконец смеётся, но в глазах – тоска.
– И тебе нужна ТАКАЯ жизнь?
– С тобой – да. А ты умеешь жить по-другому?
– Пока – нет. Пока я никак не умею. Но хочу. То, как живу сейчас – это просто репетиция.
– Да?..
– Да, – он говорит, не замечая, как сжимает она губы, превращая их в некрасивую, бесцветную, сухую травинку. – Ты пойми, если уехать в область, оттуда не выберешься. Но чтобы подняться здесь, нужен рывок. Нужна помощь со стороны…
– Репетиция? – она перебивает. – Пусть так. Но ты не прав. Надо всего добиваться самим.
– Да погоди ты!.. – он встряхивает её за плечи.
– Не надо меня трогать! – Милка впервые почти кричит на него.
Тут подходят парни, шумно здороваются. Милка вырывается из его рук, возвращается в комнату. Вместо мышиной обездоленности в ней теперь неуловимая, дикая кошачья грация. Короткая стрижка. И тёмно-серое платье – короткое. Ей смотрят вслед. Артём, весело подмигивая, озвучивает общую мысль:
– Блин, Чиж, а ведь мы тебе завидуем.
Артём сейчас рад за друга, он всегда готов безвозмездно делиться своей радостью, и у него самого отличные новости – операция, которую недавно сделали его матери, прошла успешно, и прогноз хороший. Вадим, отец его, ещё зимой нашёл вполне достойную работу на местном телевидении, перетащил к себе старшего брата Артёма – Антона, сына Марины от первого брака, и не переставал работать над авторскими своими проектами. Артём в давней ссоре с отцом, они совсем не общаются, в целом о семье он рассказывает крайне редко и скудно. Но он неизменно приветлив, обаятелен, если что и может вывести его из себя, так это Олеськины выходки.
Лист шестой. Артём. Кипарис (лат. Cupressus)
I
Если откровенно, я ведь это дело фактически ради них замутил. Практика, по сути, ерунда. Практику и в ботсаду при универе пройти – раз плюнуть. А тут – море, Сочи, флора, мать её… Романтика.
Не, ну у меня и свой интерес был, конечно. Во-первых, я Олеську хотел на море вытащить, она всю жизнь мечтала, говорила как-то с Барашей, а я слышал. Плюс мне родичей повидать надо было, давно не ездил, стыдно. В том, что с отцом мы не в ладах, родичи не виноваты.
А, парк Олимпийский, опять же, посмотреть. С этим мундиалем вся страна с ума посходила.
В Сочи лет восемь назад начали улицы перекраивать. Пришли к моим в дом, тыкали в нос бумаги:
– Заборчик ваш подвинуть придётся. Объездную дорогу мы строим. Тяжёлый транспорт здесь пойдёт, фуры, стройматериалы…
Ну они все вместе и решили, что нафиг это надо. Сад жалко, конечно. Хурму, беседку с киви. А потом прадед сгонял в Лазаревское, приглядел домик. Ну и переехали всем табором. У тёти Гуналы уже двое, третьего ждёт, и чего теперь им – этими выхлопами дышать? Ни днём, ни ночью покоя не будет. Правильно сделали, я думаю.
Короче, про практику. Ещё весной написал я в Дендрарий, мол, такие-то, хотим пользу принести. А они – опаньки! – сразу в деканат направление на нас четверых прислали: две недели учебной практики и бонус: «расходы на проживание компенсируем». Я офигел, конечно. А уж Милка как рада была, обниматься полезла. Чиж на шею мне не кидался, глянул как обжёг, но тут уж не отвертишься, и так Олеська категорически отказалась ехать. Я расстроен был здорово из-за этого. Но она упрямая, если вбила себе в голову очередную чушь – не переубедишь. Я пытался, раза три пытался её уломать, но нет, бесполезно. И главное – так и не сказала, почему нет.
Билеты мы заранее взяли, туда-обратно, в плацкарт. С сессией разделались. Доехали, комнатушку прямо на месте сняли. Милка по Дендрарию козой скакала, считала олеандры с самшитами, как велели, тайком юкку какую-то редкую выкопала, утащила.
В итоге на саму практику ушло четыре дня. Всего! И есть у меня подозрения, что тут отец подсуетился, когда на «Кинотавр» в июне приезжал. Хотя… Как он мог узнать? Да и не скажет ни в жизнь. Тем более после того, как года три назад эти тёрки у нас с ним начались.
М-да… Если бы не Антоха, ничего бы и не было. Где братец эти исходники раздобыл? В общем, я уже школу заканчивал, когда узнал, что отец по молодости проституток снимал. В смысле для портфолио. Всяких. И просто девок, и не просто. И не девок. Как Антоха ржал с этих фоток! А мне так противно стало. До тошноты, реально. Прикиньте, мы столько лет на эти деньги жили! Ну психанул я, высказал отцу. А он молчал. А я – нет, я как отрезал тогда: «Мне твои бабки, на голых сиськах сделанные, нафиг не сдались. Сам проживу!»
А потом ещё Антон масла в огонь подлил. Ты, говорит, брательник, свою журналистику только с его помощью осилишь. А без папкиной волосатой лапы слабо?
– Да я куда угодно поступлю!
– Например?
– Да хоть на айтишника, хоть… на биофак! И вообще уеду отсюда, достала меня ваша Москва!
Взял и уехал на родину. Поступил. Вот из принципа – на биофак, реально! С Никитосом на зачислении случайно познакомились, решили хату снимать. Потом он академ на полгода брал, уезжал к себе, ну я и ушёл в общагу, там и веселее, и платить копейки. Подрабатывал статьями, копирайтингом, деньги маленькие, конечно, но почти не переводились.
Короче, побродили мы по Сочи. Суета. Народу толпы. И в хвалёном Олимпийском парке, и в Ривьере, и на морвокзале… На пляж вообще носа не высунешь. Ну и всё, отчёты-печати-подписи получили, на электричку сели и уехали к моим в Лазаревское. Всё равно обратные билеты только через десять дней, так хоть позагорать нормально. Встретили нас офигенно. Семья у нас большая и гостям всегда рады.
А эти двое ходили везде как чужие. За руки даже не держались. Спали на разных кроватях. Я Никитоса спросил:
– Вы чего, поцапались, что ли?
Он только скривился, не лезь, мол. Не поймёшь его.
А Милка – как всегда. Молчала больше и то глядела на него, как на икону, то отворачивалась. Спину спалила. Я, говорит, «Функциональную фитоценологию» читала, увлеклась. Прикиньте? Не, ботаничка – это диагноз. Вот и лежала потом на животе под простынёй, температурила.
Майя Тиграновна сметаны принесла. Я Никитосу и сказал:
– Иди Милке спину намажь.
– Ты мне не диктуй, Тёмыч, а?
И снова так глянул, что жутко стало.
– Слышь, она ж отличная девчонка. Чего ты взъелся?
– А ты че, запал на неё? А, Тёмыч? Скажи? Так забирай, мне не жалко! Такого добра…
– Э, хорош! – офигел я, если честно. Чиж спокойный обычно, как удав. Ну я и развернулся, ушёл.
Нет, не понять мне. И вдруг нахлынуло: «Если бы Олеська вот так сгорела… Прийти к ней с чашкой сметаны, откинуть простыню…» Чудак. Ты даже толком не знаешь, что дальше-то делать.
Ну да, девятнадцать мне. Я не девственник, конечно. Всякое бывало, и целовались, и руки как только ни распускали, и до постели дело доходило. Но проблемка одна есть. Как начнёт девчонка раздеваться… Всё. Паника у меня. Как вижу обнажённое тело – паника. Не отвращение, нет, отвращение было к отцовским фоткам, а тут страх – не могу и всё. Кому это расскажешь? Никому. К психологу меня не затащишь. А вообще у меня много такого: про то, как Антохе тайком бициллин колол, когда тот дрянь какую-то от шалавы подцепил – никому. И про то, как его, братца пьяного, с кухни волоком тащил – тоже. Газ тогда перекрывал, квартиру проветривал… Изменила она ему, видите ли! А если бы я позже вернулся? Как бы мама пережила всё это? И она, и бабка Римма, её мать, они Антоху любят.
Мама-то у нас всех любит – святая женщина. И моё решение приняла спокойно, мы созваниваемся часто. Но вот на тебе – на неё, мирную, тихую – напала зараза эта, рак. Сейчас врачи клянутся, я сам с ними пару раз говорил – после операции прогноз отличный, хвалят её, что обратилась вовремя. Главное теперь – не нервничать. И на солнце ей пока не желательно.
Короче, получается, кроме матери, вечно вокруг меня одни шалавы крутятся, как и у братца, и у отца. И вот эта паника моя – в ней и Антохина вина, наверное. Чего я боюсь? Может, повторения? Что со мной такая же дурь твориться будет, как с ним?
Я привык уже и веду себя одинаково – со всеми почти. Чем легче, не заморачиваясь, общаешься, тем меньше проблем. И никому не важно, что там у тебя внутри – какие книги, какие мысли. «Держи своё при себе, слово говори лишь тому, кто его ценит», – так бабушка говорит. Ещё говорит: «Если твой друг будет на тебе горящей рубашкой – не сбрасывай с себя». Абхазские поговорки – они же в самую точку. С Никитосом мы многое прошли, я ему доверяю, и что бы у него ни случилось, не брошу.
Но вот Олеська – никаких поговорок на неё нет. Всю душу ведь вытрепала! Язва. Язык как жало. Но такая… звонкая. Чистая, что ли. Кудри рыжие… Уткнуться бы носом, эх…
II
Потом погода на курорте нашем испортилась, дождь с утра зарядил. Несильный, но небо заволокло. Родичи шашлык во дворе затеяли. Мангал, музыка… Племяшки славные, смешливые, ласковые, тёткин муж – мировой мужик. Хорошо… Лезгинку с бабушкой станцевали. Гены… Никуда не денешься.
Назавтра после обеда совсем прояснилось, но мелкие сбегали к морю: «Грязно, фу».
– А пошли, – сказал я своим чудакам, – в горы? У нас тут водопады есть.
Бабушка головой покачала:
– В горы надо с рассветом идти, а не в два часа пополудни…
Но мяса нам с собой собрала, лаваш, винца бутылочку. Ну я-то не пью, всё чертов желчный виноват. Доехали до кафе «Минутка». Дальше – направо и по указателям. Тишина, народу мало, и те, кто есть – уже вниз, навстречу нам топают. А мы – наверх! Сначала – прямо по руслу Свирской, по камням. Потом – вверх до полянки со скамейками. Посидели, отдышались. Шашлык холодный – тоже вещь! В лаваш его завернуть и жевать, на хребты глядя… Ну что, опять – наверх.
Тропка узкая. Справа – ущелье. На соседнем склоне – опоры ЛЭП, высоковольтка. Слева – каменюки, пласты. Указатель: «Дольмены». Милка упёрлась:
– Не пойду! Это же гробницы! Там энергетика…
Окей, пускай энергетика. Потопали дальше. Выше, выше… Тропа нахоженная, но крутая и вся в валунах. Это на карте – «3 км», а по горам – все пять, не меньше.
Но ничего, почти дошли. Метров двести до водопада оставалось…
И тут скрутило меня. Вообще на ровном месте. Хотя… Наверно, из-за подъёма. Может, и шашлык дело своё сделал. Чёртов желчный! Как же я задолбался! Лет с пятнадцати эти приступы.
Отстал от них.
– Други, погодите, а? Чего-то хреново мне.
Сел, прислонился спиной к отвесной стене. Так хуже только. Будто стальной обруч под рёбрами. И кто-то как винтом закручивает, стягивает его всё сильнее… И дышать, дышать почти нельзя. Горечь в горле, руки в поту. Противно. Лечь охота. И но-шпы нет с собой. Таблеток бы шесть – по две с интервалами, и через час как рукой снимет… Чёрт, ну не сдохну же я здесь!
А тут и вечер упал сверху, как капюшон. Резко. А я даже встать не мог. Милка фонарик из рюкзака выудила. Уже хорошо…
– Нет, не донесём мы его, – это Чиж. – Тропка узкая, втроём никак.
– И деревья внизу остались… носилки бы сделать. Кусты одни кругом, ежевика, толку-то от неё, – Милка вроде спокойно старалась говорить, но я слышал – голос уже со слезами.
– У тебя телефон его родных есть? – это Чиж её спросил.
– Нет…
– Звони в МЧС тогда.
– Связи нет, Никит… Совсем.
Он достал свой смартфон, поглядел, выматерился.
– Горы ваши грёбаные! Значит, так. Мышь, ты остаёшься тут. А я вниз. Там кафешка, явно кто-то есть. Вернусь с врачом, с людьми.
– Я здесь не останусь! А случись с Тёмкой чего? Ты фонарь заберёшь, так? Без него ноги переломаешь. А я здесь в темноте не смогу! И дольмены эти…
– Идите вы оба со своими дольменами!..
И вот сижу я тут, на тропе, скрюченный, вдоха не сделать. Фонарик светит в куст ежевики. А эти придурки стоят на самом краю. Мне их лиц не видно, но знаю – смотрят по-разному. Чиж на неё – почти как на врага, а Милка… Она, наоборот, затравленно и уже по-другому, не так, как раньше. И спорят: кому идти, кому остаться. А я понимаю, что если она согласится тут со мной сидеть, то всё, ни черта у них больше не выйдет, ревнивый он, друган мой. А если мы её одну отпустим туда, вниз, в ночь, то какие мы нафиг мужики?..
Встаю, цепляясь за камни:
– Пошли. Все вместе пошли. Справлюсь.
А Милка заплакала. Первый раз я видел, как она плачет.
Короче, встал я кое-как, уцепился за его плечо, побрели вниз. Впереди Милка с фонариком и рюкзаком, потом мы.
А потом поехала нога на валуне, резко дёрнулся, и как скрутило, думал, зубы искрошу. Не помню, заорал или нет. И всё – темнота.
Очнулся я не от боли, от сырости. Вода, вода… Льётся, шумит, клокочет. Бьёт по голове, стекает за шиворот. Чуть пошевелился – и боль вернулась сразу.
– Живой? Тёмыч, ты живой? Держись, братан, держись.
Чиж рядом, вот плечо его. Наощупь тянусь к нему, толкаю, мол, нормально. Понимаю, что сижу, прислонившись к чему-то твёрдому, надёжному. Вокруг темно, потоки воды льют куда-то вниз, грохочут. Цежу сквозь зубы:
– Куда ты меня… приволок?
– Куда надо. Сиди, не дёргайся. Милка вниз удрала, пока я с тобой возился. Я тебя ещё ниже метров на сто оттащил. Не спрашивай как. Но потом дождь хлынул.
– По прогнозу не должно бы… я смотрел.
– Хреново смотрел! А с горы с этой смыло бы нас, как котят. Но смотрю – тропка вбок и камень этот здоровый, хотя бы ровно около него. Не скользко. Вот и дотащил тебя.
Я понял, где мы. Выходит, в долгу я теперь перед тобой, Никитос. Да, вот так братанами и становятся.
Ливень нарастал. Чиж матерился в голос – всё равно эту грозу не перекричать – он остался без сигарет, и даже вечные его два коробка спичек вымокли насквозь, превратились в кашу.
Боль накатывала спазмами. Я зубы стискивал, чтоб не орать, лечь было невозможно – захлебнёшься. Он пытался усадить меня, голову хотя бы прикрыть, что-то ещё говорил, но сквозь грохот дождя я различал его через слово:
– …Прорвёмся, Тёмыч… Глыба-то тёплая, чуешь?
– Нет. Слушай, Чиж.
– Ну?
– Эта каменюка – Лунный камень, отец рассказывал. Если я сдохну, ты Олеську привези сюда.
– Кого-о-о? Ты нормальный?
– Хорош, а? Я без неё никак, – и только сказал, так и выгнуло меня снова в дугу.
– Тёмыч. Слушай сюда. Ты мне всякую чушь не городи, потом жалеть станешь. Ночь эта – не вечная. А с Олеськой уже пол-универа переспали.
– Заткнись.
Знаю я про неё. И про Лазарева знаю. Да ведь и про меня тоже все знают. Тёмочка, смазливый мальчик, девок меняет как перчатки. Так ли оно? Видимость… И девушка-москвичка – видимость, и старые фотки – и те не с моей, а с очередной Антохиной пассией.
И снова боль. Да сколько можно? Люди в горах руки-ноги ломают, а я, недоделанный, с желчным свалился. Что ж у меня всё не так-то, а?
Говорить я уже почти не мог, изнутри будто кромсали заживо, единичные спазмы слились в один постоянный. Хотелось только одного – биться затылком об этот камень.
– Ну чего, дурно? – Чиж снова тормошил меня.
– Нет, бля, зашибись.
– Терпи. Милка наверняка до дождя успела. Теперь на уши весь поселок поднимет.
– Поднимет. Надёжная она. Женишься?
– Тёмыч… Она больше как друг мне. Разные мы.
– Одинаковые. Женись, говорю.
– Женюсь, братан, женюсь. Как скажешь.
Не верил я ему. Он поддакивал просто. Просто потому, что плохо мне было, потому что не знал – дотянем мы до утра в горах или нет. Молнии… Или искры от проводов, не разберёшь. И уже ничего не разглядеть в этом буйстве, словно огромный великан злится, куражится… И опять – провал. Только голоса какие-то, голоса…
А когда я веки разлепил, вокруг – стены белые… И эти двое стоят. Ей-богу, как на похоронах, рожи скорбные. Хотел такую же скривить – нет, не вышло. Зажмурился. А Чиж вдруг выдал, но не мне, Милке:
– Мышь, – говорит. – Как из палаты выйдем – ты Новиковой набери.
– Кому?..
– Олеське позвони, говорю. Пусть едет, летит, ползёт. Как угодно. Но чтоб тут была, завтра же. Фиг знает, почему операцию отменили.
Вы не пробовали лезгинку станцевать на больничной койке? Нет? А у меня почти получилось!
Примерно так, опуская слишком откровенные подробности и диалоги, Артём расскажет родным эту историю, когда вернётся из больницы. О спорах врачей перед его выпиской он не узнает. Лечащий врач, хирург, принимавший его утром, ближе к обеду старательно расправит сложенную вчетверо бумагу, чтоб показать её другому доктору:
– Вот, пожалуйста! УЗИ от марта месяца, родственники в его документах нашли. Вы булыжник этот видите? Как он вообще с ним жил? Почему не удалил? Вот был у меня пациент с врождённым отсутствием желчного, и то лучше, чем такое в себе носить…
– Мистика какая-то, – пожмёт плечами заведующий отделением, сравнивая снимки. – Словно два разных человека… Но по симптомам и анамнезу – ночью явно было обострение желчнокаменной болезни.
– Коллега! Мы его сегодня трижды на аппаратах смотрели – чисто. И анализы как у младенца. Абсолютно здоров. Шок, переохлаждение – не больше.
– Да не бывает такого… Впрочем, что мы тут с вами друг другу голову морочим? К вечеру отпускайте парня. Купаться надо, загорать. Жару обещают…
III
А к вечеру Олеся будет уже в дороге. Она поедет почти автостопом. Всего за полдня – от короткого Милкиного звонка до урчания чужой машины – она сделала немыслимое: нашла в сети мужичка-попутчика, уговорила бабулю, чтоб та не звонила матери, сбегала к соседке, попросив помочь с домом и огородом, наобещав золотые горы. Закидала что-то бесполезное в сумку. Потом ухнула почти половину отложенных денег на длинное белое платье со странными неземными цветами. Платье, которое висело в их мрачной сельской лавке года полтора.
И теперь она едет. Дядька за рулем почти земляк, он торопится к семье в Адлер, подпевает «Рок-островам», сетует на тёщу-липучку и на дурного шефа, что задержал отпуск. И она успокаивается. Дремлет почти всю дорогу, доверчиво свернувшись на заднем сиденье. Боясь проснуться, боясь осознать, что снова делает глупость. «Ты нам очень нужна, Олесь». Просто звонок. Но там, за тысячи километров, там он, Артём, который каким-то чудом подарил им, своим друзьям, море. Девки из группы завидовали, а она смахивала упрямые слезинки. Лето же, как она может бабулю оставить? Николай Савельич уже лет пять обещает скважину, чтоб вода в доме была, а всё никак.
Но это мелочи. Сейчас сквозь сон поёт о кострах старичок Захаров, поёт Брянцев, Лепс, поёт Ёлка. Пусть, пусть глупость. Ей сказали: «Ты нужна. Артём в больнице». Вот она и в пути. И она не думает о плохом. Ни о чём не думает, копит силы.
Когда за окном начинают мелькать пальмы, она не успевает переодеться. В мятых спортивных штанах и короткой майке попадает на тенистый двор, вертит головой. Бежит навстречу ей осунувшаяся Милка. Выходит под навес Никита, простуженный, со ссадинами на виске. Кашляет, сморкается в платок и там же, в стариковском клетчатом платке, прячет улыбку. Люди, дети, а за ними всеми – его, Артёма, белая рубашка. Он пробирается к ней и бормочет какую-то чушь про ежевичные кусты. Сумбурно, не понять. И она просто тает – от того, что он здесь, среди родных, а не в больнице, тает от радушия, от воздуха, от колючек во дворе, от запахов острой еды, которую за шумным столом он пробует осторожно, как и она. Потом, после ужина, медленно плавится от страха, слушая, как парни застряли в горах. Плавится, вмиг растеряв всю свою язвительность, тает… и никак не может поймать его взгляд.
А потом они сидят на берегу, на тёплых скрипучих досках. И выпито, выцежено по глоточку домашнее вино из солидной пузатой бутылки. Вино, в котором вкус винограда, гранатовых косточек и южного солнца.
Когда прошла ночь? Зачем она прошла? Они просидели здесь, на деревянных мостках, что идут вдоль пляжа, с самого заката. Смотрели на людей, на катера и сонные теплоходы. Слушали музыку, пока не заснули оба телефона, но почти не говорили. Потому что слишком много нужно было сказать и обоим казалось – вот ещё чуть-чуть, и можно будет говорить о важном. Надо только продлить это время намёков и ожиданий. Ещё долго, ночь длинная, ещё успеется…
Олеся стоит перед ним, босая, в белом платье с фантастическими цветами. И видит, как в его глазах плещется море. Уже не то, в котором тонули звёзды, а бледно-зелёное, обещающее новый день…
– Пошли? – она кивает на волны.
Он качает головой:
– Нет, не хочу. Не люблю.
– А что ты любишь? Ну-ка?
Артём смеется, не в силах ответить.
Но она слышит. И нежность, и смущение, и желание.
Развернувшись, она бежит к самой кромке воды, удивительно легко бежит по крупной гальке, на ходу скидывая липкое от утренней влажности платье, оставляя его у самой кромки воды… Артём спрыгивает с настила, тянет через голову майку. Он думает: «Кто же ты, Олеська? Русалка? Сирена? Бегущая по волнам? Кто ты, приехавшая ко мне девчонка? Твоя бледная кожа – рассветное небо. Рыжие кудри – волны. Голос твой – перезвоны цикад…»
Он завороженно идёт к ней. Нет, к ним обоим – к морю и своей девушке, непознанной, глубокой, прозрачной. Заходит в волны, обнимает её тёплое, будто светящееся под водой тело, не призывно выставленное напоказ, а спрятанное, стыдливо укрытое морем. «Что я люблю, спрашиваешь? Твои волосы, Олеська, которые плывут по воде. Твои руки, что нитями водорослей обвивают, забирая дыхание. Ключицы твои, от которых я сам уплыву сейчас в небо, в невесомость…»
Да, море станет их космосом, их колыбелью. Море сбережёт их смех и касания рук. Оно будет тихонько шуршать мелкими камушками и нести на дальние берега вечные сокровища: отполированные стёклышки, осколки древних ракушек и солёный вкус их поцелуев. А кипарисы, что стоят вдоль берега ровной стеной, станут их стражами, воинами, няньками…
Они, все четверо, вернутся из Лазаревского загорелыми, поджарыми, повзрослевшими. Никита сразу же с вокзала уедет к матери, а Милку будет ждать дурное известие. Во время её отсутствия умер Грэй – быстро, за три дня, он сгорел то ли от энтерита, то ли от пищевого отравления, не помогли ни антибиотики, ни капельницы. Дедушка намеренно не сообщал ей – не хотел тревожить и матери запретил. Когда Милка вернётся домой, он отведёт её на остров, покажет неприметный холмик.
А у неё не останется сил горевать. За эти дни что-то важное изменилось. Что? Да просто она узнала другого Никиту. К тому, что его неторопливость, плавность в движениях и рассуждениях может сменяться минутной жёсткостью, категоричностью, быстротой – к этому она привыкла. Но жестокость другая, намеренная, продуманная, направленная конкретно не неё, стала ударом, подкосившим, сбившим с ног.
Племянницы Артёма, дочки-близняшки красавицы Гуналы, стеснительно скрывавшей третью свою беременность, радовались гостям больше всех. В первый же день, ещё до происшествия в горах, до приезда Олеськи, Артём развлекал девочек, пока остальные сидели за длинным столом под навесом, неспешно беседовали, ели, нахваливая, настоящий шашлык, хачапури, фаршированные баклажаны с орехами. На детский хохот Милка обернулась случайно, замерла, потом тихонько толкнула Никиту в бок, мол, смотри!
Артём что-то показывал близняшкам на экране смартфона, передразнивал кого-то, намеренно картавя больше, чем обычно, племяшки хватали его за руки, притоптывали, сгибались от смеха.
И Милка, щёки которой горели от коварного виноградного вина, вдруг вполголоса сказала, тронув Никиту за рукав, уверенная, что за общим гулом голосов, за переливчатой музыкой никто её не расслышит:
– Знаешь, а я хочу сына. От тебя – не девочку, сына.
А Никита наклонился к ней и со страшной улыбкой, обезобразившей его лицо, прошипел, копируя её интонацию, так же как Артём копировал кого-то невидимого:
– Знаешь, а я ненавижу детей. И близнецов тем более. И все эти их… погремушки.
Милка отпрянула от него – не как от чудовища, а как от собственного отражения в мутной речной воде – отражения безобразного, кривого…
Ночью она придёт к нему, сядет возле кровати на пол и будет говорить, спрашивать, малодушно сморкаясь, размазывая слёзы по щекам:
– Почему ты думаешь, что я не понимаю? Я понимаю, Никит! У меня… было такое. Давно было. Никто этого не знает, потому что гнусно это и противно. Хочешь, расскажи своё, я пойму!
Он промолчит, лёжа с открытыми немигающими глазами, смотря в потолок, желая только одного – чтобы она поскорее ушла. Она опустится лбом на его локоть.
– Ну хочешь, я расскажу?
Не поворачивая головы, высвободив руку методичным движением, вставив наушники, Чиж ответит:
– Нет. Мне это не ин-те-рес-но.
Ни застывшее его лицо, ни эту фразу Милке уже никогда не забыть.
IV
Летом в общежитии обычно никого нет. Не совсем легально, под предлогом помощи с ремонтом, в распоряжении Олеси и Артёма маленькая комнатка. Ночь, прохладная, августовская. Та самая, когда в небе танцуют метеоры, а с яблонь падают первые бесполезные плоды.
Артём проводит указательным пальцем по светлой линии, которая осталась от бретельки купальника, как по следу от падающей звезды:
– Лесь, а чего ты хочешь?
– Есть хочу. Слышишь, в пузе революция? – она тащит его руку к своему впалому животу.
Он бы защекотал её, конечно, но пока сопротивляется:
– Да погоди, неугомонная. От жизни чего ты хочешь?
– В смысле?
– В прямом. Вот какая у тебя мечта? Если уж море сбылось, следующая – какая?
– Чтобы бабушку по телеку показали, – она чеканит без паузы, будто заученно.
– Чего?..
– Я же с бабулей выросла, Тёмка.
– Это я знаю.
Олеська поворачивается на бок, обнимает его, тычется носом куда-то в ухо.
– Она всегда говорила: вот добраться бы до журналистов, всё бы сказала, что на душе наболело.
Он приподнимается на локте, заглядывает ей в глаза. «Нет, не может быть. Никто же не знает, что отец на телевидении сейчас». Спрашивает:
– А что наболело?
– Пенсия. Коммуналка. Лекарства дорогие. Мама мне присылает деньги, а ей – нет. Тяжело ей, Тёмка. И дом уже старый. Там столько работы – и крыша гнилая, и угол дальний проседать стал, и отчим никак скважину не сделает… Хоть бы денег дал, что ли.
– Значит, бабуля… Олеська, ты – Марго. Сцена: Фрида и платок.
– Какой платок?
– Ты «Мастера и Маргариту» читала?
– Ой, да ну нафиг, мне бегемотов по жизни хватает.
– Почитай. А теперь говори: что тебе самой хочется? Ты говори всё подряд, я разберусь.
Она задумывается. Минут пять, наверное, проходят в тишине. Артём накручивает на палец её локоны, она лежит на спине и качает воздухе голой ногой.
– А ты к поэзии как относишься? – Олеська наконец косится на него.
– Смотря к какой.
Она садится на кровати. Худые плечи, копна рыжих волос. Тянет одеяло. Артём усаживается рядом, укутывает и её, и себя. Она долго собирается, шевеля губами, а потом начинает читать шёпотом, слегка раскачиваясь:
– Ты укутай меня покрывалом
Из вечерней прохладной росы.
Мне фату водомерка связала
Переборами лапок босых.
⠀
И когда от резной паутинки
Отразится закатная тень,
Ты тиару из стеблей кувшинки
Мне на рыжие кудри надень.
Ветры завистью пышут и злостью:
Не по нраву им хрупкий шалаш.
И брезгливо касаются гости
Разносолов из глиняных чаш.
⠀
Шёпот: «Глянь – ни кареты, ни платья!»
Но сосновые лапы щедры:
Возле сонной скрипучей кровати
Ароматные стелют ковры.
⠀
Что для нас – и свежо, и бесценно,
Для других – совестливый укол.
Не тревожься! Мы выстроим стену –
Острозубый сплошной частокол.
Финальные строчки она почти кричит, пусть и не в полный голос, но с таким вызовом, так твёрдо и гордо, что у Артёма холодеет спина – от восторга перед её силой. Он резко поднимается, спохватывается, надевает шорты, идёт к двери, потом обратно, снова делает круг по комнате. Останавливается прямо перед ней:
– Что ты делаешь на биофаке?
– Ты не понял…
– Я – понял. Это потом. Мне надо знать – у тебя есть ещё стихи?
– Ты ничего не понял!
Олеська вскакивает, изо всех сил молотит его кулаками по груди, по плечам:
– Что я хочу, ты спрашиваешь, да? Я! хочу! платье! С пайетками! Красное! И туфли на шпильке!
Артём заливается смехом, уворачивается:
– Красное? Точно красное?
– Точно! И розы хочу! Сто штук! Нет, триста!
– Как же вы в гневе восхитительны… Точно – Марго! – он приседает под тяжестью прилетевшей-таки подушки. – Ах так! Ну держись, ведьма рыжая!
Им уже кто-то барабанит снизу, наверное, таджики-рабочие, но они целуются и ничего не слышат.
V
Дня через два Артём говорит по телефону. Диалог деловой и краткий.
– Отец. Я же никогда ничего не просил. Остальное уже всё решено. И Виктор машину обещал. Помнишь Виктора?
– Да. А деньги?
– У меня были, копирайтинг тоже доход приносит.
– Но завтра!.. Ты шутишь, Артём? Где я свет возьму, где людей?
– Найди, я прошу. И ещё, отец, это очень важно. В Осинках, Гайдара, семь, там бабушка…








