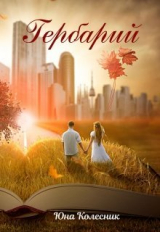
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Пролог
– Ты на что деньги копила, бестолочь? Телефон вроде хотела, скажешь, нет? Паршивый характер, ох паршивый! И запомни, дочь, я к этому отродью и пальцем не прикоснусь!
Милка кивает – всё равно уже финал, мама прокричалась. А дедушка за её спиной подмигивает, рассыпая вокруг глаз лучики-морщинки, которые словно шепчут: «Ничего, ничего, Люсенька, потерпи…» И она снова кивает, терпеливо дожидаясь, когда мама развернётся и уйдёт к себе в комнату.
Какой же длинный день, какой длинный…
Пару часов назад сбоку от неё натужно скрипела толстая резина, растягиваясь на поворотах, а под ногами вибрировала круглая железяка. Милка, девочка лет одиннадцати, балансировала на ней, прислонившись спиной к облезлому автобусному поручню, держа за пазухой что-то маленькое и, видимо, очень-очень дорогое.
Она с самого утра бродила по рынку, заглядывая в блестящие глазёнки. Но кто-то из кандидатов сладко спал, кто-то мусолил печеньку, а кого-то хватали за шкирку и совали в редкую толпу, как поношенную шапку. Наконец, нарезая третий или четвёртый круг, Милка поняла – нашла. Вот же оно! То самое, которое пытается сбежать из корзинки и верещит, когда его за холку хватают острые зубы. Точно, оно: Счастью всегда тесно, даже за уютными плетёными стенками, и особенно если его охраняют, рыча и прижимая лапой.
Здоровый дядька в камуфляжной фуфайке долго и радостно вещал ей про оформление документов, задавал вопросы про мужчин-охотников в семье… Её кроссовки тоскливо нюхал сухой коричневый нос, а она держала перед собой пухлое вертлявое тельце и не знала, как освободить руку, чтобы рассчитаться, забрать бумаги и какую-то важную фланелевую тряпицу. Потом уверенная мужская пятерня усадила тельце ей под серую дутую куртку и, забрав деньги, сунула в карман визитку и всё остальное.
Она не помнила, как добежала до остановки под нарастающим ветром: сквозь весь рынок, вдоль палаток на улице, через тоннель подземного перехода, мимо универмага, по бесконечной кишке ещё одного тоннеля… Пришла в себя, вдохнув знакомый запах плавающих в жутковатой жиже беляшей. Отдышалась. Заглянула за пазуху и обомлела – спит!
Пыхтя, подкатил автобус. Неуклюжий, двойной, с гармошкой в каких-то рыжих подпалинах, похожий на мокрого дождевого червя. Надо было ехать. Милка пробралась в середину кругляша, к поручням, потому что знала – там всегда свободней. На неё смотрели люди: старушка с тележкой, пьяненький мужичок, молодая толстуха с зализанной чёлкой. Они смотрели и улыбались, потому что видели: девочка бережно везёт в автобусе своё Счастье. А она, изучая его, любовалась и тайком вдыхала неведомый ранее запах. Запах молока. Запах предстоящей заботы и скулящей беспомощности.
У Счастья были ушки размером с монетку и жесткая серая шерстка. Милка взволновалась: «Пять тысяч – это много, очень много. А вдруг на рынке тебя обманули? А вдруг Счастье так и останется смешным и невзрачным? А вдруг не будет длинных шелковистых ушей? И россыпи пятнышек на спинке…» Она чуть задумалась, но потом дёрнула подбородком: «Ну и пусть! Это – моё! Первое, долгожданное. А значит, всё равно какое».
Автобусная гармошка скрипела громче, и от этого Счастье проснулось, забеспокоилось и стало скрестись под курткой, а Милка удивилась, подняв брови: разве собаки умеют царапаться?
Минут через сорок она осторожно, будто с хрустальный вазой, купленной в подарок учителю на собранные всем классом деньги, вышла на своей остановке. И замедлив шаг, снова утонула в волнении: поймут ли дома, какое чудо она привезла? Справится ли она сама?
Беги домой, девочка, дождь начинается. Видишь, как покрываются каплями кленовые листья на брусчатке, становясь яркими, как на детских аппликациях? Беги. Не бойся! Из лоскутков вырастут отличные уши, как и положено – до середины влажного любопытного носа. Из невнятного сероватого оттенка получится редкий кофейно-пегий окрас. И будет удивительная способность к дрессировке, несвойственная породе. И эксперты на рингах не раз поставят вас впереди сердитых усатых охотников. И мама, твоя стальная мама, в итоге привяжется к этому щенку.
А ты будешь жить и удивляться: вечной печали в карих глазах, преданности и уму, озорству и хитрости… Пониманию, которого людям никогда не достичь.
Беги, девочка.
Но Милка стоит не шевелясь. Смотрит на мокрые листья, что распахнули свои объятья. И впервые понимает, до чего же она сама похожа на них – вечным ожиданием, что чья-то рука поднимет, унесёт в тепло, согреет, высушит слёзы.
Наконец она натянет на голову капюшон и побежит, неловко лавируя, прямо по центру тротуара, где меньше листьев, не прячась под деревьями, чтобы не испортить разноцветье, не обидеть ненароком, не навредить.
Эта картинка – влажный кленовый лист, собачье поскуливание – откуда-то из середины её, Милкиного, гербария. В нём есть страницы, которые почти пусты – всего один бутон на них, а вот другие заполнены сплошь, свободного места не разглядеть. Те из них, что вклеены, подписаны ею самой – засмотрены до прозрачности. А те, что подарены друзьями и знакомыми – они как новые, аккуратные, шершавые, кропотливо собранные, но так и не разгаданные.
Лист первый. Милка. Лютик едкий (лат. Ranunculus acris)
I
Когда Милке было примерно пять с половиной, она взяла и ушла из дома.
Днём, ещё до обеда, мальчишки кидали в неё комья засохшей глины, обзывались: «Ублюдина!» Она прибежала к матери, но та кружилась на кухне, дёрнула бровью. Тогда Милка прокралась в комнату к отцу. Тот лежал на спине, дышал перегаром. Милка сморщила нос, но потрогала его за щёку. Отец отмахнулся, повернулся к стене.
И она ушла. Из ведра в сенях набрала воды в бутылку из-под кефира, стащила горсть сухарей с печки, дёрнула платок с вешалки. И ушла.
Закусив губу, долго карабкалась наверх. Под ногами было намешано всего – хвоя, шишки, корешки. Ветки кустов хватали её за подол платья. Она добралась до прогалины, что заметна из деревни, и замерла. Под горой как на ладони рассыпались дома, мельтешили фигурки людей. Лето на дворе. И во дворах – лето. Шум, хлопоты. Слышно, как лают собаки, визжат пилы, вот на речке замелькали светлые пятна – соседки по старинке пришли полоскать бельё в ледяных струях.
Милка запрокинула голову, уставилась прямо в небо. Там, в вышине, качались от ветра деревья. Облака летели, цепляясь за верхушки кедров. Ей хочется забраться наверх, поймать за кончик эту белую подушку, попросить: «Отвези меня, облачко, обратно – к дедуле…» И полететь.
Она расстелила на траве бабкин выцветший платок, уселась, подогнув коленки. И время поплыло…
Спешили муравьи, она шёпотом спрашивала их: «Давайте я вам домик построю? Из хвоинок». Трещали в ветвях рябчики, сыпали ей на плечи шелухой от орешков. Она смеялась: «Песенку хотите?» Заяц на секунду выглянул из-за куста, распластав по спине уши. «Сухарик будешь?» – протянула ему руку, но не успела дотронуться, как тот взвился в воздух и удрал.
Потом Милка задремала, уткнувшись носом в колени. Поляна была открытой, продувалась ветром, здесь неоткуда было взяться клещам, почти не тревожили комары. Здесь она была своей – и маленькой таёжной феей, и эльфом, и гномом…
Но пришли сумерки, с земли поднялся холод, разбудил, прогнал её домой.
Она медленно, будто ещё в полусне, спускалась по тропке, ещё медленнее шагала за огородами, потом по улице, подёргивая плечами от озноба. Просунув руку сквозь рейки, изнутри открыла калитку. Мама под навесом мыла посуду, кивнула, сухо улыбнулась. Из трубы маленькой баньки нехотя крался дымок. Отец сидел на крыльце, держал в руках кружку. Всё было тихо. «И никто меня не потерял», – подумала Милка, и от этого стало ещё обиднее. Она попыталась скорее проскользнуть в дом, но отцовский голос остановил её:
– Покушай молочка, Мил?
– Молоко не кушают, его пьют, – надулась, но пристроилась рядом, потому что вдруг отчётливо захотела к нему, на колени.
Он понял, потянул её к себе за подол:
– Коленки холоднющие. Гуляла?
– Ага. На горе, – натянутой леской лопнула обида. – Зайчик приходил, я ему сухарик давала, не взял. И муравьи…
– Стоп. На горе? С кем?
– Ни с кем.
Он поставил её на ноги. Ухватил за плечи. Топором высек слова:
– Ты. Одна. Ходила. В тайгу?
– Да…
– Ты же знаешь, дочь! Нель-зя!
– Знаю. Ты спал…
Он молча обнял её. Крепко, не вздохнуть…
К Милке часто приходит это видение-воспоминание. В нём на следующий день она проснётся от свиста и криков, выскочит на крыльцо, увидит, как народ, собравшийся на улице, смотрит на гору. Там, над деревней, на той самой прогалине, бродит мишка. И сквозь прозрачный воздух очень чётко видно, как он недовольно нюхает землю, трясёт головой, встаёт на задние лапы. «Ворчит, наверное. Сердится, как папка…» – подумает Милка, обернётся и обожжётся об отцовский взгляд.
Потом как-то слишком быстро настанет зима, наметёт сугробы. Даже безлунными ночами снег будет словно светиться, проникая сиянием своим в небольшие, протыканные ватой оконца, и проложенные этим светом дорожки так и будут манить: «Пробегись…»
II
Милка не любила детский сад и каждый вечер подолгу возилась, придумывая, как бы с утра остаться дома.
Но в ту ночь она не спала по другой причине. Около десяти, когда дом почти затих и бормотала лишь печка, Милка сползла с высокой жаркой кровати, на которой спала вместе с бабкой Анной, пробралась в большую комнату. От босых шажочков скрипели деревянные половицы, звякали игрушки на ёлке. Она думала: «А мама говорит, это не ёлка, это кедр, только маленький. Пушистый… И шишки настоящие. Запах от них во всём доме. Для чего игрушки повесили? И дождик этот дурацкий. Всю красоту испортили».
Здесь, на стуле между родительским диваном и звенящим украшенным деревом, поверх Милкиного платьица, лежал он, Рыжик. От него пахло таёжным воздухом, снегом, диким зверем. Зачем его принесли домой? Беличьи хвостики – разноцветные – хранились высоко, на шкафу. Они были другими, бестолковыми, бездушными. Милка тихонько топнула ногой: «А Рыжик – живой. Он хочет обратно!»
Но мама вечером наскоро пришила его к пояску от платья: «Будешь Лисичкой на утреннике».
Отец с мужиками вчера вернулся с охоты. Это всегда радость, их возвращение. Звонко лаяли голодные собаки. Топилась баня. Допоздна в кухне сидели бородатые дядьки. Смеялись, курили, ели пельмени, вели неспешные разговоры:
– Песцы, соболя… рябчиков-то сколько…
– А на медведя – рано…
– Андрюха-то! Лису добыл! Редкость в наших краях.
– Милке подарок!
– Нинка! Тащи лисью шкуру! Хвост – долой!
– Доча, ну-ка, примерь!
Они сажали её на колени, дышали в лицо табаком и водкой, отец довольно улыбался. А Рыжик – яркий, длинный, до самого пола, с белым кончиком, переходил из одних грубых рук в другие, окутывал её шею и голову, щекотал…
Она улыбнулась, вспоминая, быстро стянула пояс вместе с Рыжиком со стула и унесла с собой в кровать. Так и проснулась с ним в обнимку.
Утро было колючее. Как и Милкино платье – шерстяное, ржаво-коричневое. Всё не так складывалось этим утром. Отец зло гремел ковшиком в сенях, мама наспех заплетала ей косы, дёргала волосы, торопилась и тоже сердилась.
– Ну всё. Дойдешь сама? Хвост не потеряй!
Милка кивнула. Одной идти не первый раз. До садика близко: вниз с горочки, налево и пройти два дома. Дорога всегда расчищена, всегда горят фонари – с самых сумерек до яркого дневного света. Иначе нельзя: здесь ездят лесовозы.
Она спустилась вниз, скользя валенками. Так. Теперь – самое трудное. Снять рукавички. Шубу расстегнуть. Развязать поясок. Сразу же замёрзли пальцы, а узел, тугой, крепкий, никак не поддавался. Справившись, вытянула-таки поясок. Вот и сугроб у забора. Там, за сараями, за огородами – речка, сразу за ней – тайга.
Она усадила Рыжика в снег, погладила, слегка подтолкнула:
– Ну-ка, Рыжик. Давай домой. А я пойду, пора мне.
Милка прошла шагов десять, на ходу застёгивая шубу. Оглянулась. В утреннем неровном свете из сугроба на неё сверкнули хитрые глазки. Вверх костром взметнулось рыжее пламя… И пропало, оставив лишь примятый снег. И ощущение чуда оставив – на долгие годы. Чуда, которое можно сделать своими руками.
Гораздо позже она узнает, что в тот день собаки как угорелые носились по деревне с лисьим хвостом. Дрались, трепали его, оставив в итоге лишь пару невнятных клочков. Она узнает, как в ярости бушевал отец, жалея добычу, а потом обошёл все дворы, уговаривая соседей молчать. Узнает, почему перемигивались мужики, встречая её на улице: «Лисичка наша идёт».
Но пройдёт и зима, и весна с ледоходом. Щербатые льдины снова снесут старый деревянный мост. Зелёным душным одеялом лето окутает всё вокруг – и сопки, покрытые тайгой, и постепенно вымирающую деревню, и реку, свободную, бурлящую…
III
Днём стояла жара, а холод, губительный для огородов, заставляющий Милку, когда она умывалась, скакать по веранде в сорочке, поджимая пальцы ног, холод этот опускался ночью.
Однажды субботним утром отец повёз её «прогуляться» – километров пять вверх по реке. Поставив мотоцикл на обочине, они вдвоём сошли, почти съехали по мелким сыпучим камням на берег. Отец снял рубашку, подвернул штаны и долго плескался, фыркая, стоя по щиколотку в воде. Милке «ножки помочить» он не разрешил, и она ушла за кустарник собирать ягоды.
– Доча! Ну-ка, глянь, что за паразит на спине у меня? – крикнул отец минут через десять, голос его был и требовательным, и чуть шутливым.
Отец сидел на корточках лицом к реке, курил, на голых подрагивающих лопатках золотились капельки пота. Милка спустилась по крутому берегу, щурясь, облизывая на ходу перепачканные земляникой пальцы, и опасливо остановилась на расстоянии.
– Слепень, пап. Большущий!
– Так прихлопни! – отцовские плечи нетерпеливо дрогнули.
Милка размахнулась, но ударила она не по треугольному большеголовому тельцу, а рядом, нарочно – просто напугать, не раздавить. Слепень загудел, улетая. Так же сердито заворчал отец:
– Эх ты, девчонка! Промазала? Где не надо, так смелая… А если б он меня сожрал?
Он вдруг вскочил, расставив руки, и побежал за хохочущей Милкой по отмели, по сухим, светлым, прогретым солнцем камням. «Не догнал, не поймал! – дразнилась про себя Милка, гордясь. – Я здоровски бегаю!»
Потом они ели варёные яйца с солью и черемшой, отмахиваясь от комаров и слепней ветками, срезанными отцовским охотничьим ножиком, похожим на маленькую широкую саблю. Смотрели на речку, вспоминали названия рыб: хариус, ленок, елец. Отец пил пиво из коричневых стеклянных бутылок, Милка – чай из блестящего термоса.
Говорливая речка шумела, перекатывая камни, словно нелущеные кедровые орешки за щекой – легко, играючи. На порогах завивалась пена, пушистая, непослушная, как мамины кудри. Милка спросила:
– Она торопится?
Отцовские глаза были близко-близко. Зеленоватые, озорные, внимательные.
– Река-то? Спешит, правду говоришь.
– А зачем?
– Так дружок у неё там, – отец махнул рукой куда-то вдаль, где кедры кивали, поддакивая. – Енисеем зовут. Он, знаешь, какой! Красавец! И силища у него… Вот подрастёшь, я тебя в гости к нему свезу. Поедешь со мной в Красноярск?
– Поеду, – Милка опустила взгляд, потому что хотелось, ужас как хотелось прижаться, уткнуться в его рыжую мягкую бороду. «И взлететь высоко-высоко, и визжать, и болтать ногами в воздухе. Но нельзя. Наверное».
Ей было уже почти шесть, год прошёл, как они с мамой приехали сюда к отцу, но Милка ещё не совсем привыкла, часто стеснялась, ещё чаще – скучала по городу, по дедушке.
Но в такие дни, когда суетливый посёлок с разбитой лесовозами дорогой оставался за поворотом, а вокруг танцевали дикие хвойные запахи, город покрывался зыбкой пеленой, становился призрачным, нереальным.
– Чего затуманилась? – отец легонько дёрнул её за косу. – Вставай, собираться пора. Мать, небось, всё уж давно намыла-настирала, да и потеряла нас с тобой.
Над укутанными тайгой сопками задышал ветер, отгоняя жару и гнуса. Отец поёжился, натянул клетчатую рубашку, поднялся, долго и тщательно тряс покрывало, затем свернул его и убрал тугое брёвнышко в рюкзак, к термосу. Сполоснул нож в воде, вытер насухо о рукав, аккуратно вставил в кожаный чехол.
Милка наблюдала за ним, а сама всё думала о Енисее. И в голове её сплеталось воедино: Енисей-Елисей, царевич из книжки, тот самый, что горюет, ищет свою царевну, а та, оказывается, вовсе не в пещере, она же вот – прозрачная, звонкая, кудрявая, сама бежит навстречу!
Они выбрались от реки к дороге. У мотоцикла, что вальяжно стоял на обочине, оперевшись на подножку, перед сиденьем пузатился ярко-красный бак – Милкино законное место. Отец привычно поднял её, усадил. Она заёрзала, устраиваясь поудобней.
Отец пристроил рюкзак, набитый черемшой, на сиденье, закрепил ремнём, повесил на руль брезентовый мешок с весело позвякивающими пустыми бутылками.
– Погоди-ка, дочь, я на минутку. Пивко наружу просится.
Милка кивнула, слегка смутившись, но, когда приземистая, почти квадратная отцовская фигура скрылась в зарослях тальника, живо повернулась боком и запустила руку в рюкзачный карман, нащупав продолговатый чехол.
Ей хотелось только потрогать лезвие ножа, глянуть на него вблизи. «Интересно же – взаправду такое острое? Или нет? Может, кустам и веткам не больно вовсе, когда их вот так – р-раз! – и режут?» Ножик послушно пополз наружу, но вдруг оказался невероятно тяжёлым, ладошки – скользкими от волнения, и Милка не смогла удержать рукоятку, выточенную под могучую лапищу сибиряка-охотника. Нож стал падать, а когда она попыталась его поймать, отскочил, полоснул её по левой ноге, ровно и беззвучно отсекая брючину вместе с кожей на икре, и криво воткнулся в землю рядом с передним колесом.
Кровь не брызнула, она взбухла в продолговатой ране, замерла, а потом полилась ручейками под штанишками, по кроссовкам, закапала на землю – такая же алая, один в один, как краска на бензобаке.
– Папка, – Милка пискнула. – Папка! – закричала, задёргала ногой, вцепившись в руль, боясь свалиться и сделать только хуже.
– Ах ты ж бедовая!
Отец подскочил, заметался вначале, потом каким-то лопухом обернул Милкину икру, крепко-накрепко замотав сверху промасленным полотенцем.
Дорогу Милка не помнила, только две широкие руки по бокам и хриплый, с пивным сладковатым духом шёпот:
– Не бойся, слышишь? Ерунда это, заживёт, доча, заживёт…
Дома, морщась и наблюдая за плящущими по ноге пузырьками перекиси, она сидела у матери на коленях. Мамины руки ощупывали её с ног до головы, одновременно качая, и от этих резких, нервных движений коса Милкина прыгала влево-вправо, а рана начала наливаться болью и противным туканьем.
– А если столбняк, Андрей? А если заражение?
– Нин, ерунды не говори. Кожу ведь срезало, тонкий совсем шматок, через неделю затянется, и следа не будет, – говорил отец, сидя на корточках перед ними.
– Маслом облепиховым надо смазать, и вся недолга, – это бабка Анна проскрипела из-за стола, отодвинув пустую тарелку.
Мама покачала головой, будто не расслышав:
– Я так и знала, так и знала! И Валька, алкаш, со вчерашнего дня в загуле, амбулатория на замке!
Милка с трудом, но вспомнила дядю Валентина, поселкового фельдшера, толстого, румяного, как матрёшка. Мама уже выдавила Милке на ногу толстый слой белой мази, и теперь в руках её мелькал бинт. Самый кончик его выскользнул, покатился по полу, разматываясь.
– Да что же это за жизнь-то, а? – мама вдруг почти взвизгнула, заставив Милку недоумённо обернуться.
Отец подал ей бинт, развёл руками:
– А что ты хочешь? Выходные. Народ отдыхает.
Мама резко пересадила Милку на табурет, крикнула в лицо отцу:
– Выходные, значит? Ерунда, значит? Как? Как тебе можно доверить ребёнка? От самого разит за километр!
– Сколько можно, Нин, хватит. Говорю же – виноват, не доглядел!
– А ты и не обязан! – из-под седых бровей снова загорелись глаза бабки Анны. – Ты цельную неделю вкалывал, дак и в субботу никакого житья не дают. Видано ли? Мужик с дитём нянькается!
Мамины руки напряглись, она наклонилась, надкусила край бинта, разорвала его, завязала два хвостика в узел. Бабка не спеша встала, прошла к печи, обернулась:
– У тебя, Нинка, всё не как у людей! Навязалась на нашу голову… – она с силой брякнула крышкой большой кастрюли. – Щи и те с картошкой!
Мама тоже вскочила, кинула на стол тюбик с мазью.
– А вы не ели, не ели бы, Анна Сергевна, раз не нравится!
Бабка Анна стала вдруг большой и тёмной. Вместо тягучего скрипа голос её превратился в громовой грохот, Милке показалось, что под нависшими бровями загорелась пара шаровых молний.
– Не сметь на меня орать! Ты кто здесь, а? Припёрлась в чужой дом, ладно бы жена! Дак ведь и не расписаны, стыд-то какой! И Андрюхина ли эта девка – ещё вопрос!
– Мать, – отец не спеша подошёл к ней, заглянул в лицо, – ты границы-то знай!
– Костью в горле мы у вас, Анна Сергеевна, костью! – мама оттолкнула его, топнула. – Да если б вы его возле юбки своей не держали, он и не пил бы, и уехал бы со мной! Давным-давно уехал бы!
Отец плюнул, харкнул прямо на чисто вымытый кухонный пол, развернулся и выскочил на веранду, кулачищем саданув по стене так, что со старой печки посыпалась белая пыль.
Мама с бабкой Анной и дальше кричали. Милка заткнула уши, проковыляла в комнату, бочком влезла на диван, уселась, баюкая, кутая в одеяло ноющую ногу.
Ночью отец сломал и дверь, и швабру, изнутри просунутую в дверную ручку. Ввалившись в комнату, кричал:
– Дуры вы, дуры!
А потом плакал возле дивана, обнимая мамин коричневый чемодан и зачем-то Милкину плюшевую обезьяну.
Отец поедет с ними, конечно, поедет. И будет жить в их квартире, удивляться лифту и количеству автомобилей на улицах, будет снова спать с мамой на диване, только в маленькой комнате. Будет долго и жарко спорить с дедушкой по ночам, и курить в форточку, и прижимать к себе горячую, сонную, пришлепавшую на их такие родные голоса Милку, и кататься с ней в парке на старом колесе обозрения.
А потом отец начнёт тосковать, потому что у завода, куда он устроится слесарем, закончится и госзаказ, и зарплата. «Работать на дядю» ему будет противно, и тесно станет в «панельной конуре», и совсем некстати полетят от бабки Анны телеграммы – о давлении, о том, что амбулаторию насовсем закрыли, что леспромхоз вконец развалился, и о том, что даже Сорокины собирают манатки, а ей и ехать-то некуда, и дом никому не продашь. И мама снова будет кричать и плакать. И выливать пиво в раковину, и хлестать отца полотенцем, когда тот встанет на голову прямо в их крохотной прихожей, чтобы доказать, что он «как стекло». Пройдёт всего полгода, и мама сама купит отцу билет на самолёт…
Спустя месяц после его отъезда Милка тоже начнёт тосковать. Она не нуждалась ни в книжках, ни куклах, была и мебель, и мягкие слоны и собаки, но частенько её заставали за странным занятием – она просто кружилась по комнате под музыку, которая слышна была из квартиры снизу, где жила молодая разбитная девица.
И тогда мама решится отвести её на танцы…
IV
…Горячева, известная во всём городе хореограф, повернула к ним обеим, застывшим на пороге, точёную, как у Нефертити, голову и прокаркала на весь зал:
– О! Какая клуша! Поздно вам уже, поздно, говорила же! – подошла ближе. – Ну, показывайте, чего она может, клушка ваша?
Милка, ради смотрин одетая в белую футболку, чешки и шортики, покружилась, отличила марш от польки, сделала мостик, легко встала во все пять позиций. Танцевать хотелось.
Горячева крякнула:
– Мышцы негодные, гипотонус. Но выворот хорош и ритм чует. Ладно! Ищите мальчика. Без пары точно не возьму. И вот ещё что, – она резко наклонилась к Милке. – На завтрак-то чего сегодня ела? Макароны, небось?
Милка удивилась. Вытаращилась на горячевский тонкий, круто изогнутый нос. На завтрак была лапша – домашняя, плоская, сначала обжаренная до треска и кофейного цвета на сухой сковородке, а уж потом сваренная в ковшике, и сверху – волнистый кусочек масла, тающий, текучий…
Милка сглотнула, а Горячева коротко и удовлетворенно дёрнула головой:
– Точно, макароны. И с маслом, и с сыром. На тёрочке который. Вы, маман, пожалели бы клушку свою.
Мама, всё это время так и стоявшая у дверей, нахмурилась и в итоге холодно ответила:
– Благодарю, Маргарита Фёдоровна. Я вас услышала.
Готовил каждый день и кормил Милку всё равно дедушка. А дедушка у нас кто? А повар он у нас. Профессионал, потому, считай, волшебник.
В общем, мальчика искать не стали, через полгода Милка органично вписалась в школьный фольклорный ансамбль. Ложки-трещотки, частушки-колядки, голые локотки и палец на пухлой щёчке. Коса, расшитый крупными бусинами и стеклярусом кокошник, сарафан. Колорит!
Саму школу Милка никогда особо не любила, но училась спокойно и старательно, оценки зарабатывала бесконечной зубрёжкой, читала мало и очень выборочно. Из предметов уважением она прониклась только к биологии, штук десять альбомов изрисовала всякими инфузориями. Из подруг постоянной осталась лишь толстая и грубоватая Василина, которая тарахтела, как трактор, и очень хотела собаку, в идеале лабрадора, как у президента. А Милка много гуляла с Грэем после уроков, и для Васьки-Василины это был отличный способ смотаться из дома.
К началу седьмого класса у Милки наконец-то отросла чёлка, на спор с Василиной выстриженная в пятом. Но очки окончательно испортили «сценический образ», и прямо первого сентября музычка объявила, что «Соколова больше не в формате». Тогда-то, словно компенсация, и свалился с неба он, Мельников. Васька зло шептала в телефонную трубку: «Из Шаранги какой-то переехал, дебилоид, а туда же – танцевать!»
Он всегда выходил на сцену в простой белой рубашке. И брюки были вроде обычные, чёрные, со стрелками… Милка думала: «Почему он не боится? Вот так – один?»
В их школе никто раньше так не танцевал. Народные – да, целый ансамбль свой, гордость директора. Восточные – тоже да. И европейские – танго, вальсы, ну вот это вот всё: «Когда уйдём со школьного двора…» Но не латину. Латину не танцевал никто.
Что они тормошили, что вытаскивали из Милки эти вьющиеся, на волнах качающие мелодии, эти его движения рук и узких бёдер? Она стеснялась, она жалела, что не ходит больше на репетиции, искала никчёмные поводы заглянуть в зал, замирала на концертах, боясь пропустить хоть секунду, и нарочно вяло хлопала, и невпопад смеялась, опасаясь, что кто-нибудь заметит.
Но протанцевал он всего полгода – с сентября по январь, один, без девочки – а потом перестал. Васька нелогично рубанула: «И правильно! Стрёмно это – задницей крутить. Парни-то ржут, чего он, идиот, позориться?»
После седьмого класса, летом, дурацким, холодным и ветреным летом, когда она топала с собакой мимо речки, ей свистнули. Милка сразу поняла, что ей. И хотя мама говорила: «Никогда, слышишь, никогда, не оборачивайся на свист! Это унизительно!», она оглянулась, конечно.
Мельников стоял на песчаной отмели, ловко, не глядя, складывая удочку. Кивнул на настороженного Милкиного пса:
– Это твоя, что ли?
– Мой. Грэй.
– Ты куда с ним ходишь?
Она пожала плечами. Что значит – куда? Когда как. Но ответила, что-то почуяв:
– На остров.
– И сейчас пойдёшь? Погодишь минут десять? Шмотки кину и вернусь, всё равно не клюёт ни хрена – ветер.
Милка замотала головой. Сейчас надо было домой. Холодно, Грэй наплавался, опасно с ним мокрым гулять, и так почки лечили в марте.
– Нет. В семь часов пойду.
– Ну и ладушки. Тогда в семь у моста.
И отвернулся, и пошёл, будто их и не было тут совсем – девочки-в-очках и вертлявого спаниеля.
В семь часов она тащила Грэя на коротком поводке, потому что тот снова норовил нырнуть. Небо давило, ветер тревожил, морщил речку, тянул Грэевы уши назад.
Милке пришлось надеть куртку – старую, с уже короткими, вытертыми на манжетах рукавами. Ей было противно: из-за того, что нашипела на дедушку, что выглядит как дура, что упрямый пёс тормозит возле каждой скамейки на бульваре. Ещё из-за того, что поверила.
А он и правда ждал у моста. Вернее, под ним. Выскочил, словно чёрт из табакерки, Грэй тявкнул, Милка вздрогнула, не успев ни обрадоваться, ни испугаться.
Вглубь острова они не пошли, шагали по прибрежной тропинке: впереди собака, потом она, потом Мельников. Молчали, пока не дошли до обрыва, над которым свешивались корявые ветви старого, заброшенного сада. Откуда-то сбоку, отодвинув тучность облаков, словно встречая их, здороваясь, выкатилось солнце.
– Смотри-ка чего тут!
Мельников живо залез на раскоряченное временем и неухоженностью дерево. Милка даже улыбнулась: «Маугли». Она бы тоже залезла, но – клушка, стыдно. Он уселся там, наверху, и стал кидать в воду маленькие, незрелые ещё яблоки. Одни тонули сразу, взбулькивая, другие ненадолго застывали в неподвижности, а затем начинали тихонько плыть, подчиняясь то ли ветру, то ли невидимому для глаз течению. Грэй, перебирая лапами, в восторге следил за процессом, на каждый бульк кивая головой, и всё порывался кинуться с обрыва. Но Милка в ответ на просящий собачий взгляд сдвинула брови и, разозлившись, крикнула вверх:
– Не надо! Не надо, слышишь?
– Чего?
– Не рви! Яблоки же будут.
– Какие ж это яблоки? Китайка. Да и кому они здесь нужны-то? Бомжам на закуску?
Милка отвернулась, отошла на пару шагов, теребя, тормоша где-то по дороге сорванную метёлку осоки. Потом и вовсе спустилась по доскам-ступеням на мостки, метра на три уходящие в реку.
– А эти? Чего, тоже не надо?
Через плечо он сунул ей в лицо липовый цвет – маленький, меньше ладони высотой, растрёпанный букетик. На тонких ножках, от которых вверх топорщились овальные листки жёлто-салатового цвета, россыпью светились звёздочки. На лучиках-тычинках – шарики, словно бисеринки. Они слегка подрагивали в его руке, а она смотрела.
– Выкинуть, что ль?
– Нет.
Милка рассмеялась, и смех её точно также раскатился по реке, как кислые, твёрдые, дикие яблочки.
Она выхватила былинки, и спрятала их в карман, и вжихнула молнией.
Он вдруг сказал:
– Снимай-ка куртку.
– Зачем?
– Там видно будет.
Видно ничего не было, потому что он крепко взял её за обе руки, и перед её глазами оказался его подбородок с белёсым давнишним шрамом под нижней губой. Она попыталась опустить голову, но Мельников не дал:
– Просто слушать меня, голову поднять, на ноги не смотреть! На четыре счёта, с четвёртого. Четыре. Раз-два, три. Медленно. Быстро-быстро, медленно.
Румба… Она узнала! И было её, этой румбы, от силы минут пять, потому что потом Грэй, который замучался ждать и решил, что это игра такая, чуть не свалил их в воду, да и сам свалился.
И они бежали домой, и кричали – то ли собаке, то ли друг другу какую-то ерунду – про репейники, про физрука, и даже не попрощались толком.








