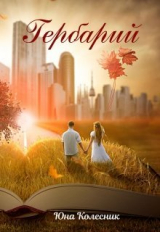
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– Тоша… Как шпица.
– Тс-с, – парень в притворном ужасе прикрывает ей рот ладонью. – Услышит – загрызёт. Бабка-то – не шпиц, бультерьер.
– Тоша, я кому говорю? Я тут что, просто так воздух сотрясаю?
Мальчишка лет семи нехотя отлипает от поручня, провожая взглядом убегающие от поезда домики.
– Бабуль, тут и сквозняка-то нет. Закрыто всё.
– Марина! И что ты сидишь? Развлеки ребёнка! Видишь, ему нечем заняться? В шахматы поиграйте, они в синей сумке, – прямая, ровная как рельса женщина достаёт пудреницу, звонко щёлкает крышечкой.
Её дочь, бледная, с тонкими рыжеватыми волосами, вздохнув, убирает книгу.
– Антон, иди сюда.
– Ну ма-ам, не хочу я эти шахматы. Давай просто в города? Только, чур, чтоб страны тоже можно было!
– А давай, – она оживляется, двигается, пропуская его к окну. – Ростов!
– Владимир!
– О боже, Марина! Сначала в города, а дальше что? В карты на деньги?..
***
«Знаешь, что я вспоминаю? Тот ураган. Когда ты металась по улице, а в воздухе летали лепестки, песок и какие-то цветные бумажки… Ты помнишь?»
Разве забудешь? В то утро Марина вешала бельё на балконе и мельком глянула в сторону моря… А там, над кружевами барашков, над серыми волнами танцевали смерчи. Три или четыре живые воронки сходились, закручивались, словно оборки цыганских юбок. Они плыли к берегу, и от их танца нарастал ветер. А солнце… Что солнце? Оно светило. И её на миг сковало ужасом от этого контраста: яркого света и дышащей тьмы. Но где-то там, на улице – там был её сын.
Она ящеркой скользнула по лестнице, выскочила за калитку: «Антон! Антон, где ты?» Помчалась вниз по улице, к качелям. Нет никого. А ветер уже потрошил кусты гибискуса и гудел, гудел… Вернулась во двор, снова – на улицу. И тут – голос хозяйского мальчика, Вадима, месяц назад закончившего школу:
– Не надо волноваться. Дети к фонтану пошли.
Марина улыбается сквозь слёзы: «Дети. Да ты сам был почти ребенком с опухшими, невыспавшимися глазами».
Потом, гораздо позже, она узнает, почему глаза у него были красными: ночами готовился к поступлению, чуть не бросил всё, когда узнал, что помимо комплекта работ и сочинения необходимы знания живописи, архитектуры и кино.
Дети и вправду были у фонтана, сидели на ветках старой магнолии и раскачивались на ветру. Кричали, хохотали. Девочка сама спрыгнула, а Антона она стащила за майку, замахнулась.
«И ты заплакала и ударила меня, стоящего рядом, кулаком в плечо. Меня-то за что? Больно было! Марина, Маринка… Мне и сейчас больно. Потому что ты – там, а я – тут. И не могу пока приехать, никак. Потому что выходные заняты. И будни заняты. Когда-нибудь я расскажу. Интересных личностей я снимаю. За очень интересную плату».
Она перечитывает эти строчки, любуясь круглыми, почти чертёжными буквами, забывая привычно заправлять за ухо прядку. Читает, не вытирая с треснутого оргстекла, лежащего на полированном столе, выпуклые солёные капли.
Когда они перешли на ты? Сколько писем назад? Пять? Восемь? Сколько их было всего? Много. Год почти прошёл. Тогда, провожая их, помогая с сумками, в предвокзальной суете он сказал: «Простите, я фотографии не успел напечатать». А мама прищурилась, поджала яркие губы: «Кругом обман. Сплошное надувательство». Какой обман, если с них ни копейки не взяли за жилье?
В августе пришёл по почте большой конверт. Много снимков. Хорошие, яркие. Но один – странный: её голое худое плечо с тонкой бретелькой сарафана. И мама снова раскричалась: «Может, он извращенец? Зачем ты дала ему адрес?» А она не давала. Сам узнал. Разве это сложно, если его дед раньше жил этажом выше? Да, дед Вадима был их соседом. Давно и долго. Мама всегда презрительно отворачивалась при встрече, даже здоровалась с ним не каждый раз. Но когда он переехал в Сочи, к осиротевшим после грузино-абхазского конфликта внукам, это вдруг стало «поразительно удобно – свой человек на юге».
Марина решилась вежливо ответить Вадиму. Но обратным адресом на письме с парой фраз и парой купюр указала не домашний адрес, а рабочий: «Кафедра методики преподавания физики. Симовой М. И.»
Деньги вернулись вместе с короткой озорной запиской. И теперь все-все конверты с исписанными тетрадными листочками хранятся здесь, на кафедре, в верхнем ящике стола, в том, что закрывается на ключ. Получает она их вечером, когда шум и свет вместе со студентами уходят на центральную площадь. И она снова спускается вниз, к турникету, и ещё на лестнице по улыбке вахтерши видит: «Пришло, пришло, беги скорее!» Эта грузная, как медведь, женщина, гроза прогульщиков и сектантов – её сообщница, как кормилица у Джульетты. Но как же пришлось краснеть скулами, когда в самый первый раз она просила не отдавать эти письма в секретарскую, а оставлять до вечера ей, Марине.
Она поднимается обратно на кафедру, большими ножницами отрезает тонюсенькую полоску от конверта и каждый раз спрашивает себя: «Неужели ты его любишь? Или эта влюблённость – только в его слова? В мысли, думки? В совсем не детские рассуждения, которые он почему-то тебе доверяет?»
О чём они, его рассуждения? Да обо всём: о занятиях в институте теле– и радиовещания, о Москве, об общежитских нравах. О детстве, в котором была война. А ещё о самом горьком и таком понятном: как трудно им было жить, когда не стало отца… Марина читает и снова думает, думает: «Возможно ли это: полюбить человека за его мысли? Если они созвучны твоим…»
Что она пишет в ответ? Никогда не задумывается что. Всё подряд. Иногда получается весело и даже хулиганисто, реже – грустно. Чаще всего в её письмах живут чудаковатые профессора и нерадивые студенты. Про сына пишет немного, сдержанно. Боится.
Марина переворачивает двойной листок. На последней странице – всего четыре строчки: «Письмо дойдёт, как обычно, дней через десять. Сессия как раз закончится. И угадай, что у меня в руках? (тут неуверенно подмигивает нарисованная кривая рожица). Билет! Двадцатого буду у вас. В 7:15. Второй вагон. Встречай».
Её будто окатывает парным молоком. Густым, почти горячим, и от этого как-то разом, словно на солнце, высыхают слёзы. «Двадцатого? Как? Это завтра? Да?.. Да-да-да»!
Она вскакивает, натыкаясь в полутёмном кабинете на старые стулья, задевая руками стеллажи с рядами методичек, опрокидывает стопку курсовых. Кружится, танцует, прижимая к лицу тетрадный листик, прилетевший из столицы, но неуловимо и непонятно пахнущий морем.
А дальше будет целый день. День? Нет – мгновение. Платформа. Его сияющие глаза. Кремль. Набережная. Могучее полотно реки. Её ревность – к своему городу. Купеческому, сверкающему куполами, родному… но отнимающему так много его внимания.
А дальше – старая большая гостиница рядом с рынком. Номер с квадратным окошком и видом на плавучие пристани. Длинный любопытный нос острова, что выглядывает из-под моста. И Марине кажется, что весь город с противоположного, высокого берега видит, как они не могут расцепить объятий, и весь город слышит, как Вадим шепчет: «Видишь – приехал. Не бойся меня. Поверь мне, я прошу…»
А дальше – её узкая ладошка, что неловко гладит и гладит жёсткие кудри на его висках, на груди… И несколько часов липкого, сладкого, как мандариновый сок, счастья, нотка кислинки в котором от того, что слишком быстро бежит время…
Обнимая её худенькое плечо, лёжа на плоской гостиничной подушке, Вадим говорит:
– В общежитие я не повезу вас, это нереально. Я квартиру присмотрел, Марина. Хорошие люди сдают. Она маленькая, комнаты – как для гномов. Но там хорошо, тепло. И кухня… Как же это здорово – своя кухня, скажи? И метро очень близко, и школа! – он чувствует её дрожь, заглядывает в лицо. – Почему опять слёзы?
Она приподнимается на локте, смотрит на него сквозь туман. Туман в глазах, туман в голове… «Да как же тебе объяснить почему? От одного только слова “вас”. Потому что ты понял, мальчик. Ни слова не говоря – понял…» Но она не может это произнести и просто касается губами – его ладоней, впадинки на сгибе локтя, ямки на шее, где сходятся ключицы…
Через три дня Марина, кидая вещи в пасть чемодана, готова кричать, но вместо этого кричит её мама, а Марина снова и снова строит невидимую стену, стараясь действиями отогнать сомнения и страх. «Мысли, мысли… Почему нельзя стереть их, словно мел с доски? Взять мягкую фланельку и стереть. Почему нельзя просто погрузиться в счастье? Не думая…»
– А о сыне ты подумала? Что сыну-то будешь говорить? А людям – как людям станешь в глаза смотреть?! Гадина ты неблагодарная, беспринципная! – мама переходит на оскорбления, это плохой знак, очень плохой.
«Хорошо, мама. Пусть так. Я ведь давно такая – беспринципная. С того самого дня, когда забыла о своих принципах и желаниях. Физика? Пусть так. Пора замуж? Да, наверное. Развод? Что ж, тебе виднее, у тебя опыт. Как ты сказала тогда? “Такой зять нам не нужен”. А он… Он через неделю после суда взял и умер – сердце. А ты сказала, будто вороной прокаркала: “Господь покарал”. За что? За то, что фабрика, где он был начальником цеха, развалилась? Пусть так. Хорошо. Я всё делала, чтобы тебе было хорошо: институт, аспирантура, воспитание Антона. Но я не могу больше!»
Марина опять не в состоянии произнести это вслух. Ни единого из этих слов – не может. Получается только кратко:
– Мама. Я всё сказала. Мы уезжаем.
В ответ, сопровождаемый хлопаньем двери шкафа, несётся вопль:
– Ты же ненормальная! Не-е-ет! Ты потаскуха! Спуталась с кем? С малолеткой! С черножопым малолеткой!
Марина вздрагивает, как от удара хлыстом.
– Ему девятнадцать. И он наполовину русский.
Нет, не слышит мама.
– Да я со стыда сгорю! Марина Игоревна, без четверти кандидат наук! Тьфу, бесстыжая!
Она молча складывает вещи. Только руки – руки дрожат всё сильнее. Жалко, что Антона предупредить уже не получится.
Звонок в дверь. Это сын.
Она выходит в прихожую. Мама кричит с кухни, демонстративно звеня пузырьком корвалола:
– Тоша, Тошенька! Мать твоя чокнулась совсем! Замуж она хочет! По миру пустить нас хочет! Нашла себе хахаля, когда только успела!
Антон разувается, хмурит брови.
– Сын. Мы уезжаем. Вещи твои я упаковала. Собери то, что считаешь нужным.
– Куда уезжаем? – как ни странно, он спокоен, смотрит на неё, будто и не слышит бабушку.
– В Москву.
– Ничё себе. А школа? А Герка с Виталькой?
Марина выдыхает, улыбается:
– За лето решим со школой. Знаешь, какие там школы? Ого-го! А друзей твоих в гости будем ждать…
Год пролетит для них троих – Вадима, Марины, Антона – как чайка над побережьем, стремительно и тяжело. И настанет осень, застелет московские переулки узорными, словно вручную связанными коврами.
Возле старинного здания с красными кирпичными стенами, с высокими окнами – единственная скамья, но она занята, там выпивает, веселится компания. Вокруг – на решётках первого этажа, на ветках ясеней – цветные порхающие в воздухе ленты и шарики, шарики… Под самыми окнами, на дорожке, стоят двое, парень и мальчик, оба – одинаково хмуря брови, оба – подняв головы в ожидании. Мальчик бормочет:
– Ну блин, Вадим. Ну что за имя такое – Артём? Антон, Артём… Почему вы меня не спросили? Он мне не чужой, брат всё-таки!
Вадим окончит институт экстерном, получит диплом по специальности «Оператор кино и телевидения». Его пригласят на режиссёрские курсы, он откажется, потому что частная практика – портфолио с нуля – захватит его полностью, и доход в этой сфере, стремительно набирающей обороты, уже лет через шесть позволит им с Мариной и мальчиками переехать со съёмной квартиры в свою собственную, пусть и в Химках, но просторную, трёхкомнатную. Пока к Вадиму будут записываться на полгода вперёд – модели, актёры, элитные проститутки – Марина устроится на работу в школу, будет заниматься детьми и очень редко выезжать с мужем на модные выставки. Их не особо очевидная разница в возрасте ни разу не спровоцирует никаких неудобств, но Марина так никогда и не избавится от стеснения по этому поводу, и сыновьям всегда будет внушать, что девушка в идеале должна быть младше.
В этом вопросе у Олеси, однокурсницы Артёма, младшего сына Марины, такое же мнение. Мужчина должен быть старше, мудрее, опытнее…
Лист четвёртый. Олеся. Крапива жгучая (лат. Urtica urens)
I
– Леся, доча, что ж ты опять рыдаешь? Не слышу я тебя. Ещё раз давай. Данилка – это я поняла. Дальше?
– Ледя-я-янку отня-а-ал!
– Вот паразит! И ты думаешь, если вот так вот ныть, он отдаст? Слёзы твои – слабость, Леся. Не показывай слабость, злее надо быть. Он домой её утащил?
– Не-е-ет! Пошли со мной, бабуль, пошли!
– Ещё не хватало. Вытирай давай сопли свои, шагай обратно да стукни его хорошенько, прям по шапке кулаком двинь, и своё – забери. Да обидное скажи.
– Что обидное, бабуль? – Олеськины слёзы моментально высохли.
– Вот напасть! Что уши у него кривые.
– Как это?
Обратно к горке Олеська шла медленно, набираясь храбрости, накручивая себя. Бормотала под нос:
– Данька – вон какой здоровый парнище, во втором классе уже. А я? Мне семь только завтра. Что за ерунда – день рожденья под Новый год? У всех подарки два раза, а у меня: «Леся, сегодня вот, открыточка, а подарок под ёлкой будет». А Соньку на день рожденья в город возили, в Макдональдс, они там бургеры ели. И картошку фри. Вот приедет завтра мама, привезёт тортик. И конфеты. И тунику, как у Соньки. С пайетками! И завидно вам всем будет!
Снега много, снег кружится…
Он на голову ложится.
А мальчишка на ледянке
С горки вниз как ветер мчится.
У него коньки и санки.
Ну зачем ему ледянка?
Чтобы все опять сказали,
Что Олеська – хулиганка».
Стихи приходили к ней часто, почти каждый день, но она их не любила, даже пугалась немножко. И сейчас Олеська захлопнула рот и больше не шептала, просто размышляла про себя: «Опять. Мешают только. Как бабуля сказала? Разозлиться надо. Как? О плохом подумать. О чём? О дяде Коле? Он не виноват, что так далеко живёт и квартирка маленькая. А мама его любит. Наверно. А какие у него уши? Может, тоже кривые? Не помню. Он только два раза приезжал. И папу не помню. Наверно, он добрый был. Он бы отобрал ледянку.
А она не может злится,
Только смотрит и боится.
Приезжай скорее, мама!
Будем мы в снегу возиться…»
Мама у Олеськи раньше весёлая была. Они и визжали, и щекотались, вместе поливали огород из зелёного шланга, и с горки катались вместе… «А сейчас мама грустная. Это потому, что у них ребёночка нет. А я как же? Разве я – не ребёнок? Бабуля говорит, что я взрослая уже, а им надо младенца, чтобы нянчиться». Ей стало совсем грустно.
Когда она подошла к горке, там уже никого не было. Ни Данилки, ни ледянки.
…А мама – приедет! Чтобы встречать с ними Новый год. Одна, на целых два дня. Привезёт и тортик, и колбасу, и пупса. И долго-долго они будут вместе его одевать, кормить, качать… Но Олеська так и не сможет сказать, что ей тоже хочется на ручки…
II
Из ванной тянуло табаком. Олеська стояла перед матерью в пижаме с синими зайцами, переминаясь босыми ступнями по линолеуму. Насупившись, глядела в сторону, туда, где на обоях отчётливо был виден след от недавно прибитого комара. Она не хотела смотреть, как мама держит на коленях серый костюм, как баюкает его, словно большого, нескладного ребёнка.
– Доча, доченька, что же ты натворила… Мы так долго его искали… Чтобы и цвет, и размер… – мама кусала губы, не ругала, но и не плакала. – Николай Савельич так тебя любит! Согласился, чтоб вы приехали, платье тебе купил, пижамку вот… А ты что учудила? Скажи мне одно – зачем?
Разве Олеська знает – зачем?
Ножницы она присмотрела ещё вчера. В незнакомой, большой, но совсем голой кухне. Она бывала в гостях у девочек, которые жили не в доме, как они, а в квартирах, но это жильё, озвученное будущим отчимом как «маленькая квартирка», поразило её до глубины души. Отдельная ванная, в туалете – унитаз с мягким сиденьем, две комнаты и кухня – огромная и пустая!
«У бабули-то – столько всего! – крутила Олеська головой. – Лаврушка веником, баночки с тряпицами, в корзинах – мешки с мукой и сахаром. Луковые косы, длинные, шуршащие… Занавески на окнах… разные: зимой с кружевными оборками, осенью – с россыпью красных яблок, а летом – в горошек, то мелкий, то крупный… А здесь – разве кухня? Места много, а бестолковое всё. Дверки, дверки…»
Ей стало любопытно, что они скрывают, эти коричневые дверки с одинаковыми ручками. Она потянула один ящик на себя – ну интересно же! Бабуля тут же шикнула на неё, как на кутёнка, схватила в охапку, усадила за стол. А на нём – стеклянная крышка. Опять чудеса! «Это кто ж придумал? Чай пьёшь, а ноги видно. А чашку как ставить? Вдруг разобьёшь? Стекло-то?..»
От волнений она уснула рано и проснулась тоже рано – только начало светать. Отодвинулась от похрапывающей бабушки, сползла с дивана на пол, привычно босыми ногами подошла к окну.
«Странно как… от солнца только лучики. Розовые дома, розовые окна. Почти такого же цвета, как мамино платье.
Солнце встало. Рядит крыши
В разноцветные платки.
Спят зайчата, кошки, мыши…
Город спит, деревня спит.
Теперь мама уж точно переедет. Будет открывать-закрывать эти коричневые ящики. А ты останешься с бабулей, потому что там, в Перевозе, школа и потому что сюда люди важные приходят, а ты только мешать будешь».
Олеське захотелось плакать, её неумытые глаза заволокло уже было слезами, но она сдержалась: «А бабуля говорит: нельзя, нельзя реветь! Надо разозлиться!»
Она прикусила губу, оглянулась на бабушку и направилась к двери. Неумело нажав на предательски щёлкнувшую ручку, выскользнула из спальни, шмыгнула в кухню. Тихонько достала ножницы из выдвижного ящика. Мышью прокралась в прихожую, где на деревянных плечиках висел серый переливчатый костюм. Свадьбошный, Николая Савельича. «Не называй меня дядей Колей, это неуважительно», – передразнила она, примериваясь, перехватывая ножницы поудобнее. «Так. Сначала – брюки, это быстро. А у пиджака рукава уж больно красивые, со строчками, пуговки в рядок выстроились. Жалко их…»
Бросив рукав, Олеська взобралась на мягкий пуфик и искромсала воротник.
Потом она лежала с открытыми глазами и слышала, как Николай Савельич, шаркая, надевал тапочки, как вышел в прихожую и сдавленно выругался…
Стоя перед матерью, уставившись в комариное пятно на обоях, она всё-таки разревелась. И ткнулась в эти серые брюки с уродливыми, будто выгрызенными дырками, жалея комара и ненавидя их всех: и маму, и Николая Савельича, и заодно с ними со всеми – бабушку. «Зачем, мама? Зачем ты говоришь – любит… Никому я не нужна, никто меня не любит… Разве когда любят – отнимают? Разве бросают?»
– Не плачь, глупышка моя, – мама гладила её по голове. – Некогда слезы лить. Скоро парикмахерша придет, до неё надо успеть что-то решить. Пойду-ка гляну его чёрный костюм, а ты жди. Ох. Хорошо, что рубашка цела.
Резко поставив дочь на ноги, ниже на полтона она сказала:
– Жди, поняла? Как он из ванной выйдет – извинишься.
Олеська задохнулась от несправедливости, вцепилась в мамину руку. «Не уходи, мама. Совсем никуда не уходи! Ну её, эту свадьбу, город этот дурацкий! Работай как раньше, приезжай поздно. Я ждать буду. Я тебя ждать хочу, не его!»
Свадьба Олесиной мамы и Николая Савельевича состоится без каких-либо эксцессов, торжественно, достойно.
На следующий день бабушка увезёт Олесю обратно в Осинки – маленькую деревню Перевозского района, туда, где занавески в горошек, где из крапивы варят щи, где солнце видно везде, а не только в чужих окнах.
Общего ребёнка у мамы с отчимом так и не получится. Несколько лет обследований, попыток, разочарований – и пыл их угаснет, но вопрос о том, чтобы перевезти дочь к ним, не поднимется никогда, ни единого разу. Вдвоём они будут навещать Олесю редко, лишь по очень весомым поводам…
III
Когда Олеся уже училась в девятом, мама с отчимом неожиданно нагрянули на майские праздники, выгрузив из багажника целые ящики фруктов, конфеты, новую блестящую посуду для бабушки и планшет для Олеси. «Очередное назначение отмечать», – ворчала бабушка, не особо любившая суету.
На следующий день Олеся возвращалась с огорода с букетом первой тепличной редиски. Поднявшись на крыльцо, замерла в сенях. Там, за приоткрытой дверью, мамин голос читал вслух:
– Они гуляют по забору,
Вдоль старых досок, по столбам,
Привычно-закадычно споря:
Быть иль не быть ещё снегам.
И солнце золотит шерстинки,
Что переливчаты и так.
И кот, дуря, грызёт хвоинки,
Хвостом изображая флаг.
Они похожи друг на друга –
И своенравны, и ничьи.
Теплы, мягки… Чужды испуга.
И мелодичны, как ручьи.
Недолга эта связь – к июню
Кот станет худ и зол, упрям,
Под фиолетом полнолуний
Тоскуя по апрельским дням.
Эти строчки родились у Олеси совсем недавно, когда соседский безымянный котище гордо вышагивал по забору, а потом взял да и свалился в кусты малины. Олеська хохотала в голос. И сейчас, вспомнив, она улыбалась до ушей и не успела среагировать, когда раздался Николая Савельевича голос, скрипучий, усталый:
– Таточка, ну разве это поэзия? Ни слога, ни рифмы. Так, баловство.
– Подожди, Коля, здесь ещё есть. Про любовь. Неплохие, кажется. Может, покажешь Спицыну?
– Прекрати, глупости. Не стану я серьёзного человека по пустякам беспокоить! Все девчонки в её возрасте пишут сентиментальную чепуху. Ей о профессии пора думать, а не стихи в тетрадку писать.
– А если это… по-настоящему?
– Тата, милая. Любовь – чувство эфемерное. Все эти стишки, клятвы, хождения за ручку – ничего не стоят. Особенно в наше время. А для неё и образование – не главное. Замуж удачно выйдет – уже хорошо.
Олеська захлебнулась вдохом. Уперлась лбом в такую родную, обшитую клеёнкой дверь. «Зачем ты так, мама? Ну ладно с бабулей об этом говорить… Ему-то – зачем? Он даже по имени не зовёт меня…» Она швырнула редиску на пол и ушла, на ходу пряча, затягивая непослушную копну волос под бабушкину косынку.
Она вообще-то хотела в медицинский – спасать, помогать, даже на лекции ходить в снежно-белом халате. Но… Медицинский хотел слишком высокие баллы или слишком большие суммы. Что ж, универ, биофак, бюджет – разве плохо для девочки из утонувшего в северных лесах городка? А мама с отчимом снова качали головами: «Глупо, Олеся, очень глупо! Шла бы лучше в колледж». Она молчала, упрямо склоняя голову, встряхивая пружинками кудрей. Да, медколледж и у них в Перевозе был, райцентр, как-никак. Но здесь, в универе, здесь сама атмосфера была другой.
В первые же дни, когда всё вокруг воспринималось так остро, свежо и немного жутко, свалился с неба Артём. Как солнечный удар, как мираж… Высокий, смуглый. И бесконечно крутились, вились вокруг него пустынные змеюки. Из группы, из общаги, ещё какие-то со стороны. А он – смеялся, язвил под стать им. Смотрел так, что не поймёшь – презрение это или любопытство. Мог кого угодно приобнять, скользнуть губами по чужой щеке в коридоре, на улице. Мог говорить просто или наоборот – заворачивать мудрёные фразы. В нём была свобода.
А в ней? Кто она? Провинция… Горластая деревенская девчонка, что носила аляпистые юбки назло всем им, «девочкам-на-стиле». И к весне накрыла её тоска. По бабушкиному дому, куда не съездишь каждую неделю – далеко, дорого. По поцелуям и ласковым словам, которые – всюду. По таким вот обнимашкам у всех на виду. Кто ж знал, что тоска эта обернётся болотом? Трясиной.
Выбиралась из неё долго, натужно… А он, Макс, тот, кто катал её на машине, снимал апартаменты на два-три часа, подарил пару серёжек и оказался женат, он не выбрался. И он погряз – в дебрях своих же пьяных сплетен. Может быть, и любил он её… по-своему, как игрушку? И от злости с того, что яркая кукла сломалась, воспротивилась, не захотела играть с ним дальше, он на каждом шагу, словно хмельная тётка, стал трещать, как легко с ней переспать, как «хороша в постели, огнище, а не девка!» Да, просто женат. Да. И аккаунтов у него миллион, и номеров, и любовниц, видимо. И так гадко стало у Олеси внутри… От лжи, от брезгливости. Кто ж знал? А самое противное, что те, кто знал – молчали. Как крысы – ни писка, ни шороха.
Олеська то слушала на максимуме жутковатую музыку, от которой Бараша сбегала в коридор, то часами валялась на кровати, задрав длинные ноги в полосатых гетрах наверх, на стену, складывая колючие стихи.
Мне б затаиться дикой снайпершей
Среди бетонно-серых плит.
Глядеть в прицел,
где зубы скалящий,
Тот, что никак не замолчит.
Нет, не смогу… Ага – придумала!
Хочу в болото, в камыши.
Мне б цаплей стать,
что раз – и клюнула,
И пару жаб распотрошить.
Пожалуй, прав ты. Я – Кикимора.
Пусть. Да, согласна. Где черкнуть?
И я останусь – просто именем
В бумажно-пройденном плену.
Что говоришь? Вода – поганая?
Да ты с трясиной незнаком.
Там травы с запахами пряными
И мхи – пружинящим ковром.
Собрав в карманы слёзы клюквины,
Там бродит леший в сюртуке,
Дрожащих грибников баюкает
Да жижу пьёт на островке.
Мотая день бечёвкой длинною
Из ядовитого хвоща,
Крадусь по кочкам. Да, Кикимора.
Которой не дано – прощать.
А к вечеру – осоку в волосы,
Из ряски скользкий кардиган,
И с пьяным лешим на два голоса
Горланить про ночной туман…
«Пусть треплется, пусть, – едкая злоба переполняла Олесю. – Как докажешь, что ты ни с кем, кроме него, не спала? Никак. А когда он пришёл тогда на кухню общажную с очередными хмельными претензиями, кто вступился? Тёмка. Только глянул на тебя и понял, сразу понял – ничего у тебя нет к Максу, ничего!»
Она временами будто и не помнила, что отшвырнул Макса вовсе не Артём, а Никита, настолько была уверена, что из них двоих Чиж – ведомый. Плюс жила в ней стойкая убеждённость, что Никита – не такой, каким кажется. Что-то грызёт его. Что-то сложное, неясное, слишком сложное. «Они похожи, конечно. Оба смазливые, оба не ходят, а танцуют. Но Тёмка проще. Проще и ближе… Да только тоже – не для тебя. У него сейчас с роднёй проблемы, мать к операции готовят. И все эти то ли подружки, то ли свита… Но девушка у него точно есть!»
Олеська встряхивала пружинками кудрей, прикусывала губу, листала соцсети – там у Артёма были сплошь профессиональные фотосеты, правда, не новые, но такие крутые! И девчонки рядом – москвички, не чета местным, из их «террариума». Особенно раздражала её одна – блондинка, конечно, с полуприкрытыми глазами, с эффектными губами и скулами, подсвеченными хайлайтером. Олеся аж постанывала от зависти, от несправедливости: «Ну все же они, все на одно лицо! И рядом Тёмка – сидит у ног этой дивы, а у неё видок такой, будто все круги ада прошла!»
Вот Милка по нынешним меркам – просто наивное дитя, этим и покорила Олесю – непохожестью на остальных. Тоже независимостью, как у Артёма, пожалуй. Казалось, что ей вообще плевать, кто что подумает. Она и не видела, не замечала всего презрения, которое окружило Олеську. Даже Бараша, смирная Бараша, после того случая кривила рот, что-то лопотала невнятное. «Мне одно не понять, – не успокаивалась Олеся, гоняя и гоняя мысль эту по кругу, как и мрачный свой плейлист, – почему кто-то с тринадцати лет с парнями шарахается, меняет их каждую неделю – и ничего, и зашибись! А стоит вляпаться такой, как ты – и всё, тявкают во всех сторон. Не залетела, с женой его не скандалила, как узнала – расстались, что не так-то?»
Ей до колик в животе хотелось выскочить, промчаться по коридору, влететь без стука в двести четырнадцатую, плюхнуться на кровать и завопить: «Парни, давайте начистоту, а? Что вы обо мне думаете? Оба?» Почему-то она решила, что так – нельзя.
Олеся никогда не поймёт, что причина показного презрения чрезвычайно проста – элементарная зависть. На её месте, подруги Макса Лазарева, хотела бы побывать практически каждая девочка из их группы. За исключением Милки, конечно, но какой с ботанички спрос?
Когда придёт январь, опять станет светло… от солнца, от снега. Сессию сдадут все – редкая удача. В учебных корпусах снова поселится путаница в расписании, суета на этажах. А девочки из компании, что попроще, поскромнее, решат наладить отношения с той самой «элитой» – Линой и Настей, вместе отметить окончание сессии. У Ксюшиной тётки как раз освободится квартира – её с супругом рождественские каникулы плавно перетекут в рабочую командировку, а в квартире этой останутся цветы и аквариумы, за которыми нужен постоянный уход.








