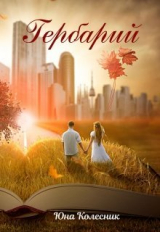
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
На следующий день Артём вызывает такси. Они едут долго. Промзоны, дачи, трасса, трасса, потом – просёлок.
«Совсем скоро – дом. Там тепло, там бабулины ватрушки… И она постелет нам вдвоём, и всё будет так, как ты хотела. Ты покажешь ему гору, с которой каталась на санках, и чердак, и берёзовую рощу…» Олеся доверчиво дремлет, прижимаясь к Артёму, ей спокойно и хорошо.
Внезапно машина тормозит, водитель оборачивается к ним, хмуря седые брови:
– Всё, ребятки, приехали.
– Нет, ещё минут сорок, – Олеся, даже не открывая глаз, чувствует, знает. Сколько раз каталась туда-обратно на автобусе.
Но таксист качает головой:
– Движок, говорю, накрылся, выходим.
– Куда выходим, дядя? – Артём резко выпрямляется, отвлекаясь наконец от смартфона.
– Вы что, смеётесь? – тут и Олеся наконец окончательно просыпается.
– Если бы. Вылезайте, молодёжь, прогуляйтесь. Погляжу тут. Свистну, как разберусь.
Они выходят из автомобиля, на всякий случай прихватив вещи. Артём пристально смотрит на водителя, застывшего возле открытого капота:
– Не обманешь, дядя? А то давай помогу?
– Не стой над душой, парень. И так дело дрянь.
Темнеет. Накрапывает дождь. Направо уходит аллея, шуршащая листвой, сумеречная, недлинная.
– Где мы, Олесь? Зараза, связь пропала… Вот влипли. А это что за ворота?
Олеся разминает руки-ноги – засиделась, мельком смотрит туда, куда указывает Артём:
– Подвязье это, усадьба старинная. Экскурсии туда водят, кажется. Но я ни разу не была.
– Ого! Любопытно, слушай. Пошли посмотрим?
Они подходят ближе. В воротах усадьбы нервно снуёт человек с телефоном, что-то умоляюще втолковывает в трубку. В сумерках Олеся не замечает поразительного сходства.
Человек видит их и замирает как истукан. Потом бросается наперерез.
– Стойте, стойте! Девушка, милая, это же чудо! Вы мне нужны!
– Ничё, нормально так… – начинает Артём, но человек отмахивается от него.
– Девушка, у вас типаж! А у нас аренда проплачена! Пойдёмте со мной, бога ради, время теряем!
– Что вы от меня хотите? Тёма! – Олеся выдёргивает ладонь, отступает под защиту Артёма.
– Послушайте, мужчина…
Но тот и слышать ничего не желает:
– Успокойтесь, ничего противозаконного. Вам, девушка, и делать почти ничего не нужно – только переодеться и у камина постоять пять минуточек. Несколько кадров. Всё готово: и свет, и… Визажист весь на нервах, а Яночка наша с гриппом слегла. Я заплачу, вы не переживайте! И снимки будут, обещаю!
Вот тут Олесе стало интересно, и она согласилась.
Внутри усадьбы – огромной, с башенками по углам, с парадной полукруглой лестницей, с прохладным тёмным залом и люстрой, в которой мерцали настоящие огромные свечи – суетятся люди. Олесе собирают волосы, машут кисточками у лица. Включают лампы, ставят какие-то экраны. «Софиты? Отражатели? Или как они называются?» – Олеське, по сути, всё равно, она отчаянно крутит головой, путая кудри, мешая закончить укладку. Где же Артём? Бросил её тут? Чужие люди вокруг, всё быстро, ничего не понятно, что-то колется на открытых плечах, туфли велики, она боится упасть. Ей велено стоять у камина, «изящно оперевшись». Но Артем? Где же он?
– Работаем! – это голос того человека, который притащил их сюда, он держит огромную профессиональную камеру наизготовку, как пулемёт, и от этого Олеське делается страшно.
После его слов – тишина, слышен только треск дров в камине. Загорается круг света. Звенит музыка… тихая-тихая.
И он вступает в этот круг – он, её любимый. Олеся не видит смокинга. Не видит бархатную коробочку. Видит только его взгляд, прозрачный и чистый. «Вот же они, глаза цвета моря, те самые, в которые ты, Олеська, влюбилась два года назад. Он тут, он тебя не бросил. Значит, всё хорошо».
Артём останавливается и говорит, запинаясь:
– Олеська моя… Я хочу… ты будешь моей? Женой будешь?
Она с трудом осознаёт, что происходит. Оглядывается, видит улыбающихся людей. «Это всё сделал он? Это что же – всё для тебя, Олеська? Платье, цветы, камин этот…» – она оглядывает себя сверху вниз, волосами задевая пайетки. «Как, зачем? Почему нельзя было – просто?» И она плачет, отцепляя непослушные локоны, почти кричит:
– Ты дурак… Какой же ты дурак!
И стоит перед ним в алом струящемся платье, такая же юная и свежая, непокорённая, как эти розы в высоких корзинах около её ног. Слезы её уже не копятся на ресницах, льются вниз, и она совершенно не знает, что делать. И Артём, застывший с маленькой коробочкой в руках, ослеплён не столько красотой этой неизвестной ему девушки, сколько тем, как угадали они оба с этим образом, как влился он в эту атмосферу Средневековья, глубоких теней по углам, влажного аромата роз и удушливого плавящегося воска. Кто-то из присутствующих прозаично шмыгает носом.
Раздаётся громкий улыбчиво-недовольный и такой знакомый для Олеси голос:
– Леся, доча, что ж ты опять рыдаешь? – низенькую женщину выводит ближе к камину тот самый фотограф. – Слёзы – слабость твоя, помнишь?
– Бабуля… Бабулечка моя… – она бросается к ней, путаясь в подоле платья. – Он меня замуж зовёт?
– Зовёт, зовёт. Только вот не пойму – ты идёшь или нет?
Конечно, она согласится. И будет шампанское, и поздравления, и поездка в Осинки вместе с Вадимом. И серьёзное интервью с бабушкой, и банька у соседей, и утреннее счастливое пробуждение.
А вот потом, уже по дороге обратно в город, эйфория внезапно покинет Олесю. И дальше, после знакомства с Мариной, с Антоном, ей станет только тяжелее. Никак в голове её не сможет уложиться, что отец её парня – известная медийная личность, в прошлом – эпатажный фотограф, сейчас – режиссёр-оператор фестивальных фильмов, что живут они в шикарной (по Олесиным меркам) квартире-студии, что мать Артёма, такая хрупкая, некрасивая, победившая болезнь свою, смогла остаться ровной и тихой, и что все те простые люди, с которыми она жила под одной крышей на юге – все они молчали о реальном положении дел в их семье. Она не поверит в ссору Артёма с отцом, решит, что это была проверка, спектакль, как тогда, в усадьбе.
Артём окончательно помирится с отцом. Без лишних слов. Признается сам себе, что устал от съёмных квартир, от условий в общаге, что скучал по матери и брату, и категорично решит, что на время учёбы они с Олесей будут жить с родителями, отчего та придёт в ужас, будет плакать, кричать, что кругом опять враньё и что она не сможет жить среди чужих людей.
Никак не сможет она поверить, что всё случившееся – реальность, хотя Артём и попытается объяснить ей, что в быту шиковать они не привыкли, что заказы на статьи ему брать всё равно придется, что попадёт она вовсе не в сказку и со свадьбой поторопиться тоже не получится. В итоге Олеся выпросит отсрочку с переездом – якобы для того, чтобы привыкнуть ко всему новому, так стремительно случившемуся, чтобы разложить все по полочкам.
Лист седьмой. Чужие. Дикий виноград (лат. Parthenocissus quiquefolia)
I
В сентябре Артём попросил Милку о содействии, но с личной его жизнью это никак не было связано.
В городе бушевала предвыборная кампания, у Вадима появился «клиент», один из депутатов, который срочно требовал репортаж о социально-значимом мероприятии. Артём знал, что Милкина мама всю жизнь проработала в интернате для детей-сирот, он предложил отцу съездить туда с депутатом, мол, и детям хорошо, и небожителю полезно.
Милка скривит губы, пожмёт плечами, но отказать не сможет, договорится на конкретный день и время.
В тот день они поедут небольшим кортежем – микроавтобус телевизионщиков, Вадим с молодёжью – отдельно, плюс депутатский «Лендкрузер». Мама Милкина не сможет проводить «мецената» сама, уедет из города двумя днями раньше, долгожданная путёвка в санаторий не оставит ей вариантов. Милка сначала тоже отказывалась ехать, но Вадим будет настойчив, и он же уговорит Никиту сопровождать их под предлогом, что группе нужна помощь с техникой. Артёма с Олесей с ними не будет, они в тот день снова в Осинках.
Первым у чугунных ворот паркуется депутат, из его машины выпрыгивают красавцы-помощники, открывают багажник «крузака». Милка из-под ладони смотрит на облицованные серыми плитками стены, на высокое крыльцо, на скрытые за тополями окна. Прислушивается к себе. Потом спохватывается, подходит к депутату, дотрагивается до его рукава:
– Извините, но это важно. Каждому из них – лично в руки. Иначе растащат, концов не найдёте.
Слуга народа высокомерно кивает:
– Я всё посчитал, должно хватить и ещё остаться.
Милка думает: «Остаться… Кому? Сыну директора?»
Накачанные помощники, играя на публику, закидывают себе на плечи по паре здоровых, но лёгких пакетов. Процессия шагает, телевидение снимает, девочка-журналист комментирует происходящее. Охрана на входе («Да-да, ждём, вам в спальный корпус, там встретят»), просторный холл, знакомая загогулина перехода между корпусами, раковины в ряд перед столовой, лестница. Запах несвежего, но выглаженного белья, рыбных котлет, хлорки, йода.
Их действительно встречают – лебезящие жесты, дежурные слова.
Депутат гордо вышагивает по коридорам, навстречу услужливо открываются двери, за которыми – руки, протянутые руки. Потные от нетерпения, от желания урвать, сцапать, сгрести. От этих мокрых рук скрипят коробки с куклами, с лего, с машинками… гремящие, звенящие коробки. Руки хватают, прижимают, тискают – медведей, лис, слонов, розовых зайцев.
Милку бросает в жар. Она не видит выражения лиц Вадима, Никиты, парня-осветителя, остальных. Она видит только руки. Худые, юркие, опасные, как змеи. Готовые задушить, выжать, превратить в тряпку.
«Всё это уже было», – думает она. Да, было:
– Мама! Мама пришла! Мама, мамочка!
И они бегут к маме, несутся по дугообразному переходу, виснут на плечах, сцепляют неразъёмными замками у неё на шее эти свои руки.
А Милке семь. Она стоит в сторонке и ждёт. Для них – «мама». Для неё – Нина Васильевна. Такое правило. Милке можно обедать вместе с ними в столовке, сидеть в классе, когда у них самоподготовка – свои уроки делать или рисовать, можно пялиться в телек в игровой, много чего можно. Но называть мамой – нельзя. Потому что у Милки и так – и «домашняя» одежда, и телефон, и цветные гелевые ручки. После отбоя Милка уходит с ней, но только когда тёмные окна интерната остаются позади, мама возьмёт дочь за руку.
Съемочную группу и депутата с его молодцами тянут в учительскую. Там целый банкет – чай, кофе, конфеты, бутерброды, играет детская песенка. Милка идёт сзади, бормочет:
– А красная дорожка где? А хлеб-соль на рушнике? Девочки в кокошниках?
Никита шипит на неё: «Помолчи уже, а?»
Директор машет бумагой с золочёной рамкой, как флагом:
– Уважаемый… Нет! Дорогой вы наш! От лица администрации нашего учебно-воспитательного заведения…
Милка думает: «И это уже было».
– …милая вы наша! С праздником! Вы не просто воспитываете, вы помогаете обществу!
И мама в кудрях и в зелёном переливчатом костюме. Кафешка, цветы, тосты. Музыка. Милке десять, маме сорок. И за столом Милка сидит рядом с толстым завхозом, косящимся в сторону запотевшей бутылки с белым медведем на этикетке. Но только он тянет к медведю мясистую руку, как распахиваются двери и втискивается в них морозно-румяный высокий дядька.
Ведущему что-то шепчут на ухо, он кричит в микрофон:
– Поздравить именинницу приехали её первые выпускники!
Дядька скидывает дублёнку:
– Нина Васильевна, я же доченьку вашим именем назвал! – он выталкивает из-за спины кривоногий шарик в шубе. – Нинуля, дари тёте букет, дари! Эта тётя папку твоего на ноги поставила, уму-разуму научила!
И люди хлопают, и вскакивают, и обступают его, а он, вырываясь из толпы, сгребает ручищами тонкую мамину фигурку.
Да, кто-то из них прописался на зоне, кого-то уже и нет вовсе, а кто-то – вот, поди ж ты, выбился в люди.
Депутат мотает головой, отстраняется от директорских объятий:
– Благодарность – это замечательно. Но у меня вопрос следующего характера: может, канцтовары вам необходимы? Или книги? Или лучше всё-таки крупную сумму на счет?
Директор многозначительно смотрит на стоящих вокруг – гостей, педагогов:
– Думаю, это лучше обсудить конфиденциально.
Вадим дёргает бровью, цепко перехватывает их взгляды, потом даёт отмашку своим, машет и Милке с Никитой:
– Погуляйте пока, а мы детишек и интерьеры поснимаем.
Милка смеётся, на неё шикают.
Всё это – было, было.
Было:
– Дочь, ты же видишь – мы заняты? Иди к девочкам, иди. Они там в шашки играют.
Играют… А вы? Вы планы пишете. Как развлечь, куда сводить, цели, задачи. Мама строчит это всё от руки, а Милка набирает на компьютере здесь же, в учительской. Милке тринадцать, она ненавидит вечные эти планы, разлинованные тетрадки, бесконечные таблицы. Ненавидит концерты с песней Мамонтенка, экскурсии, на которые мама тоже таскает её с собой – присмотреть, помочь.
Она послушно выходит в гулкий коридор, там электронные часы, их зелёные глазки-циферки моргают: «Час до отбоя, терпи». Идёт в спальню к девчонкам. Кто-то тенью ныряет в дверь: «Шухер!»
Шашки, говорите? Меж двух кроватей натянуто коричневое покрывало, их там под ним несколько. Пыхтят. В углу у раскрытого окна – Клешня, на корточках, носом в пакете. Рядом с ним – Лёшка Спирин, лысый, с заячьей губой. Идет к Милке, кидает на ходу:
– Какой же это шухер? Это дочка воспиталкина. Чё зенки вылупила? Звал тебя кто?
Милка хочет уйти. Она просто перепутала соседние двери и теперь чувствует, как от опасности густеет воздух. Но сбоку к ней подходит ещё кто-то, закрывая проход.
– Ну, чё пялишься? – Спирин впивается в неё взглядом. – Завидно? А давай-ка с нами. Иль слабо? Клешня, ну-ка, подсоби, покажем ей наши мультики.
Рвануть бы сразу, но она не успевает. Хочет отбиться, надо отбиться! Но они сильнее, их уже не двое, больше. Держат за руки, за ноги, пытаются нацепить на голову пакет с «Моментом». Она уже готова орать, но от запаха спазмом душит горло. Впивается в кого-то зубами. Падает вниз, головой впечатываясь в пол. Её поднимают, кто-то шарит по ногам, кто-то щупает тело под свитером, чья-то железная рука стягивает, не расстёгивая, джинсы. Зачем? За что? Больно-то как…
Когда она открывает глаза, над ней два бледных лица – мамино и дежурной медсестры.
– Мила, Милка, как неудачно ты упала, голову разбила, – мамин предостерегающий шёпот страшнее боли.
– Упала я, упала… – шепчет она, соглашаясь, безоговорочно принимая мамину версию, и закрывает глаза.
Кто-то из девочек услышал шум в соседней спальне, примчался в учительскую, и кстати задержавшийся физрук отбил Милку у толпы парней. Кровь остановили быстро. Скорую вызывать не стали, полицию – тем более. Изнасилования, по сути, не случилось, были только руки, грязные, грубые пальцы. Но и такое происшествие в стенах интерната – подсудное дело, поэтому всю информацию аккуратно замяли, а мама просто перестала возить Милку с собой на работу.
Милка идёт к машинам. Ничего не изменилось – она не может больше там, в этом здании, находиться. Останавливается у неприметной «Инфинити» Вадима, смотрит на своё отражение в стёклах автомобиля. Никита догоняет её:
– Сколько мать твоя тут проработала?
– Почти двадцать, с перерывом в год.
– Двадцать лет… Я бы и полгода не продержался. А я ещё удивлялся – почему она у тебя такая.
Милка криво усмехается, протягивает ладонь:
– Дай сигарету.
Он подносит ей зажжённую спичку, не замечая мелкой дрожи губ и пальцев. Прикуривает и сам, молчит. Потом говорит:
– Я вот думаю, Мышь… как сказать-то? Мы с тобой счастливые люди. Я знаю, что такое интернат, понимаешь? Но у нас был дом, пусть и далеко. Родители были, матери измученные, отцы-придурки. А у них…
Милка швыряет окурок в траву, шагает к нему, словно с обрыва шагает, вцепляется в куртку:
– У них? Да что ты знаешь о них, о всех? О сраной генетике? О фальшивом милосердии, о лицемерии? – она трясёт его, пытается наклонить к себе, чтобы он лучше слышал, чтоб её слова разбили прочную корку серебристого льда в его глазах, мешающую видеть то, что видит она.
Никита отвечает ей коротко:
– Убери руки.
Милка пожалеет и об этой поездке, и о своих словах. Она так и будет ходить за Никитой тенью, сидеть с ним рядом на парах, оставаться ночевать. Дедушка, заметив, что внучка не в себе, скажет: «Успокойся. Подожди, не гони лошадей», на что она только огрызнется.
Никита не сможет забыть её выходку. Скриптонит у него в наушниках, за последние полгода вытеснивший Чижа почти полностью, станет напоминанием: «Машины с едой всем голодным детям… Но как сделать это без бумажек?» Никита станет думать, анализировать.
А ещё он решит, что мышь – непростой зверь, скрывающий ядовитые зубы, которые могут укусить когда угодно, исподтишка, и занести отраву, заразу, инфекцию. Его начнёт раздражать Милкина привязанность.
II
– Высоко-высоко в горах, там, где бурная река потоком падает вниз, ледяными струями прожигая русло своё, на выступ скалы упало крохотное зернышко.
Собрав все силы, ухватилось оно за трещину в древних камнях и стало жить, не зная, не ведая солнечных лучей, забившись в вечную тень, чтобы не унесло его гуляющими ветрами, чтобы не склевали редкие прожорливые птицы…
В день середины лета по тропинке, что упрямо ползёт над туманными брызгами водопада, карабкался одинокий странник с котомкой за плечами. Долго он шёл, поднимаясь от самого моря, исколоты были ладони его о ежевичные кусты, и злые валуны перекатывались под ногами…
Это старейшины, седые, как вершины Кавказа, указали ему дорогу к Лунному камню, что с начала веков ждёт тех, кто осилит тернистый путь, чтобы исцелить их раны, телесные и душевные.
Да, был полдень, когда он достиг своей цели. Измождённый, дотронулся странник до горячей, взмывающей к небу глыбы, и прошептал:
– Я не знаю, чего просить у тебя, о могучий камень… у вас, о светлая Амра и тёмный Алихан, что венчались здесь в давние времена. Я простой Садовник, виноградарь. Плетёная хижина, виноград и хурма – всё, что есть у меня… – вздохнул он, вспоминая. – А чего хочу? Порою чудится: достатка хочу и признания, чтобы вина мои пили на всём побережье, чтобы каждый год полными были бочонки… А порой – умираю от тоски, ведь нет со мной рядом той, кто станет вечно и преданно любить, понимать и заботится…
Провёл он ладонью по крутому боку камня, и вдруг с тихим треском откололся от того кусочек, быстро-быстро покатился вниз, к обрыву, и упал… Бросился туда Садовник, подполз к краю пропасти и увидел узкий выступ. Потянулся он к нему, зажмурившись от высоты, от слепящего солнца, ухватил камушек рукой… А когда выпрямился и разжал кулак – оказался в нём и не камень вовсе, а бледный росток с тонкой нитью корешка.
Понял Садовник, что это и есть ответ на его просьбу, поклонился высшим силам, оставив у камня бурдюк молодого вина – такого же, один в один, как вот это на нашем столе – и отправился в обратный путь. В тряпице за пазухой нёс он своё сокровище.
Долгой и трудной была дорога домой. Грохотали грозы, скалили зубы хищные звери…
Но дошёл он до своей долины, донёс росток и посадил его в рыхлую землю в тени хижины. Полил водой из своей кружки, а сам взял нож и отправился в сад, который погрустнел и состарился за время странствий хозяина. В раскидистой хурме свили гнёзда полчища ос, а виноградные лозы, что росли на свободе, взбираясь по стволам деревьев, погрызли гордые олени.
Росток выпрямился, быстро потянулся вверх, выпуская один бархатный лист за другим, ветвясь и радуя нежной зеленью.
Но однажды, когда Садовник поливал деревце из кувшина, один из стеблей обвил его руку, а листья ладонями прикоснулись к его щеке. И услышал он тихий голос, сотканный из шелеста гибискусов, звона диких пчёл и журчания ручьёв:
– О мой спаситель! Жила я без тебя в вечной тьме и холоде. Видела лишь туман, поднимающийся из ущелья, слышала лишь свист крыльев пролетающих мимо птиц. Ты спас меня. В дороге ты поил меня водой, сам страдая от жажды, ты отбивался от шакалов, охраняя меня. Теперь я буду расти и набираться сил. Ты же работай как прежде в своём саду, но как только захочешь глоток прохладной воды – приходи ко мне.
Удивился Садовник и обрадовался. Так тепло стало на душе у него! И прекрасная юная Киви – а это была она! – каждый день поила его росой, собранной на рассвете её круглыми листьями, и слушала, раскачиваясь, его истории.
Но однажды, когда он наклонился испить воды, упругие стебли, что стали ещё длиннее и сильнее, стянули кольцами его запястья, опутали щиколотки:
– О мой спаситель! Благодаря тебе я увидела солнце, что светит и греет. Благодаря тебе я могу ловить капли дождя, а не страдать, добывая влагу из-под земли. Я хочу радовать тебя тенью и свежестью в самый жаркий полдень. Прошу, смастери мне опору, а себе – удобную скамью под моей густой кроной, и тогда мы чаще будем вместе.
Согласился Садовник. Собрал из крепких ольховых веток перголу, чтобы любимой было легче, и сплёл скамью из гибкого рододендрона. Молодая Киви с радостью приняла подарок.
Но в следующий раз, когда Садовник, уставший после сбора урожая, прилёг отдохнуть под чудесным навесом, раздался голос:
– О мой спаситель! Ты охраняешь меня от полчищ саранчи. Благодаря тебе я могу любоваться на горы и море… Видишь эти белые цветы в моих волосах? Позови диких пчёл, они принесут на своих брюшках пыльцу с горьким ароматом. И тогда скоро, совсем скоро я подарю тебе тысячу ягод… Освежающих, нежных…
Она говорила, а покрывало из сплошных побегов спускалось всё ниже и ниже.
– И тогда я больше не расстанусь с тобой. Пусть ветры воют над морем, пусть зачахнет твой сад, но я всегда буду рядом… – слова её гудели ураганом.
– Отпусти меня, – взмолился Садовник. – Ты прекрасна, ты моя отрада в часы зноя, ты утоляешь жажду и понимаешь мои желания. Отпусти. Если буду скован, как смогу быть защитой тебе? Как смогу позвать пчёл?
Чуть ослабела хватка стальных ветвей. И он, вырвавшись, бросился бежать. Но сильная и смелая Киви преградила ему путь, сбила с ног, засыпала глаза сотнями облетающих лепестков… Ставшие жёсткими, шершавыми, как шерсть старого пса, листья хлестали его по лицу.
И тогда он выхватил нож и стал колоть, резать, уродовать эти страшные путы.
Ему удалось освободиться. Садовник покинул долину, и никто его больше не видел.
Хижина опустела, сад зарос и лишь виноградные улитки танцевали там по ночам под грустные песни цикад. А Киви… Киви покрылась шрамами, состарилась, иссохла от тоски, но так никогда и не принесла плодов.
Артём зажимает рукой струны, что тихонько пели, пока он говорил, и оглядывает компанию. Кто-то дремлет, кто-то целуется у окошка, а Никита, не дождавшись финала слишком длинной сказки, уже ушёл курить. Только Милка, прищурившись, не сводит с Артёма жёсткого взгляда.
Он кладёт гитару, разливает тёплое терпкое вино:
– Ну что, дружище, выпьем за то, чтобы не быть оковами для любимых. Чтобы уметь вовремя отпускать.
Она нехотя поднимет стакан:
– Надеюсь, ты про себя? Что, сможешь так легко её отпустить?
– Хорош, а? Это не я придумал, клянусь. Это тост, легенда, отец когда-то рассказывал. Просто в тему.
– Тебе в тему? – она повторяет настойчиво, почти истерично.
– Да и тебе тоже.
Она вскакивает из-за стола, хватает пачку сигарет.
– Почему? Почему вы все указываете, что мне делать? Это моя жизнь, моя любовь!
Он грустно улыбается:
– Любовь, Милка, это «иди!», а не «стой…»
Он грустит, потому что Олеся снова буянит. Сегодня они перевезли вещи к родителям Артёма, но она вернулась в общагу и как была, в фиолетовом велюровом костюмчике, сбежала к бабушке. Артём позвонил туда – удостоверился, что «добралась, наревелась, спит», и успокоился, собрал друзей для своеобразного прощания – вино, гитара, разговоры.
Завтра Артём не придёт на занятия. Его задержит полиция.
Этой ночью дом в Осинках сгорит дотла. Олеся выскочит в окно, а бабушку спасти не удастся. Когда приедет пожарный расчёт, куртку Артёма найдут висящей на заборе.








