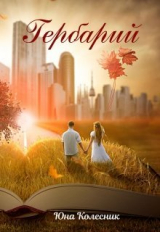
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
IV
Дело в полиции так и не завели, Никиту не отчислили. Макс Лазарев, местный мажор, закончил магистратуру года два назад, но периодически появлялся в универе, грамотно выцеплял девчонку и приклеивался к ней, словно паук к мухе – встречал, караулил после пар, возил в кафешки. Полгода назад такой мухой стала Олеся.
Никто не показывал на неё пальцем, не смеялся в голос, не задавал вопросов, лишь Олеська непривычно молчала. До девушек «из элитного клана» вся эта история вообще, видимо, не дошла.
«Значит, и тебе можно просто забыть», – уговаривала себя Милка. Почему-то это оказалось непросто. Когда в зоне видимости появлялись Никита или Артём, Милка прятала глаза, поднимала плечи, стараясь стать незаметной, невидимой: «Только не трогайте меня, не трогайте…»
Где-то через неделю на перемене её окликает Ромка.
– Мил, пойдёшь с нами? – он переминается рядом, как тощий котёнок-подросток, что клянчит еду у прохожих.
– Куда?
– У меня же днюха завтра. Дорожку в боулинге заказал.
– Ого, – Милка действительно удивляется. – А кто будет?
– Я девчонок пригласил – Ксюшу, Динку. И Олесю! И парни вроде обещали… Пошли, Мил.
Ей сразу становится жалко Ромку. Его всегда жалко. Влажные карие глаза, будто полные слёз, тонкие сальные волосы. Маленький, тощий, он всем своим видом вызывает только сочувствие и ничего больше. И Милка торопливо отвечает:
– Пойду, пойду. Чего тебе подарить?
Ромка в притворном ужасе машет на неё обеими руками.
В боулинге днём оказывается скучно. Проходит всего час, и девчонки начинают ныть:
– Хотим танцевать!
– Пошли к Ромке домой?
– Домашнее диско? Крутяк!
Ромка отнекивается сначала, но потом, видимо, проникается идеей.
Милка тоже рада, потому что ей не нравится боулинг. Она не знает правил, и никто не рвётся её научить. И то, что Ксюшка с Диной открыто смеются над именинником и его промахами, тоже не нравится. Глупо. Некрасиво, в конце концов. Предложение просто пойти к нему домой ей однозначно по душе.
Дина уже крутится у стойки администратора, в итоге половину стоимости дорожки им возвращают. На радостях по пути докупают шампанского, шоколадок, весело едут в полупустом трамвае. Ромка, зачем-то одетый и дома в чёрный костюм, кажется ещё более щуплым, невзрачным. Но если сначала он был расстроенным, растерявшимся, то сейчас радуется гостям, как ребёнок, изо всех сил хочет услужить.
Квартирка у Ромки обычная, всего одна комната, письменный стол – в тёмном дальнем углу. На нём тарелки с наспех порезанной колбасой, орешки на блюдцах, бананы… Хрустальные фужеры странного жёлто-бордового цвета, похоже, ещё советские. Музыка играет с Ромкиного ноута, что-то модное, без слов. Милка слышит: «дип-хаус», но ей это ни о чём не говорит, абсолютно.
Артём здесь с ними, его картавый голос придаёт какого-то уюта, что ли. Он успевает уделить внимание всем, как обычно. Но через некоторое время, когда у Олеськи раз пятый подряд требовательно надрывается смартфон, они вдвоём одеваются и уходят. Милке неприятно, но она пожимает плечами, чувствует – так надо, а знать подробнее – не желает вовсе.
Никита, Чиж, тоже здесь. И в развлекательном центре, и тут, в квартире, он почти не отрывается от планшета, ссылается на курсовик, что-то листает, хмурится. Всего пару раз за весь вечер выходит танцевать с девчонками, смеётся. Так же, как и они, на Милку особо внимания не обращает, а она и рада, она снова старается не привлекать к себе внимания, лишь наблюдает за тем, как он двигается. Снова – плавные, будто у французского мима, движения. Она ловит его взгляд лишь однажды, но тушуется и сразу же уходит на кухню помогать Ромке – чистить картошку, потому что кто-то сказал: «Пора градус-то повышать!», а закуски нет. Милка спрашивает его о летней практике. Он рассказывает о том, что скоро введут новую программу – биоинформатику, какая это полезная штука и перспективная, но не для него. Ромке нравится с ней говорить, это заметно, а ей уже хочется или сбежать, или спрятаться.
Вдруг резко, на середине трека, ноут безбожно виснет, замолкает пропитывающий воздух ритм, сразу становится заметно, как развязны голоса.
Ромка подскакивает, бежит разбираться. Одной сидеть возле булькающей кастрюли кажется Милке скучным. Незаметно пересекая комнату, она выбирается на лоджию. Тут накурено, она морщится от искусственных запахов тонких сигарет. Распахивает деревянную раму, подставляя ветру пылающие от шампанского щёки: «Вот теперь хорошо…» Замечает парочку бледных пеларгоний на широком древнем столе. Оглядывается по сторонам – не видит ли кто? Но плотные шторы закрыты, она одна здесь на полутора квадратных метрах. Значит, можно, не таясь, погладить растения, пожалеть: «Бедные вы, бедные, – бормочет она. – Ничего, справитесь, вы сильные. Вот росянка тут точно не выжила бы».
Росянки, непентесы, венерины мухоловки – её давнее, наверное, самое первое ботаническое увлечение. Вместе с Вероникой, биологичкой, они вырастили Sarracenia flava, жёлтую мухоловку, прямо в школе, в кабинете. Ловили для неё мух, непременно живых, фильтровали воду, опрыскивали по часам, наблюдали и снимали жутковатые для обывателя тайм-лапсы процесса питания… Милка упрямо заставляет себя думать как обычно, как раньше, перескакивает со школы к настоящему времени: «А вот метаболиты, которые в курсовике…»
Она не успевает закончить. За её спиной с мягким щелчком открывается дверь, изнутри снова слышна музыка.
– Почему не на танцполе, девушка?
Она вздрагивает, резко обернувшись:
– Не хочу…
Никита улыбается. Тонкие губы, серые глаза. Почти серебристые, как вода в пруду в летний день. Когда Милке было пятнадцать, она плавала за кувшинками, а потом, застав её в воде, внезапно, словно из ниоткуда или из самой сердцевины солнечного дня, хлынул дождь… Такой же серебристый. Что в этих глазах? Не разглядеть…
Шаг вперёд она делает сама, подчиняясь магии его голоса и стальному, магнетическому блеску глаз. Шагает – и тонет в них. Его взгляд на один коротенький миг спускается к её губам и возвращается обратно – уже больше не отпуская, становясь серьёзным. Куда исчезает пространство между ними? Когда Милка успевает запрокинуть голову? Но она снова тонет – теперь в касаниях его губ, таких же сильных и непослушных, коварных и нежных, как стебли кувшинок. Таких же затягивающих, пружинящих, мягко и сильно опутывающих.
Выдох. Она выныривает из глубины. И снова – просто взгляд, уже почему-то тяжёлый, как туча. Она не понимает, почему, но чувствует, что это значит: «Еще!» Снова – поцелуй. И совсем неожиданно – пальцы на её щеке и первая мысль: «Почему такие шершавые? Почему? Что ты знаешь о нём, Милка?»
Она шепчет:
– Расскажи мне…
– О чём? – он одновременно и отстраняется, и наклоняется к ней, дышит в макушку.
– О себе.
И он говорит, не выпуская её из кольца рук, упираясь сзади, за её спиной, в деревянный подоконник. Он говорит о матери. Об айкидо. О том, что давно уже не отмечает свой день рождения. Потом замолкает и осторожно трогает её губы своими. Милка плывёт, как на волнах, ловит на язык капли-слова, путается в донных травах… Для неё это сродни волшебству. Ей становится легко, будто тяжёлые промокшие крылья, которые приходилось столько лет таскать за собой, вдруг сами собой впитали солнце, и раскрылись, и трепещут, и дрожат за спиной, а в груди, в том месте, где они вросли в тело, ноет от непривычной боли.
«Мы же просто говорим. Почему это так… необыкновенно? – говорить с тем, кто близок, кто понимает…» – спрашивает она себя, разглядывая, как движутся его губы, как опущены вниз внешние уголки глаз, как спадает на левый бок прядка волос. Если бы её спросили: «Почему ты вдруг решила, что он тебе близок?», она бы не смогла ответить. Ну как же иначе? Всё и так ясно. Он не говорит об учёбе, как все остальные, он отвечает на заданные ей, Милкой, вопросы, а потом, когда замолкает, вдруг спрашивает:
– А сама-то как?
И она, радуясь, торопясь, захлёбываясь, пытается рассказать всё и сразу – про собаку, про «Зелёный парус», про отца, про дедушку… И ей непонятно, от чего внутри больше восторга – от его поцелуев или от того, как он слушает её прыгающий рассказ – глядя поверх её плеча на вечерний город, склоняя голову.
Потом взмокший Ромка заглядывает к ним, бормочет что-то, и они идут в комнату. Там духота и царство музыки – громкой, яркой. Милка никогда не узнает, не вспомнит – какой именно. Никита разливает шампанское, все опять пьют из смешных фужеров. Ромка уже откровенно пьян, девчонки курят на кухне, что-то пишут, считают на клочке бумаги, разварившаяся картошка плавает в кастрюле. Милка умиляется, в ней просыпается нежность к этим девочкам, которых она знает не первый год, но с которыми так и не смогла сдружиться. Она готова подойти к каждой, взять за руку, погладить. Они из другой компании, чем Лина с Настей, не такие гордые. Может, поймут, как она счастлива?
Но её глаза встречают взгляд Никиты – взгляд, прожигающий холодным огнём, и ловят чуть заметный кивок в сторону балконной двери.
Всё повторяется. Его поцелуи – как знаки, как иероглифы, как зашифрованные письма. Он почти не касается её руками, обнимая, просто удерживает. И от этого так спокойно, так доверительно – он не сковывает её движений, не прижимает к себе. Для Милки сейчас есть только его губы, которые живут своей жизнью – ласкают, жалеют, требуют. С каждой минутой ей всё больше и больше хочется стать водой, обволакивать его, замирать каплями на прядках волос, на ресницах…
«Как же ты жила всю жизнь без этого, Милка? Как, почему?..» Больше ни о чём она думать не может. Но потом приходит обжигающая, пугающая до дрожи мысль: «Как сказать ему, что это в первый раз? Надо ли? А ты думаешь, он не знает? А если рассмеётся? Пусть!»
Она набирает воздуха. Мало, мало… Наконец решается:
– Чиж, я никогда раньше…
– Что? – он серьёзен, а в глазах – тёплые смеющиеся искорки.
– Не называла так никого, – звучит у неё обреченно. Всё-таки не может произнести вслух – ни то, что хотела, ни имени его, и поэтому спешит. – Ну… это же просто сокращённая фамилия, да?
– Чиж? Совпадение. Я Чигракова часто слушаю, – голос ровный, но глаза слегка темнеют.
– Кого?
– Отличница… Группа такая, «Чиж и К». Знаешь: «А не спеть ли мне песню?»
– Это… из рекламы?
Никиту передёргивает:
– Тьфу, чёрт. Задрали с этой рекламой, – он тянется в карман. – Давай включу?
– Нет! – она почти выкрикивает.
«Зачем, зачем это сейчас? Не хочу, чтобы кто-то ещё был здесь, чтобы был чужой голос, чтобы он слушал ещё кого-то…»
Никита отстраняется, внимательно смотрит на неё, чиркает спичкой, закуривает:
– Ну спасибо. Наше дело предложить.
Кто-то зовёт его в комнату. Он уходит, а в её голове мечутся обрывки мыслей:
«Предложить… Но тебе, Милка, это не нужно – музыка. Тебе нужен он, голос его… А ты? Зачем ты ему?.. В конце концов у тебя тоже курсовая. Метаболиты… нет, нет, не помню…» Голова кружится, и Милку вдруг ослепляет, как фотовспышкой, как прожектором: «Спасибо… Он опять сказал спасибо. Как тогда, после полиции! Спасибо, отличница…» Ноги подкашиваются, она облокачивается, почти падает назад, на перила балкона. «Он всего лишь благодарен тебе, Милка. За то, что его не отчислили. Как просто. Как просто! Но разве так… можно?»
Чиж возвращается быстро, снова молча стоит рядом, складывает из ладоней подобие домика, прячет там огонек, прикуривает.
– Я пойду домой, – шепчет она, втягивая дрожащими ноздрями горький дым.
Он пожимает плечами.
Она уйдёт. Сбежит, не попрощавшись ни с кем. Она умеет так много – читать умные книжки, писать лекции в толстых тетрадях, получать бесконечные пятерки на экзаменах. Но не умеет целоваться на ветру и читать по глазам.
Пройдёт неделя. За это время Милка ни разу не придет в гости к Олесе, ни разу не поговорит с Никитой.
V
Снова аудитория, но небольшая, для практических занятий, высоко – на четвёртом этаже. Полгруппы ещё нет, видимо, плутают где-то… Милке звонят из деканата, просят занести какие-то документы. Она методично вытряхивает свои вещи из рюкзака, непонимающе смотрит на неаккуратную гору тетрадей.
Никита сидит на краешке стола возле двери, смотрит в пустую стену, в наушниках – старая-престарая песня: «Иду в поход – два ангела вперёд…» В голове его – полный бардак, в котором он никак не может разобраться:
«Сколько упрямства в ней, а? И не подойдёт, и не кивнёт. Откуда же она взялась? Неуклюжая, смешная. Смелая? Нет, точно нет. Но из них из всех только она захотела помочь. И помогла. А ты поступил как последний мудак, зацеловал девчонку, позволил уйти, а теперь делаешь вид, что ничего не произошло».
Милка проходит мимо него, не поднимая головы, держа в руках файлик с какой-то таблицей. Он смотрит ей вслед.
«Увидеть бы, как улыбается… Да зачем тебе это надо, идиот? Она же ничего не понимает в жизни. Как ребёнок. О чём с ней говорить? Опять о детстве и о собаках?»
Он спрыгивает со стола и быстро сбегает вниз по лестнице, хочет успеть затянуться пару раз до звонка. На улице морозно, а под ногами – слякоть, противно. Он чиркает спичкой. С никотином и думать, и вести с собой диалог легче, тем более на эту тему уже не впервые.
«Давай рассуждать. Что ждёт её дальше? Аспирантура, кандидатская. Потом – докторская. И вечно она будет одна. Заведёт кошек. Нет, банально. Во, точно – шпорцевых лягушек».
Он усмехается собственной шутке.
«Так кто, если не ты? Кто сможет ей жизнь показать? Кто, если не ты? Ромка? Исключено, он сам такой же – пришлёпнутый. Или она какого-нибудь алкаша лет через десять приютит – от безысходности? Значит, ты. Весёленькая перспектива – стать героем? Не очень. Справишься ли?»
Наполовину выкуренная сигарета падает рядом с урной. Никита возвращается в корпус, не спеша поднимается наверх, его обгоняют стайки студенток, что-то кричат, кто-то задевает его плечом, кого-то приветствует он сам.
«Сколько девчонок, оглянись! И все – пустые куклы. А вот тут не ври, сам себе не ври! Есть неглупые. И красивые есть. Только ты, Чиж, им не нужен. Как сказала тебе та, красивая и умная? Что, неохота вспоминать? «У тебя – ни кола, ни двора. Ты лузер. На права выучиться и то не можешь».
Словно подслушав его мысли, тёзка в плейлисте уступает место молодому казаху: «…Но посмотри, кто я! Я тот нищеброд, засыпавший в автобусе стоя…»
«Нищеброд… А этой девочке не нужны будут от тебя ни деньги, ни покатушки… Почему ты пошёл за ней, тогда, у Ромки? Ей тоже было хреново. А ещё ты боялся, что пошлют за выпивкой, а денег нет. Так ведь всё равно послали. Ну и пошёл бы вместе с ней! Или стрёмно так – у всех на виду? Идиот. А она ушла. Что ж не остановил? Страшно стало – а вдруг она и правда из тех, что не врут? Она ведь никогда не целовалась. Хотела вроде сказать об этом, но нет, промолчала. Могут ли ангелы врать? Как та, умная и красивая?»
Он подходит к аудитории справа, со стороны боковой лестницы. Милка идёт со стороны центральной. Он смотрит прямо на неё, не отрываясь.
«Ангел… в нелепых джинсах. Нет, не врёт она, Чиж. Боится. И тебя, и себя. Так же, как и ты. Такие дела, брат…»
– Ну чего, решился? – негромко спрашивает сам себя вслух.
Сам же и отвечает:
– Пожалуй, да.
И тут же резко перехватывает её в дверях:
– Стой уже. Хватит бегать, сколько можно.
Глаза в глаза… Но ему приходится наклониться, чтобы расслышать:
– Скажи… Что это было? Тогда?
– То, что будет ещё много раз.
Высокие распашные двери. Звонок. Они стоят на проходе, их толкают. Её холодная ладошка в его руке.
Сегодня кто-то будет зевать на практике по биохимии. А они будут сидеть, разделённые рядами потёртых парт, и улыбаться – каждый своим, но, в сущности, абсолютно одинаковым мыслям.
Нет, Чиж так и не сможет предложить Милке встречаться. Только короткие фразы, только скупые сердечки в сети в ответ на её робкие приветы. Ему словно понравится держать дистанцию.
А она… Превратится в подобие куклы, собственной восковой копии. Пока не пошевелится – и не понять, в чём проблема. На посту старосты сама попросит её заменить, скажет: «Устала, извините». Для себя решит, что это всё ей приснилось, показалось, привиделось.
Каждый её день превратится в одну сплошное усилие, в попытку – поймать, удержать его взгляд, а долгие вечера – в череду воспоминаний, мучительных, безудержных: его тонкие губы, его руки, крутящие проводок наушников, его голос, от которого сердце заполняет всю грудь, а потом бьётся уже под подбородком, в животе, на кончиках пальцев. По утрам она будет просыпаться со странной ломотой в мышцах – как будто что-то неведомое, всепоглощающее перекраивало её по ночам, терзало, лепило другое тело, другого человека. Почти физическая изматывающая боль будет уходить лишь при встрече с ним, Никитой, оборачиваясь горячим покалыванием. Но быть смелее, чтобы пробиться сквозь его холодное спокойствие, Милка не рискнёт. Она окончательно запутается в себе, в своих желаниях, и первоначальное, пусть и слабое стремление проанализировать, понять – почему так? – затуманится, а потом и вовсе покроется пружинящей плёнкой. Он рядом, его можно видеть, можно слушать мягкие шаги и низкий голос – а значит, нужно наслаждаться тем, что есть.
Этой почти бесснежной зимой Артём и Олеся, соседи по общежитию, раньше сторонившиеся друг друга, как-то гармонично и ненавязчиво сблизятся. На дне рождения Ромки Артём, случайно увидев, что это Лазарев снова названивает ей, проводит Олесю, они пройдут мимо «Тойоты» Макса, презрительно припаркованной у ворот общежития. Лазарев не выйдет из машины, а они с этого дня станут больше времени проводить вместе. Но их общение превратится в некий фарс, полный взаимных колкостей, подогреваемый официальной версией о том, что у Артёма в Москве есть девушка. Им, ему с Олесей, поспешить бы немного, форсировать события, но… не успеют.
Родители Артёма – Вадим Михайлович и Марина Игоревна – в начале февраля приедут из столицы. Это случится из-за болезни Марины, её настойчивого желания вернуться в родной город, туда, куда сбежал учиться непокорный младший сын, туда, где до сих пор живет её мать.
Лист третий. Вадим и Марина. Мандарины (лат. Citrus reticulata)
I
Как, почему на странных, казалось бы, уродливых деревцах-гибридах вырастают поражающие красотой своей цветы и плоды? Отчего так бывает? На сильных породистых деревьях – ягоды сплошь с червоточинами, а тут – и кривизна кроны, и цветение слабенькое, а вот надо же – усыпано деревце золотыми шарами, кисло-сладкими, манящими… Что происходит под землёй, как затейливо переплетаются корни, как циркулируют под корой соки, почему будоражат новое, неизведанное ранее?
Тем летом, почти четверть века назад, Вадиму, отцу Артёма, едва исполнилось семнадцать.
Сочи. Терраса. Мраморные полы, колонны.
Вадим уже собирается спуститься по лестнице во двор, но замирает, любуется линиями – строгими, чёткими… и светом – мягким, ускользающим, тем, что золотит листву старого каштана. Но вдруг, пожалуй, неожиданно для себя самого изо всех сил бьёт кулаком по белоснежным перилам. Поворачивается к ним спиной, раздражённо думает:
«Как же они меня достали! Даже тосты у них – и те дурные! За рыбалку? За дружбу? Разве это тосты… Пятый день уже пьют. А про этих троих будто забыли напрочь. Хоть бы на пляж их свозили. В горы. В дендрарий, в конце концов», – Вадим потирает ладонь, дёргает бровью.
«Словно так и приехали – кто с жёнами, кто с подругами… А почему нельзя прямо сказать – любовница? Не-е-ет, подруга – так у них принято. Менты, два депутата и Генерал – он один, без жены и без подруги. Глеб – его сын. А девчонки – дочери вон того тощего ментовского полковника, который лапает визгливую бабёнку. “За истинных женщин!” Это вот за этих, что ли? Что собрались голышом в бассейн сигать? А ничего, что на втором этаже трое детей? Сидят наверху, как в тюрьме, играют в приставку. Музыки им снизу хватает, кассеты с фильмами уже заезжены… “Титаник”, “Брат”, теперь ужастики в ход пошли. Ладно Глеб – почти подросток, а девочкам всего лет по семь-восемь, погодки они, кажется…»
Он заходил к ним, к детям, прямо сейчас, поставил тарелки с шашлыком и овощами, собрал с пола конфетные обёртки, с видака – персиковые косточки. Взглянул мельком – три пары застывших глаз, на экране какие-то монстры грызутся. Жуткая картинка.
Второй сезон Вадим здесь, на вилле, помогает матери. Он смотрит на неё сквозь стекло, внутрь дома. Она красивая женщина – прямая, высокая. Волосы – шоколад, кожа – янтарь.
«На экране нет таких, ни в одном фильме нет! Вот везёт же людям – снимают фильмы, рисуют картины. Почему мне нельзя? Не мужское это, не наше… Не поймут. Фотик есть, да. Мыльница… Плёнки извёл за полтора года – километры. А кадров удачных – только два. Мама с блюдом баклажанов и зимний берег, когда в воздухе висела пыль, морская пыль…»
Он снова дёргает бровью, услышав пьяные голоса, прислушивается.
«Спорят… О власти, о каких-то активах, о таможне… И всё это вперемешку с блатными песнями и полуголыми тётками. Показать бы их лица, красные, потные, перекошенные – им самим показать, когда проспятся. И это они называют отдыхом? Так, всё, успокойся».
Он резко распахивает двери, ведущие с террасы в просторную кухню. Мама стоит около плиты. Он почти кричит:
– Я хочу отвести их на море!
– Зачем вернулся, Вадим? Иди домой. Не место здесь тебе, – акцент у мамы тоже красивый, горловые звуки успокаивают, приводят в чувство.
– Мама, а им разве место?
Она взглядывает на сына – быстро, порывисто.
– Ну что ж, присядь, подожди.
И вот они идут вниз, вчетвером: Глеб впереди – руки в карманах, на плече – свёрток циновок, потом девчонки в одинаковых джинсовых сарафанах, зацепившись ладошками, и Вадим с рюкзаком – слева от них.
Он шагает и смотрит, как они дышат: трепещут ноздри, ловят вечерний бриз. И пряди волос чуть колышутся… И дорога легка – вниз, вниз, с горочки, и ноги будто хотят оттолкнуться от асфальта.
Вырвались. Детские лица – и у Алисы, что ближе к нему, и у Глеба, что младше его самого всего года на три, – словно пропитаны этим сияющим воздухом. «Как это запомнить? – думает Вадим. – Как передать? И кому?»
Переход под железной дорогой. Они идут направо и ещё дальше, мимо дач. Берег. Почти штиль сегодня, шуршат волны, вздыхает море… Торопясь, будто можно опоздать, дети скидывают одежду. И плещутся, купаются, но опять – почти молча. Только что-то невнятное бормочет Глеб и повизгивает на тихих волнах Алиса, цепляясь за плечи сестры. Здесь почти пусто, лишь на пирсе – две влюблённые парочки. Глеб выходит из воды, косится на них с интересом и показным презрением. Вадим сдерживает улыбку.
«М-да. Мало народу на юге сейчас. Потому что денег мало, у всех. Только эти, их родители, сорят зелёными бумажками налево и направо. На их деньги пять лет назад и ремонт отгрохали. Вилла… Полвека назад госпиталь там были девушек учили на радисток. А сейчас? Разврат. И мама готовит на них, стирает, убирает всю эту мерзость. Деньги… А чтобы ты сделал, если были бы деньги? Много денег? Не знаю… Но чтобы мать туда не ходила».
Выскакивают на берег мокрые девчонки, кутают мурашки в полотенца, пьют чай из термоса, что успела сунуть Вадиму мама. Ему хочется разговорить их, растормошить.
– Кушать будете? – он шуршит в рюкзаке.
Девчонки фыркают, дружно мотают головами. Вадим непонимающе сводит брови к переносице. «Что не так? Акцент смешной? Да вроде и нет его. Хотя… Русский бы спросил, мол, есть хотите?»
Его сначала напрягало, что записан он русским. Мама же абхазка, кровная, а в паспорте, который он получил год назад, чёрным по белому – Колесов Вадим Михайлович, русский. И сестра русская, хоть имя ей абхазское выбрали – Гунала. Значит: «послушная». Так и есть: ласковая, тонкая, руки – виноградные ветви… «А вот подрастёт – тоже будет туда, на виллу, ходить?! Был бы жив отец…»
Отец Вадима был русским. Так случается. Служил, влюбился. И семья невесты приняла его. Он остался в Абхазии. Жили, радовались солнцу, сыну, дочке. Растили мандарины, виноград. Ходили в горы за орехами…
И только когда отец погиб два года назад, в 93-м, они с матерью и сестрой уехали в Сочи. Уехали… Сбежали. Всё бросили. А русский дед, которого Вадим и не видел никогда, взял да и примчался к ним. Сказал: «Никому я там не нужен». Помог отстроить дом, посадил киви и хурму. Через полгода привёл большую, громкую Майю Тиграновну. «Ну и что, что она без руки осталась, зато добрая, а какие сказки Гунале рассказывает…» – Вадим думает об этой сильной женщине со смесью нежности и уважения.
– Пейте чай, пейте.
Вадим смотрит на море. Он не любит плавать, считает это баловством, игрой. Море – оно живое. И солнце – тоже. Плывёт медовым шаром медленно, по дуге. «Как можешь ты быть каждый день таким разным? Как запомнить мне тебя, Солнце?»
– Вот бы переплыть туда, – это говорит Глеб. Стоит рядом, уже в шортах.
– Куда? – спрашивает Вадим, не отводя взгляда от залитого золотом горизонта.
– А что там? Турция?
– Да. Зачем тебе?
– Мечта у меня – свалить отсюда куда подальше. Надоело всё.
– Мечта, говоришь? Осторожней надо с мечтами. Ну-ка, пошли. Садись.
Глеб фыркает, но усаживается на циновку, перебирая тёплые камни.
– Вы легенды наши слышали? – спрашивает Вадим, заранее зная ответ.
– Не-е-ет… А расскажите нам! – это Алиса, она бойкая, она смелее сестры, но это и понятно.
– Ну, слушайте… – он начинает заговорщически и замолкает, собирая мысли в слова, потом выдыхает, сбрасывая с себя весь этот суматошный день, жару, запахи потных тел, и продолжает негромко:
– Видели вы, как магнолия цветёт? Как её лепестки, девушка эта была нежна. И сильна была, как ветви кипариса. Любой перевал могла одолеть верхом на верном своём зайце…
– На зайце? – опять Алиса, недоуменно.
– А кто, скажи мне, кто, кроме зайца, продерётся сквозь заросли? Кто скатится в ущелье и поднимется на самый высокий хребет? Она, девушка, была из рода испов. А испы всегда ездили только на зайцах.
Он вдруг смело щёлкает Алису по пуговичному носу:
– Так что не мешай. Слушай. Умела она исцелять. И поломанные руки-ноги, и тоскующие души – всё умела. Уважал, ценил её гордый маленький народец. Но была у неё мечта. О чём, спросите? О том, чтобы полюбил её воин. Но не тот, кто сложит богатства у её ног, и не тот, кто победит тысячу врагов. А тот, которому не страшна смерть во имя любви.
– Вот дура… – Глеб швыряет камень в море. Стук. Недолет.
– Полегче, друг. Это легенда!
– Что ж за любовь такая, если умирать надо? Ненавижу смерть.
– А кому она по душе? Так вот. Встретила девушка великана. Могучего, как дуб, высокого, как Эльбрус. Из тех, что давным-давно подчинились испам, служили им, строили для них дома и гробницы. Покорными они были, великаны, безвольными. И только он один посмел поднять на неё глаза. И в тот же миг звёзды остановили бег. И ветер стих… И морские волны застыли.
Он говорит, а перед глазами – картинка: вот замерли ледяными глыбами волны. Вот, запрокинув голову с каштановыми волосами, малышка-девушка смотрит в глаза бородатого великана… И упала на бок огромная корзина с гладкими валунами, и чуть вдали на тонких лапах переминается заяц. Вадим жмурится, прогоняя наваждение.
– Но поняли они оба: нет, не быть им вместе. Ни колдовство испов, ни мощь великанов не помогут им. Взмолились тогда небесам. Но Солнце молчало и горный ветер молчал. Только Луна ответила им: «Так и быть, обвенчаю вас. Готовьте место для алтаря, такое, чтобы ближе к небу».
И спустился тогда великан на дно моря. И принёс он на вершину горы осколок морской скалы, и выточил из него алтарь. И в полнолуние посадил любимую к себе на ладонь, и поднялся с ней на гору. Там и обвенчала их Луна. И с тех пор они навсегда вместе. Летают меж звёзд, под лунным светом. Сбылась мечта. Всё.
Волнуется Вадим, комкает фразу. «Не поймут они, нет, не поймут…» И правда, Глеб неумело плюётся на гальку:
– Короче, она эльф, а он орк, что ли? Или кавказские Ромео с Джульеттой? Фигня какая-то. Сказки.
– Возможно. Но камень тот до сих пор, уже много веков, стоит там. И кто коснётся его – того вылечит.
Девчонки переглядываются.
– А если в полнолуние прийти, то мечту исполнит, так старейшины говорят.
– Он правда, что ли, есть?
– Ну да.
– Отведи нас туда… – Алиса держит сестру за руку, они смотрят на Вадима блестящими в сумерках глазами. – Нам очень надо.
– Далеко это, за серпантином. Не здесь.
Тишина в ответ. Глеб толкает его локтем в бок.
– Но я поговорю с дедом. Может, он отвезёт. Там водопады, красиво.
Девчонки смеются. Обе. Уже хорошо.
– Завтра решим. Одевайтесь и пошли. Прохладно уже.
Он собирает вещи и не спеша идёт к дороге. Девочки убегают вперёд, а Глеб, догоняя его, трогает за рукав.
– Знаешь, отец не такой гад, как может показаться. Но на меня ему точно плевать. Я для него обуза.
– А ты подумай, о чём он мечтает?
– Он?
– Конечно. У каждого есть мечта.
– А у тебя?
– Да. Пожалуй, есть уже. Я бы кино про вас снял. Как вы купались и сидели тут до ночи, слушая мои бредни. А ну, кто быстрее до того фонаря?
Через два дня во дворе, когда Вадим будет грузить в такси чемоданы, его подзовёт к себе Генерал.
– Глеб сказал, ты хочешь учиться.
Вадим удивится. Это здесь причём? Они ездили на водопады вшестером: Глеб, девчонки, он с дедом и этот здоровый мрачный мужик. Ну как – ездили. На открытом «уазике» получилось добраться лишь до ущелья. Дальше – только пешком. Устали. А камень оказался обычным куском скалы, горячим от солнца. Долго вокруг него кружили девчонки… Прислонившись спиной и глядя в небо, стоял Глеб. Когда спускались обратно, Генерал вдруг спросил у Вадима, почему его семья уехала из Абхазии. Вадим коротко и рвано рассказал о войне, с которой не пришёл отец… хотел-то он ведь всего ничего: жить в мире, растить мандарины на земле предков жены своей. Генерал промолчал. Потом выдавил:
– Вот как, значит. Не знал я об этом.
А сейчас он смотрит на него и твёрдо, глухо, будто камни на песок, роняет слова:
– Так. Школу закончишь, приезжай в Москву. С институтом помогу. А пока – держи. Тренируйся. И вот ещё что… спасибо тебе за Глеба. Ну… и матери твоей тоже спасибо.
Вадим склоняет голову, признавая его, Генерала, превосходство. И тот надевает ему на шею широкий ремень с тяжёлым футляром.
– Отличная камера, японская. Всего год назад купил, но так и валялась без дела. Разберёшься.
Вадим опускает чемоданы на раскалённые мраморные плиты. Изо всех сил, но молча жмёт широкую руку. «Я разберусь, Генерал. Я смогу».
II
Годом позже в поезде, что гонит, спешит к южному солнцу, на весь вагон раздаётся требовательный голос:
– Тоша, не стой у окна, продует!
Девчонка в соседнем купе хмыкает, передразнивая:








