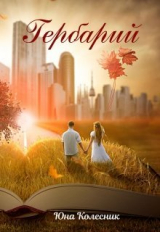
Текст книги "Гербарий (СИ)"
Автор книги: Юна Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Лист восьмой. Антон. Мак опиумный (лат. Papaver somniferum)
I
Вадим никогда не был здесь. Зачем приходить туда, где тебе не рады?
И вот он берётся за дверную ручку, уже почти нажимает её, чтобы выйти. Лишь на какую-то долю секунды замирает, останавливается. Почему? Что не даёт ему уйти? Интерес? Желание понять? Злость? Трудно сказать. За этот месяц чувства стали серыми, погасли, будто моноблоки в студии после съёмки.
Он наклоняется, снимает давным-давно нечищеные ботинки и идёт по длинной прихожей мимо зеркала без рамы, мимо коричневого пуфика из кожзаменителя. Ленивой ящерицей вползает в мозг нечто, похожее на ехидство: «Такие штуки кошкам нравятся, когти точить. Но у неё и кошек-то нет».
Он шарит ладонью по стене, щёлкает выключателем, обои вокруг которого оказываются тёмными, замасленными… И видит сразу две комнаты. Странная планировка – большой зал, вытянутый, без балкона, с широким трёхстворчатым окном во двор, и слева арка-проход в маленькую комнату, тоже узкую, получается, смотрящую на проспект.
Вадим никогда не был у тёщи. Да, встречались, когда она приезжала к ним в Москву, да, пересекались и здесь, в основном на вокзале, по разным насущным делам. Но тут, в этой квартире, где выросла его жена, где бегала она босиком, с распущенными косами, куда возвращалась из школы… и откуда сбежала к нему вместе с сыном – тут за двадцать лет брака он не был никогда.
«Почему тебе стыдно? Ты не вор, не нахлебник. Ты зритель. Как всегда. Всего лишь зритель, наблюдатель, вовремя нажимающий кнопку. Фотограф, оператор. Почему невозможно хоть что-нибудь сделать? Отмотать назад эту плёнку… Месяц, почти месяц бессмысленно потерянного времени! И врачи пожимают плечами, а Маринкины глаза гаснут с каждым днем…»
Вадим вдруг понимает и ужасается сам себе: «Неужели ты хочешь не просто узнать, неужели ты хочешь запомнить?..»
Они уехали из Москвы, чтобы оперироваться здесь. Что её тянуло сюда, в родной город? Мать? Младший сын, который, бросив столицу, перебрался сюда учиться и живёт один, крутится…
«Докрутился. Нет, нет, нет. Это недоразумение. Всё разрешится, уляжется. Что сделать, каким богам молиться, чтобы Марина не узнала про Тёмку? Только не сейчас… Завтра приедет Глеб, старый друг, у него связи, он поможет».
Марине стало хуже утром того дня, когда арестовали младшего сына. Она уже была в больнице, когда полиция ворвалась в квартиру. Вадим отгоняет мысли об Артёме, он просто не может вместить в сознание, что беды окружили их семью, словно чёрные тени, вьющиеся клубком, высасывающие силы своими вампирскими клыками. Мысли устало мечутся по отполированному, заезженному кругу.
Да, он не хотел уезжать. Но на новом месте все сложилось – и его работа в телекомпании, и работа для Антона, старшего. А потом – такая приятная суета: продажа дедовской квартиры и покупка новой, с частичной мебелью и дизайнерским ремонтом, от которого они все разом поначалу пришли в весёлый ужас. И наконец – то, чего он ждал: Тёмка сам пошёл навстречу, попросив о помощи… Девушка сына – ершистая, своенравная, но неизменно вызывающая усмешку и желание щёлкнуть её, колючку, по носу. Невеста… Его друзья, о которых так много говорила жена: Никита – настороженный, с мягкими, словно у снежного барса, движениями, хмурая маленькая Милка – бесцветная, с привычкой снизу заглядывать в глаза говорящему. Новые, молодые лица. Новая энергия.
«И вдруг, резко, девочка твоя, Марина, Мариночка, снова сникла… Всего полгода прошло после операции – и опять слабость, и непонятные анализы, и паника… и она не отпускает от себя, не желая ни вставать, ни слушать, ни говорить. Он миллион раз просил врачей, он давал деньги, он умолял: «Сделайте всё!» А врачи брали купюры, сдержанно кивали и пожимали плечами: «Ждём результат гистологии. Пока этиология неясна». И не отпускали, хотя она первое время рвалась домой… Неужели поняла, что с сыном беда? Сколько ещё у них получится скрывать, что он под следствием?»
Вадим качает головой, отгоняя призраки бессонных ночей, холодных рук, свистящего шёпота. Когда Римма Васильевна, тёща, позвонила ему сегодня, в обычном её ледяном голосе была растерянность, и он долго не мог вникнуть, что же нужно сделать. Колонка, вода, соседи… Просто бытовая проблема. У старой «Астры», которой, наверное, лет сто, потёк радиатор, отказала автоматика. Аварийная приехала, перекрыла воду и зачем-то газ, велела колонку срочно заменить. И тёща приехала в больницу, первый раз за месяц. Вместе с ключами упорно предлагала свою пенсионную карточку, он не взял. Надела халат, переобулась, а он поехал за газовой колонкой, прямо в магазине договорился с мастером, привёз его и через час принял работу. Быстро. И кажется – всё, можно возвращаться. Но что-то держит, зовёт его внутрь этой странной хрущёвки…
Он, подчиняясь, шагает. Заходит в маленькую комнату. Ещё один выключатель. Несуразный диванчик-чебурашка, шкаф, угловой письменный стол. Детские книги, энциклопедии о транспорте и космосе. Диски. Наушники. Маленькие боксёрские перчатки на ручке шифоньера. Ни пылинки. Ни следа от того, что здесь давным-давно жила девочка. Только вещи Антона, старые вещи. Хотя вот, смотри-ка, беспроводные наушники, флешка. Значит, Антон и сейчас бывает здесь, у бабушки.
«Хотя… Откуда тебе знать? Тебе сорок, Вадим, а ему уже тридцатник. Своя жизнь, своя… Вот почему он перестал звать тебя отцом? Года два после рождения Тёмки звал, а потом – как отрезало. Стеснялся? Всё-таки разница между вами всего десять лет. Помнишь, как вы ходили узнавать про усыновление, и кабинетная некрасивая женщина сказала: “Если вы в браке, то никаких проблем, оформляйте”. А Римма Васильевна измучила звонками, кричала в трубку: “Что за глупость выдумали? Пусть носит фамилию отца, пусть помнит, что почти сирота, что отец умер! Какой смысл? Только без пенсии по потере кормильца останетесь!” И вы задумались… Зря? Да, наверное, зря… Но денег и правда не хватало… А если бы Антон стал сыном и официально, по документам, может, по-другому сложилось бы…»
Он выходит из комнаты, погасив свет, оказывается в зале. Синие шторы с жуткими ламбрекенами, что режут все мыслимые пропорции. «Телевизор – ваш с Мариной подарок на юбилей. Ты предложил тогда подключить, настроить, но тёща так глянула, что ты молча развернулся и ушёл. Она не любит принимать помощь. А из твоих рук – вообще никогда. Сегодня – это от безысходности».
Островок уюта – пухлый диван и парные бра на стене, картина с алыми маками – репродукция Моне, единственная стоящая вещь в интерьере. Рядом – низкий журнальный столик, советский, полированный, заваленный рекламными газетами. Внизу на полке – стопка альбомов. Вадим присаживается, дотрагивается до верхнего, бережно обёрнутого в целлофан, с букетом сирени на обложке. Под ним – и не альбом вовсе, папка, большая, на тряпичных завязках.
«Что ты хочешь найти? Маринкины детские фото. Как она росла, взрослела, может, и свадебные… У вас-то свадьбы не было, просто расписались».
Но альбом – толстый, разбухший – был весь целиком только о внуке. Младенческая улыбка, первые шаги, игрушки. Детский сад, школа. Потом – тоже он, на тех снимках, что они присылали ей в письмах. Парк Горького, они вдвоём с коляской и рядом – Антон, перемазанный мороженым. Антон на цепочной карусели, Антон в метро, у Кремлёвской стены, на тренировке, на велике, на скейте – а это он, Вадим, снимал на длинную выдержку… И такой же каруселью – Антон с девушкой, с другой, с третьей…
Вадим убирает альбом, берёт в руки папку, тянет веревочки. Открытки, нарисованные наспех мальчишеской рукой, картинки из пазлов, наклеенные на картон… Пластилиновые, уже потёкшие аппликации. Ни одного рисунка дочери, ни одной фотки младшего внука, а вот старшего – пожалуйста! Любовно собранные, не раз просмотренные…
Он позволяет себе откинуться усталой головой на спинку дивана. «Сегодня Антон снова был пьян. Звонил, что-то мямлил про свадьбу, про брата. И ты не стал с ним говорить. Как можно, зная, что Тёмка в полиции, а мать больна, так вести себя? Вот оно – бабкино влияние. Вот оно – всепрощение и избалованность».
Каким-то невероятным усилием Вадим гасит в себе эту многолетнюю привычку искать причину в ней, в тёще. Уже ничего не исправить.
II
Он поднимается, уходит на маленькую кухню, щёлкает кнопкой чайника. Та резко прыгает вверх. Воды нет, верно. Пустой. Открывает кран, ждёт, пока стечёт вода из новой колонки. Наполняет чайник, снова нажимает кнопку. Стоит рядом, тупо глядя в окно.
«Признайся, Вадим. Вы с ней, с тёщей, слишком похожи. Вы оба гордые. И вы оба считаете его, Антона, своим. Это не так, но вы всю жизнь дёргаете его, как куклу. Послушай, разве она мало помогала вам? Ты отправлял его к ней, к бабушке, на всё лето. Ты давал молчаливое согласие на подарки, которыми она осыпала его, может, обделяя себя?»
В шкафу над плитой кофе нет. Цикорий, что-то травяное, что-то для снижения сахара… «У неё же давление, ей нельзя кофе», – вспоминает Вадим.
Наливает кипяток в высокую кружку, топит в ней чайный пакетик, возвращается на диван, берёт в руки последний альбом. Его бордовый бархат почти не истёрт временем, и он, словно театральный занавес, открывает Вадиму целый мир.
Сначала – стопка совсем старых снимков, пожелтевших, с изъеденными краями, здесь, в этой настоящей сепии, не понять – кто есть кто. А вот дальше – так же между серыми картонными страницами – веера фотографий разного качества, разного формата, но неизменно – дом с высоким крыльцом. Двое взрослых – родители – и трое детей. Он узнал её, Римму, невозможно было не узнать. Изгиб бровей, поворот головы…
Она была младшей, младшенькой, любимой. Вот они, надписи на оборотах: «Куколка наша», «Ненаглядной девочке сегодня уже восемь», «Ласточка моя, Римуля». Двое братьев и она – конфетка, цветочек, девочка. У Вадима защемило в груди: «Дочери у тебя нет… Олеся, Тёмкина невеста, хорошая, яркая, близкая душе, но как теперь у них сложится?»
Вот ворох институтских фоток, много, и все – солнечные.
«Юность… И юности такой у тебя не было. Только год ты жил в общежитии, всего год. Учёба с утра, а потом съёмки, на которые порой приходилось ехать за МКАД, потом – проявлять, печатать. Всё делал сам, пока не нашёл свою, проверенную лабораторию. Насколько проще сейчас… А как на лекциях писал Маринке письма, помнишь? Длинные. А потом вырвался, приехал к ней. Она сейчас без тебя, с матерью… Выкарабкайся, милая! Только не сдавайся».
Прикусывая губу, он откладывает в сторону несколько снимков – вот братья-погодки, что сгинули в Афгане. Вот девчонки в сквере на деревянной скамье.
«А фотограф-то – явно парень. Озорной ракурс чуть снизу, с уровня клумбы. И короткие юбки не прикрывают, а выставляют напоказ красивые ноги, безумно длинные и стройные у каждой. Ай, молодец… Не просто так это фото напечатано крупно. Вот она, Римма, анфас, половина лица спрятана за крутыми кудрями и половина улыбки – в тени. Не презрительной улыбки, нет, счастливой, беззаботной…
Вот экзамен. И она, растерянно взглянувшая в объектив. Субботники, походы, какие-то собрания. Везде в центре кадра – она. Кокетливая, задумчивая… Разная.
Почему ты всегда воевал с ней? Почему всегда чувствовал даже не радость, а чувство победы, превосходства, когда получалось по-твоему? И ты считал, что это единственно верно и правильно для вашей семьи, в которую ты не хотел её впускать.
А вот вручение дипломов, и фото явно сухое, официальное, не любительское, и автор другой, сразу видно. Но здесь уже иное лицо. Будто постаревшее вмиг».
Он захлопывает бархатную обложку. Лихорадочно думает: «Остановись, Вадим. Какой это год? Смотри даты. Она. Фотограф. Неужели вы за это так ненавидите меня, Римма Васильевна? За то, что я напоминаю вам о нём – том молодом парне, который везде таскал с собой камеру? Который ловил солнечные блики в ваших глазах? А потом… Что потом? Почему вы расстались? Из-за ребёнка? Из-за той, что подарила мне счастье, а вам – потом, через многого лет – любимого внука? Похоже, что так».
Он машинально складывает альбомы и папки обратно в стол. Что-то мешает, он наклоняется и вынимает отдельно лежащий конверт – большой, белый, новый. Вадим открывает его и видит внутри фотографии Олеси. Плохого качества, явно скачанные откуда-то из соцсетей, увеличенные, распечатанные на простом струйном принтере. Он недоуменно переворачивает одну. «Всё ему. Всё всегда ему», – наискосок, размашисто почерком Антона. От пронзившей мозг догадки, как от неумело вставленной иглы эпидурального наркоза, Вадима парализует.
Он опускает голову на руки, не замечая пролитого на газеты чая. Вибрация телефона заставляет его вздрогнуть. Голос тёщи в трубке звучит устало и тревожно:
– Вадим. Сынок. Приезжай.
«Сынок?»
У него ухает сердце, скатываясь вниз, вниз, словно с горной кручи – в ущелье. Вскакивает, спотыкаясь, бежит к двери, кричит в трубку:
– Что с ней? Что с Мариной?
– Не волнуйся. Гистология пришла. Всё хорошо.
И он, взрослый мужик, известный в своём окружении человек, сползает спиной по стене и плачет, сидя на корточках в старой хрущёвке, потому что не может заставить разум свой мыслить иначе, не так, как привык все эти годы.
Потом Вадим поднимается, несёт в ванную белый конверт с фотографиями и бежит на кухню, чтобы найти спички, не находит, щёлкает кнопкой электроподжига, зажигая плиту, а от неё уже – бумагу и сжигает конверт со всем содержимым, и моет ванну, и проветривает квартиру, двигаясь как робот, как неживое существо, как зомби.
Лист девятый, последний. Илья
I
День у меня с утра не задался. Ненавижу эту стрельбу, каждый раз уламываю себя: «Всё, хватит ныть. Целься, идиот, целься! Дрожат ручонки-то? А высыпаться надо. Давай-ка с двух. Ну, погнали!»
И выстрелы один за другим отражаются громом от бетонных стен.
Капитан опять морщится:
– Слабовато, Илья, сегодня. Еле-еле на норматив.
– Да иди ты…
– Илюх, давай с нами в «Гагарин», а? Кальянчик? – это уже на улице, коллеги мои, друзьями не назовёшь.
Отвечаю:
– Не, мужики. Мне в сантехнику ещё надо, смеситель накрылся. Хозяйка и так весь мозг выгрызла: кран капает, лампа моргает…
– Всё, всё, не бухти! Смеситель у него, ага. Опять в отдел попрёшься? Надо тебе?
– Надо. У меня очняк завтра.
– Кто?
– Голубев-Маркушева.
– Опять? Чего на сей раз?
– Она ему перфоратор сломала, он ей – палец.
– Нехило. Ну, бывай.
Провожаю их взглядом, поднимаю окно, поворачиваю ключ, думаю: «Тир – раз в месяц. А зачем? Нам-то, крыскам кабинетным, зачем эта огневая подготовка? От кого отстреливаться? Кого гонять? Малолеток по подворотням? Как же достало всё… И мужики вроде помочь хотят, чтоб развеялся, а мне неохота. Всё, поехали».
Но и в отделе нет мне покоя, без стука открывается дверь.
– Петрович, ты долго ещё? Седьмой час.
– Дверь закрой. И не шастай больше.
Голова хмыкает, оценивает мой поллитровый бокал кофе на стопке бумаг и задвигается обратно за дверь. Это Диман, он опять ждёт, когда его фифа из патруля вернется.
Медленно разгорается фонарь за окном, чего-то он поздно сегодня. Да, ты же поработать хотел. Маркушева – дура, конечно. Кто бы мог подумать, что в элитном доме такие страсти? Биты, топоры… Кухонным топориком покромсать здоровую «Макиту»! Жалко инструмент. А вот участковый там точно примазанный, его нарики пасут и те, кто повыше. Тут ничего не попишешь, бабла всем охота…
Смотрю в окно. Поверх забора вижу – люди спешат. А ты, Илюха, уже нет, ты уже никуда не торопишься. Раньше – да. Раньше – хотелось. Рвался, лез, карабкался, дежурства хватал одно за другим. А кому оно надо было? Что в итоге-то? «Илья, мы слишком разные…»
Надо ехать домой. Нет, не хочется. Закрываю глаза, вижу будто бы кадры из старого мультика. Заезженные, потёртые. Вот Вика, в высоких белых сапожках, с огромной золотистой кокардой на фуражке, и складки юбки разлетаются, когда она притопывает в такт своему барабану… А ты стоишь в оцеплении на Дне города и глаз не можешь от неё оторвать. Как давно это было… Ещё кадры – наша свадьба, её вечные гастроли с Губернским оркестром, твоя работа. Ремонт, мебель новая. А потом – голая Вика на руках у этого борова, такого же здорового, такого же неуклюжего, как его грёбаная туба. И слова, как только он рывком её на пол поставил: «Илья, мы с тобой слишком разные…»
А с ним что, одинаковые?.. Да нет, уже не больно. Фигня, прорвёмся.
Ничего у вас с Викой и не было, получается. Ждала просто, когда ипотеку выплатишь. И всё – финал. А может, надо было побороться? Квартира-то ляма три стоит. Если пополам – на гостинку хватило бы… Это тебе хватило бы. А ей – на что? На первый взнос. И пусть бы помучалась, как я эти семь лет. Так нет, ты же идиот. Ты себе чего оставил? Тачку. На кой? Тачку, комп и сумку с вещами.
Так. Всё. Голубев-Маркушева. Тебе завтра придурков этих мирить. Не в суд же дело передавать. Почему нельзя людей поженить принудительно? Всё выгода будет. Сломают стенку и будут вместе соседям спать мешать.
Смеюсь.
Старой балалайкой тарахтит внутренний:
– Петрович, тут тебя спрашивают.
– Ты не офигел ли, Диман? Дежурному звони. Мой рабочий день закончен.
Голос не обижается, хмыкает:
– Да тут девчонка. Говорит – по личному.
– Чего за приколы?
– Слушай, выходи и сам разбирайся. Я пропуск выписать не могу.
Накидываю куртку. Ладно, домой так домой. Закрываю кабинет, спускаюсь по лестнице, открываю дверь и в холле вижу её. Куцее пальто, шарф до носа, опухшие глаза. Идёт ко мне, протягивает руку:
– Илья Павлович, я Соколова.
– Петрович.
– Что? – таращится, не понимает.
– Отчество. Илья Петрович.
– А… Да. Вы меня вызывали.
– Не помню. Когда?
– Почти год назад.
Усмехаюсь:
– Долго же вы шли.
– Нет, тогда всё само собой решилось. Сейчас другая история. У вас есть время? Я не зря пришла?
– Понятия не имею, зря или нет. Но время есть. На улицу пойдёмте, Соколова.
И вот мы мотаем круги вокруг памятника на маленькой площади. Она говорит торопливо, захлёбываясь. Артёма, однокурсника её, задержали, подозревают, что поджёг дом, где выросла его девушка. Она-то выбежала в сорочке, а вот бабушку не спасли. Куртка Артёма осталась на заборе, сам он ничего не помнит. И денег в семье сейчас, чтобы забрать его под подписку, совсем нет, потому что мать в больнице. А с Олесей они собирались пожениться, но не получается, потому что она навыдумывала себе чёрт знает что.
И я вдруг ясно и отчётливо вспоминаю. И драку в общежитии, и эту девочку с зарёванными глазами, что изо всех сил тогда выгораживала парня. Какого именно? Этого же Артёма? Или нет? И Лазарев… Полковничий внучок, которому тогда попало. М-да… Год прошёл. А ты изменилась, Соколова. Тогда была дрожащая тень, сейчас – уверенная, с почти отчаявшимся, но требовательным взглядом.
И ещё. Это был тот самый день, когда я застал Вику с боровом. С того дня всё и покатилось к чертям собачьим. Неспроста всё это, ох неспроста.
Останавливаюсь у скамейки.
– Так. А теперь давай с самого начала.
II
Закрутилось потом, закрутилось… Сначала я был уверен, что всё так и есть. Мало ли, ревность, просто нервишки сдали у парня этого, Артёма, или пару косяков выкурил, вот и накрыло.
Тем более что Мартынов, молодой следак, что вёл дело, сразу сказал, что алиби нет. По словам обвиняемого, он вышел из общежития не слишком трезвый, доехал на такси до дома, на крыльце темно было, удар и всё. Якобы очнулся под утро здесь же, у подъезда, руки-ноги затёкшие, голова в крови, куртки нет. Поднялся домой, спал до обеда. Камеры? Да, смотрели, они уже две недели как не работают. Свидетелей, которые видели бы его вечером у подъезда, нет, хотя опросили соседей, три человека возвращались поздно плюс компания пиво пила. Меня смущала кровь на куртке и то, что следов бензина на одежде и обуви не было и в помине. Мартынов материалы дела не показал, только озвучил кусками, а потом дал понять, чтоб я не лез больше.
Ну как тут быть? Решаю съездить на место, хоть какое-то развлечение.
Машину бросаю на грунтовке перед деревней. Дальше «Логан» точно завяз бы в непролазной мешанине: глина, солома какая-то… В колеях от пожарных машин, до краёв полных мутной жижи, плавают коричневые листья. Пробираюсь вдоль забора, скользя ботинками по траве, кляня себя, что не догадался взять из кладовки оставшиеся от отца рыбацкие сапоги. Неловко ухватившись за доску, загоняю в руку занозу. Матерюсь.
«Как тут народ живёт? Дыра дырой. Чёрт тебя дёрнул ехать сюда, Илюха! Не твоё дело-то, не твое! Что тебя погнало? Честолюбие? Жалость? Красивые глаза?» – собственным хохотом спугиваю стаю ворон с высоченного дерева.
Стою у калитки – только щеколда, замка нет… И собачьей будки тоже нет. Странно… Где-то тут, на заборе, и нашли куртку этого парня. Девчонка, идиотка, сама же и признала её.
Обхожу вокруг дома.
Что обычно ищут на месте? Окурки? Так полно их тут. А вот были ли здесь криминалисты вообще? Кто станет в деревне грунт просеивать? Следы? Всё уже затоптали и пожарники, и соседи любопытные. Вон дедок местный лысиной светит поверх забора.
– День добрый, уважаемый!
Нырк. Скрылась лысина.
По дворам идти? Всего-то три хаты в два ряда. Дачники разъехались, а постоянные молчать будут, даже если и видели чего. Себе дороже. Поживи-ка вот так в глуши, собственной тени бояться станешь, не то что мужика чужого, пусть и ксивой тыкающего.
Не рискую заходить внутрь домишки. Обгоревшие балки скрипят, грозясь обрушить на меня чёрный скелет, да и так ясно – загорелось по периметру. Классика жанра – бензина по завалинкам плеснуть, спичкой чиркнуть.
Ещё раз обхожу дом и двор. Летний курятник, нетронутый огнём, но пустой. Сарайка. Открыл дверь – лопаты, вёдра, грабли. Корзинки, ящик с инструментом. Чисто.
Поддеваю грязным ботинком такую же грязную перелопаченную землю. Мечтаю: «Вот найти бы зажигалку какую-нибудь приметную, сувенирную, с гравировкой, эффектно выйти по ней на злодея и порадовать девочку». Закуриваю. Набираю номер, окончательно вживаясь в роль киношного детектива:
– Соколова, приветствую. Это Илья. Скажи-ка, а Артём курит?
– Здравствуйте. Нет. И не пробовал никогда.
– А кто из ваших курит?
– Ну я курю, вы же видели. Никита курит.
– Ты – бросай. Ещё кто?
– Антон, брат Артёма…
– Ясно. Как дела-то твои?
– Мои – хорошо, – она отвечает слегка недоумённо, очень холодно. – Только непонятно, Артёму это как поможет?
Я не дослушал. Буркнул: «Ну бывай» и отключился.
Брат. Побеседовать бы с ним. Дома у Артёма в то утро была суета – мать увозили в больницу, но брат, может, что-то путное расскажет?
Вернувшись в город, сначала зависаю в соцсетях. Где они сейчас тусуются? ВКонтакте, Инстаграм? У Артёма новая совсем страница: море, Олеся, Олеся… А вот и брат его – Антон, не запутаться бы… какие-то клубы, хотя нет – вот и из офиса, вполне приличный человечек. Едем дальше: друзья, друзья друзей. Ничего любопытного, но на душе становится тоскливо: молодые, полные сил, а ты, Илюха, в кого превращаешься? В крыску кабинетную.
Открываю профиль Олеси. Маскарадная страничка: яркая, провоцирующая. А вот и тот самый Лазарев, бывший Олеськин парень, до сих пор в друзьях у неё, голубчик. На деда как похож! Тот же нос с горбинкой. Сколько девок вокруг него – мама не горюй, и ни одной фотки с семьёй. А ведь у него дочка растёт. Вот его, мажора, закрыть бы лет на пять, из воспитательных соображений. Нет, не он, точно не он, мараться не станет, да и забыл уже про Олеську, скорее всего.
Так. Что ты можешь, Илья Петрович? Система уже заработала челюстями, теперь перемалывает, довольно пуская слюни. Ты не адвокат, чтобы высосать из пальца мощную защиту. Алиби у парня нет. Сделать ему алиби? Как?
А что ты вообще умеешь, Илюха? Нарики, бытовуха, таблицы, графики. Отчёты, показатели. А в чём ты силён? Точно не в документах. Твоя фишка – дознание. А что это в первую-то очередь? Для тебя – выяснение причин. Ты умеешь слушать, вычленять из сумбура главное. Сравнивать, наблюдать, вытаскивать мотивы по зёрнышку, чтоб следствие потом в сторону не ушло. Но вытаскивать не из бумаг, не с места преступления, а из человека. Вот что ты можешь. Уже лучше. Но если и беседовать, то с теми, кто совсем рядом. Здесь от кого-то из своих подстава.
На следующий день, благо, это воскресенье, планирую несколько встреч.
Сначала с девчонкой этой, Олесей. Она рыдает, постоянно рыдает. «Как вы не понимаете? Я выросла там, с бабулей! А сейчас никого у меня не осталось! Мама с отчимом уехали. Дура, какая же я дура… С Тёмкой всё сложно, он такой… он хотел подождать. А чего ждать? Я свадьбу хотела побыстрее и жить отдельно. Они могли бы нам квартиру купить, могли бы! Я разве виновата, что мать у него опять заболела?» Нет, не она. Наследство? Дом давным-давно переписан на неё, на внучку. Да и накоплений у бабули почти не было, всё на жизнь уходило.
Чижов, Никита, парень Соколовой, от разговора со мной отказался наотрез. Развернулся и ушёл. Не дурак. Но и у него мотивчик можно найти. И пара приводов есть. Гол как сокол. Зависть? Ревность? Конечно, пол-общаги видели его в тот вечер, они винцо пили, пели, всё мирно. Но там и Артёма видели, и саму Милку – они собирались домой, вместе вызывали такси. Сначала её подвезли, а потом он один поехал, сказал, к родителям вещи разбирать. Плохо. Опять плохо. Пожар случился в два ночи. Можно ли было незаметно пробраться мимо вахтёра и доехать до этих чёртовых Осинок с десяти до двух? Да без проблем.
С Антоном я встречаюсь возле офиса телекомпании. Беседа выходит очень краткой. Скорее не беседа, а монолог. Он говорит – я слушаю.
– Свою точку зрения я изложу. Пусть и в очередной раз, мне несложно. Во-первых, брат мой связался с дурной компанией. Удрал из дома после школы. Съёмная квартира, потом общежитие, спиртное, – он развёл руками. – А ведь рос отличным парнем, и увлечения правильные, и моральные ценности на высоте. Влияние социума, не иначе. Возможно, напугать он её хотел, невесту свою. Напугать, а потом спасти. Знаете, этакое геройство на грани с помешательством. А когда понял, что ситуация вышла из-под контроля, сбежал. Плюс, конечно, состояние опьянения… Во-вторых, он её ревновал… – Антон двинул подбородком, словно зубы сжать хотел.
– К кому? – я удивился.
– …к дому к этому, к бабке. Там была Олесина конура, логово, в котором всегда укрыться можно. А теперь дома нет, и бежать ей некуда. Я не думаю, что планировалось… – он поморщился. – Убийство. По сути, подростковое баловство, а вылилось в преступное деяние.
Конура… Вспоминаю калитку без замка, жижу эту под ногами… Я ботинки еле отмыл, до сих пор возле батареи сохнут, хорошо хоть, что тепло дали. И тут загорелось искоркой в мозгу: были ли у Артёма джинсы и обувь в деревенской грязи? Не знаю. Пошёл ва-банк:
– Антон, где вы такую обувь берёте? Это итальянские? – быстро спросил я, кивая на его совершенно новую пару туфель. – И ещё один вопрос, прошу прощения: в то утро кто его пустил домой? Это вы встречали брата?
Ответ был слишком мягким, ласковым:
– Во-первых, туфли – это подарок. Во-вторых, в ту ночь я не ночевал у родителей. У меня, знаете ли, тоже личная жизнь. А в-третьих, вы слегка перегибаете палку. Ни ваш вопрос, ни вы сами к делу не имеете никакого отношения. Частной практики, уверен, у вас тоже нет. Я ведь мог бы и не соглашаться на этот разговор, так?
Я рассыпался в извинениях и удалился, матерясь, кляня себя за неосторожность. Но где же он был тогда ночью, если не у родителей? А впрочем, это неважно.
Сижу в кафешке часа два подряд. Очень хочется выпить. Каких людей надо бояться? Вот таких, пожалуй. Холодных, терпеливых, поджидающих момент. Как всё было? Сложно сказать. Скорее всего, он вырубил Артёма у подъезда, затолкал в машину и повёз с собой. Возможно, и его хотел туда же – в огонь, но когда Олеся выскочила, понял, что опоздал. А может, изначально так изощрённо задумал – только куртку подбросить. А потом – обратно в город и оставить парня на скамейке. Тот очухался, сам добрёл до квартиры. Как можно эту версию проверить? Экспертиза автомобиля. Камеры на дорогах. Дворники во дворе. Бабушки-соседки. Зацепки есть и много. Но постепенно я начинаю понимать, что не стану этого делать.
Поэтому и с итоговой запланированной встречей тяну до последнего. Отец Артёма, смуглый, с неухоженной, когда-то стильной бородой, приходит раньше меня. Крепкое рукопожатие, настоящее, и минуты три тишины.
– Вадим Михайлович…
– Вадим.
Киваю. Издеваться над ним будет недостойно. Спрашиваю сразу:
– Скажите, где ночевал Антон в ту ночь?
Он дёргает бровью, вглядываясь в меня, будто запоминая, а мне думается, что в юности это лицо было настолько живым, что каждая эмоция считывалась, как с экрана. Сейчас – нет. Чистый лист. Он расправляет плечи и говорит:
– У меня встречный вопрос. Зачем вам это надо?
– Меня попросили помочь.
Он кивает, невесело улыбается:
– Милка? Хорошая девушка, простая, сильная. Чем-то на Марину мою похожа, не внешне – по судьбе, по характеру. А насчёт сына… Не беспокойтесь! Ко мне приехал друг из столицы, юрист, он поможет.
– Не уходите от ответа, Вадим. Система наша вечно голодна. И она хочет вашего мальчика сожрать. Может и юриста на закуску прихватить.
– Согласен. Ей всё равно кого жрать – женщин, детей, невиновных или виноватых. Но нам с этим жить дальше. Если всё станет известно, ни Марина, ни тёща этого не переживут.
Полунамёки. Мы уже поняли друг друга.
– Антон ночевал у бабушки?
– Она говорит – да.
Одинаково наклоняем головы, жмём друг другу руки. Он уходит, не прощаясь. Смотрю ему вслед – совсем молодой мужик, всего лет на восемь старше меня, а уже такие взрослые дети. Сын и пасынок. Яблоко и паданец. Мне противно до тошноты.
Вадим позвонит мне этим же вечером, поздно, скажет:
– Илья. У меня к вам предложение. Вы уезжаете из города и больше никогда не вспоминаете об этой истории.
– О, как любопытно. Кино, да и только. А впрочем, так всегда. Хотел помочь, а теперь меня же подозревают в шантаже.
– Нет. Я вам верю. Но мы должны как-то справиться сами. Я предлагаю вам хорошую должность в хорошем месте в обмен на то, что ваши… м-м-м… догадки останутся при вас.
– Они в любом случае останутся при мне. И вы не господь бог, Вадим, чтобы вот так вершить судьбы. Спуститесь на землю.
– Я вершить не могу, но у меня есть друг, который может. Здесь у вас перспектив нет. Соглашайтесь. Впрочем, вам нужно время, чтобы обдумать. Когда решитесь, перезвоните мне.
Бросаю трубку. Лучше бы не связывался. Иду в круглосуточный, покупаю дешёвый коньяк. Сижу, тупо пялясь на хозяйские шторы и так же тупо напиваюсь.








