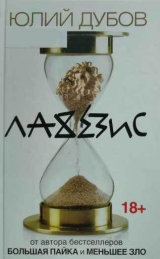
Текст книги "Лахезис"
Автор книги: Юлий Дубов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Мирон посмотрел в лицо Фролычу, медленно кивнул, вроде даже как попробовал улыбнуться, потом осторожно потрогал ладонью сперва поврежденную половину лица, а потом ощупал другую щеку. Теперь он весь был перемазан кровью, и видок у него стал тот еще. По команде Фролыча мы схватили Мирона под руки, он тут же обвис и жалобно заскулил.
– Театр заканчивай, – приказал Фролыч. – Страдай молча.
Мирон замолчал.
С ноги на ногу он все же переступал, поэтому тащить его оказалось не так тяжело. Уже в вестибюле я вдруг сообразил, что мы вполне могли нарваться на Джаггу, и просто чудо, что этого не случилось. Куда-то исчез Джагга из своего наблюдательного пункта. Поэтому мы сразу же оказались в зале, музыка замолчала, все, кто там был, шарахнулись по сторонам, а мы втроем остались в самом центре. Я только тогда сообразил, что Фролыча нет рядом, когда почувствовал, какой же Мирон здорово тяжелый вдруг стал. Я начал озираться, пытаясь понять, куда же делся Фролыч, и увидел его на сцене, рядом с музыкантами. Он стоял, подняв правую руку, как Ленин на броневике.
– Мы только что видели, – закричал Фролыч, – как наш директор избивал подростка. У нас в школьном дворе. Он бил его – лежачего – ногами. Как собаку. Я при всех называю нашего директора подлецом и подонком. Вы – подлец, Семен Тихонович.
Туг такая тишина наступила! У всех, кто в зале был, рты пооткрывались от изумления, потому что таких слов в адрес Джагги не только никто не произносил вслух, но и представить себе, что когда-нибудь это может быть сказано публично, да еще и прямо в лицо самому директору, просто невозможно было. И вот сначала было такое изумление, а потом стало что-то еще на лицах проступать – может, злорадство или такой странный восторг, который бывает в предвкушении неожиданной и удивительной удачи, когда осталось только руку протянуть, и в нее сам собой свалится невероятный и ценнейший приз. Как-то вдруг сразу лица изменились. А Джагга стоял слева у стенки, смотрел прямо на Фролыча, и физиономия у него было совершенно невозмутимая, будто бы все это не только не про него, но даже и не при нем.
А Фролыч продолжал витийствовать:
– Как секретарь комсомольской организации предлагаю всем комсомольцам в знак протеста против этого отвратительного поступка нашего директора немедленно покинуть вечер. И не приходить в школу, пока Семена Тихоновича отсюда не уберут. Он Недостоин руководить школой. Или он, или мы!
И знаете что? Все, как по команде, стронулись с места и пошли к двери. Они шли и не смотрели на Джаггу, а он провожал взглядом буквально каждого, будто хотел запомнить этих неразумных сопляков, посмевших восстать. Он вот так же каждое утро стоял, отбирая нарушителей, но сейчас он всю свою злую силу растерял, как Кощей, когда Иван-царевич добрался-таки до волшебного яйца с иглой внутри. Он уже ничего не мог с нами сделать.
Я даже не заметил, как рядом с Фролычем на сцене оказался инструктор райкома Николай Федорович.
– Ну-ка остановились на минутку, – скомандовал он, и все, кто еще не успел выйти из зала, повернулись к нему. – Давайте не будем горячиться. Мы в этой истории разберемся. Так что не нужно устраивать тут, понимаете, забастовки. Завтра обычный учебный день, и будьте любезны, чтобы все были на уроках. Без всяких, понимаете, фокусов. Тоже мне, понимаете, волнения в Казанском университете. Вот вы, да вы! Это вы секретарь комитета комсомола? Прекратите эту митинговщину. Завтра в десять жду вас у себя.
– Яс Костей Шилкиным приду, – заявил Фролыч. – Мы с ним вместе были во дворе и все видели.
Николай Федорович кивнул и повернулся к директору:
– Семен Тихонович, на пару слов… мы могли бы у вас в кабинете переговорить?
И они вышли из зала, а мое пальто с бутылкой во внутреннем кармане осталось лежать на скамейке.
Фролыч и я выходили из школы в числе последних, и, когда поравнялись с кустами, нас окликнул Мирон. Мы завернули к нему за кусты. Мирон уже оклемался и курил, выпуская дым через ноздри.
– Выпить хочешь? – спросил Фролыч, протягивая руку.
– А есть? Давай.
Я открыл бутылку и отдал Мирону, тот жадно сделал несколько глотков.
– Классно вы с ним обошлись. Что теперь с ним сделают?
Фролыч обтер носовым платком горлышко, тоже хлебнул и отдал бутылку мне.
– Попрут с работы. Я так думаю. Что и требовалось.
– А что – он вам здорово насолил?
Фролыч кивнул.
– И вот вам прямо так поверят?
Фролыч снова кивнул. Он был очень доволен, просто таки распирало его.
– Еще как поверят. Твою рожу вся школа видела.
– Так ведь он же меня ногами не бил. Он меня вообще не бил, только толкнул, а я не удержался.
– А это пусть он сам доказывает. У нас есть один избитый в кровь – это ты, и мы с Квазимодо свидетелями. Послушай, Мирон, а ты еще кого-нибудь из нашей школы знаешь? Кроме нас?
– Вроде нет.
– Это хорошо. Ты на несколько дней сгинь куда-нибудь. Поблизости не появляйся, пока вся эта история не закончится. Ладно?
– Понятно, – сказал Мирон, тянясь к бутылке. – Боишься, чтобы я чего не надо не сболтнул? А что мне за это будет?
– А что ты хочешь?
– А я подумаю, – неожиданно серьезно ответил Мирон. – Увидимся на днях. Только без обмана чтобы. А то как бы вам не поплохело.
Он покрутил пустую бутылку в руках и запустил ее в стену. Сделал ручкой и исчез за забором.
Фролыч правильно придумал, чтобы обойтись в дальнейшем без Мирона – нам вдвоем договориться было легче легкого, а Мирона пришлось бы долго натаскивать, да еще его могли послать к врачу на освидетельствование, а врач спокойно мог никаких следов избиения не обнаружить, так что без Мирона было куда спокойнее. Конечно, нашу позицию это здорово ослабляло, потому что терялся потерпевший, и получалось, что просто наше слово против слова Джагги. И хоть один из нас – секретарь комитета комсомола, которому нет никакой нужды возводить на директора школы напраслину, но Джагга – старый фронтовик, может даже какой-нибудь герой и орденоносец, и если он расскажет, как Мирон его обзывал полицаем и фашистом, то неизвестно еще как все может повернуться.
Но обошлось все без свидетельских показаний и очных ставок. Мы пришли на следующий день к Николаю Федоровичу в райком, он подробно расспросил нас, что мы видели во дворе, знаем ли мальчика, с которым, как он деликатно выразился, произошел конфликт (мы сказали, что впервые увидели), и как вообще в школе относятся к директору.
Я хотел было рассказать начистоту, как у нас в школе относятся к Джагге, но Фролыч наступил мне на ногу и объяснил, что Семен Тихонович очень строгий директор, и это не всем нравится, но дисциплина и порядок в школе– на очень высоком уровне.
Никаких письменных заявлений с нас не требовали, да и Николай Федорович записей не вел. Просто так поговорили, за чаем с печеньем.
А под конец он сказал:
– Идите, ребята, учитесь. К вам вопросов нет. Есть, впрочем, совет. У вас вся жизнь впереди, так что запомните, Эти вот митинги, крики всякие со сцены, «долой» да «за мной», – этого ничего не надо. Это липшее все, ничего не решает, а вам только повредит, если будете продолжать в таком духе. Увидели где конкретный недостаток, подошли к старшему товарищу, просигнализировали. И все, больше ничего не надо. К вам непременно прислушаются и решат, как этот недостаток следует лучше исправить. Да еще возьмут вас на заметку, что с вами можно иметь дело. Я понятно объяснил?
Вот так и получилось, что историю с Мироном замяли, будто и не было, а Джагга из школы ушел. Вроде как по собственному желанию. Новым директором назначили нашего физика, который сначала старался, чтобы все было как при Джагте, и стоял по утрам у входа, следил за внешним видом, все такое, но у него к драконовским порядкам Джагги душа, судя по всему, не лежала, и как-то само собой спортивные сумки вытеснили портфели, нитяные чулки в резинку сохранились только для самых младших девочек, курилка из-за куста с сиренью переместилась в мужской туалет, а короткие прически у ребят превратились в запретные ранее битловки.
Эта новообретенная свобода соседствовала с сохранившейся памятью о Джагге, и мы с Фролычем вдруг стали частью легенды. Когда спустя полгода мы уже шли на выпуск, уходить из школы было ужасно жалко. Не из-за дурацких сентиментальных воспоминаний про «школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею», а потому, что здесь, в школе, мы уже были героями, а как там дальше сложится, никто из нас тогда не знал. Но свержение Джагги явилось для нас тем самым камнем на распутье, от которого и началась вся наша история жизни, потому что именно тогда мы поняли, что можем наносить ответные удары и добиваться своего, что мы вдвоем – серьезная сила, которую надо тренировать и наращивать, чтобы никакое внешнее покушение на нас не осталось без сокрушительного ответа. Мы тогда еще не понимали, чем нам надо заниматься и кем надо стать, чтобы сила эта могла проявиться во всей своей победоносной мощи, но жизнь нам через некоторое время это растолковала.
А чтобы закончить, расскажу, как я встретил на улице Джаггу. Это уже несколько лет прошло, и мы с Фролычем только что вернулись из стройотряда. Я шел по улице в зеленой стройотрядовской форме и увидел Джаггу. Он здорово изменился со школьных времен, стал совсем седым, а смуглый цвет лица поменялся на какой-то асфальтовосерый, еще он согнулся, сгорбился и стал вполовину ниже ростом, но я его сразу узнал. Джагга нес тяжелый пакет из прачечной, и я увидел его первым.
– Здравствуйте, Семен Тихонович, – сказал я. – Вам помочь?
Джагга остановился и посмотрел на меня.
– Не припомню что-то, – произнес он, наморщив лоб. – Не припомню. Лицо вроде знакомое. Не припомню.
– Я у вас учился в четвертой школе.
В его глазах появилось напряженное выражение.
– Да-да, – пробормотал он, и я понял, что он меня так и не узнал. – Да-да. Конечно. Если тебе не трудно, помоги, пожалуйста. Тут недалеко, но четвертый этаж. Лифта нет. Помоги. Спасибо большое.
Джагга жил в однокомнатной квартирке в хрущевской пятиэтажке. В комнате пахло старыми вещами и лекарством. Он заставил меня сесть за накрытый выцветшей голубой скатертью стол и ушел на кухню заваривать чай. Я стал озираться по сторонам. На стене висела большая карта Европы с красными стрелками, которые, как я понял, показывали перемещение его танковой части во время войны. Последняя стрелка упиралась в столицу Австрии Вену. Рядом с Веной к карте была приклеена иностранная почтовая открытка, где над зелеными деревьями возвышалось большое колесо обозрения, как в Парке Горького.
– Вас там ранило, Семен Тихонович? – спросил я, когда он вошел в комнату и стал расставлять на столе чашки, сахарницу, печенье и розетки для варенья.
– Там, – кивнул он. – Как только вошли в город, так сразу меня и зацепило. Так и не посмотрел на Вену в результате. Только на подходе, да и то – много ли из танка разглядишь. Тебе сколько сахару класть?
– А вас наши навещают? – ляпнул я и сам устыдился идиотского вопроса. Кому же придет в голову навещать эдакого изверга?
– Бывают, бывают, – неожиданно кивнул он. – Учители – те редко. Семьи у всех, дела. А ребята – те заходят. Ты в каком году оканчивал?
– В шестьдесят шестом, – соврал я, прибавив себе год. – Одиннадцатый «А».
– Ну да, – согласился он. – Конечно, конечно. Ваши часто бывают. Вася Тихонов. Лена Кирсанова. Она замужем уже. За хорошим человеком. Сейчас я тебе покажу.
Он достал из тумбочки под стареньким телевизором «Знамя» несколько толстых фотоальбомов.
– Сейчас, сейчас. Сейчас я ваш выпуск найду, – он шарил по альбомам съежившимися от старости пальцами. – Ага, вот. Вот это она с мужем. Это с их свадьбы. А здесь вот ваши фотографии с зимнего похода на лыжах. Тоже она принесла. Вот выпускная. Ты тут где? Я что-то вижу неважно.
– А я болел тогда, – снова соврал я. – Меня тут нет, на этой фотографии. Без меня снимались.
Джагга покивал головой.
– Да-да, – пробормотал он. – Конечно. Конечно. Жалко. Все же память. Школа. Мальчики; Девочки. Память. Вы же встречаетесь, наверное? Все вместе? Ты в школу-то заходишь? Как там?
– Давно не был.
– Это вот неправильно. Ты еще молодой человек, сейчас просто не понимаешь этого. А это очень важно – часто бывать там, где раньше проходила твоя жизнь. Вот ты жил, скажем где-то, а потом переехал. Надо непременно приходить туда, на старое место, хотя бы во дворе постоять. И в школу. И в другие места. Потому что если ты где-то долго был, там от тебя частичка осталась. И ты когда там бываешь, она с тобой, как сказать, воссоединяется. Если приходишь в старые места, то сам себя по частям собираешь. У меня вот, например, таких мест почитай и нету совсем. Деревню, где я родился, во время войны сожгли, так там ничего и нету с тех самых пор. Под Свердловском, где нашу танковую армию формировали, закрытый полигон; до Вены далековато. Да. Далековато. Ну и все такое. Ты в школу заходи непременно. Да?
Я кивнул.
– И ко мне заходи. Запросто. Я почти всегда дома. Будешь заходить?
Мы так ненавидели Джаггу – и за дело! – что мне и в голову не могло прийти, что есть какие-то другие ребята, прошедшие через все то же самое, но навещающие его и даже приносящие ему свои свадебные фотографии. И что он держит у себя в тумбочке заботливо подобранные альбомы с фотографиями всех выпусков, с зимних и летних походов, со школьных вечеров. Может, действительно, как он сказал, человек, передвигаясь по жизни, оставляет за собой какие-то частички самого себя, и возвращение к этим частичкам для него настолько ценно, что забивает начисто даже самые неприятные воспоминания?
Почему же у нас с Фролычем ничего такого нет? Из-за аффектогенной амнезии?
Я Фролычу про встречу с Джаггой рассказал через пару дней. Про то, что его из школы навещают, и про свадебные фотографии. Фролыч подумал и сказал так:
– Рабская психология. Быдло. Обычное пресмыкающееся быдло. Джагга их всех ногами топтал, а они к нему теперь с любовью и лаской, как собака к хозяину. Он для того и пытался нас в бессловесные подстилки превратить, чтобы боялись и уважали. Вот точно как собаки. Ее палкой по спине из всей силы, а она визжит от восторга и преданно в глаза заглядывает.
Квазимодо. Камень шестой
Мы, как бы это поточнее сказать, понимали общую цель, но не были готовы к тому, чтобы выбирать конкретную профессию. Потому что профессия профессией, но, чтобы реализоваться, надо – независимо ни от чего – быть на самом верху. Не в плане квалификации – к тому, как устроено советское общество, мы относились с полным пониманием и здоровым цинизмом, – а в плане обладания реальной властью, которая только и может в полной мере дать себя проявить, а без нее самая высокая квалификация – всего лишь бесполезная запись в личном деле.
Размышляя на эту тему, Фролыч родил как-то одну очень умную мысль. Он сказал, что кратчайший путь из точки А в точку В непременно должен проходить через точку С, под которой он понимал общественную работу. Но не такую общественную работу, чтобы стенгазеты рисовать, а настоящую. Типа встроиться в систему.
Ему этот самый процесс встраивания в систему казался простым и понятным. Через папашу и его связи. Связей этих было много, потому что, когда его папашу выгоняли из органов, он ни на кого из своих бывших сослуживцев показаний не дал и все взял на себя. Поэтому для него так более или менее благополучно все закончилось хорошим местом в бронетанковой академии, а потом, когда буря вокруг разоблачения сталинских палачей улеглась, его вообще в этой академии назначили первым замом, то есть фактически дали генеральскую должность, а еще вдруг вспомнили его подвиги во время войны и присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Звание, кстати, дали не за то, что он командовал каким-нибудь заградотрядом. Сам не видел, но Фролыч мне рассказывал, что у отца вся грудь в шрамах от пулевых ранений, да еще на спине в двух местах следы от вырезанных звезд. Дело в том, что он после войны гонялся по Западной Украине за бандеровцами, попал в засаду, его там пытали, резали звезды на спине, а потом расстреляли. Но он каким-то чудом выжил, и через несколько дней его подобрали в лесу.
До того он нормального цвета был, а когда его нашли, он уже был совсем седой, хотя и не старый.
Но воспользоваться отцовскими связями у Фролыча не получилось, потому что тот скоропостижно скончался. Это произошло на той самой даче, про которую я уже рассказывал, в начале ноября, когда прошел уже первый снег. Обычно в это время папаша Фролыча затевал клеить на даче обои.
У него на даче было много всяких полезных вещей – инструменты, посуда, телевизор, радиоприемник и всякое другое. Вывозить все это на зиму в Москву было хлопотно, а просто так оставлять – боязно, так как вокруг шалили и местная шпана вламывалась на дачи, чтобы поживиться. На этот случай у папаши Фролыча в стене на втором этаже был сделан просторный тайник, в который он убирал свои сокровища. А чтобы никто из грабителей не догадался, что у него в стене тайник, он всегда перед тем как закрыть дачу на зиму, заново клеил в комнате с тайником обои.
Папаша Фролыча на дачу поехал с самого утра, а Фролычу наказал, чтобы тот непременно был к обеду, сразу же после занятий, и чтобы без задержки. Потому что перетаскивать наверх вещи одному не под силу.
Я как раз только пришел домой, и тут мне Фролыч звонит, что у него какой-то облом по комсомольской линии, и надо срочно в райком бежать, и до вечера никак он не освободится, так что не могу ли я поехать вместо него таскать тяжести.
Ну какой райком в субботу… я, однако же, спорить не стад, хотя ехать мне не шибко хотелось. Хоть, как я говорил уже, папаша Фролыча со временем ко мне малость помягчел, но это ведь как – мы когда с ним сталкивались, по его лицу уже не заметно было, что он меня хочет немедленно придушить, но он меня сильно не любил, а меня это очень расстраивало. Я же ему, если честно, ничего плохого в жизни не сделал, а он меня просто так не любил, за то что я есть на свете. Для меня же, если я вдруг понимал, что меня кто-то не любит, не обязательно даже он, а просто кто-то, пусть и совсем посторонний, это было как острый нож. Я тогда старался что-нибудь сделать или найти какие-то слова, чтобы этот, который меня не любит, понял, что он неправ и что я вполне достоин лучшего отношения.
Часто это получалось, но с папашей Фролыча не выходило никогда. Если я начинал к нему подлизываться и говорить всякие правильные слова про коммунизм и про революцию, то он мгновенно мрачнел, замыкался и тут же находил себе какое-нибудь занятие, только чтобы не слышать, как я говорю правильные слова. Я теперь думаю, что это его богатый опыт работы в органах сказался: если видишь, дескать, врага, то так и надо понимать, что это враг, а не слушать, какие он там плетет байки.
Но это я теперь так понимаю, а тогда мне еще казалось, что, чем чаще я буду с дядей Петей видеться и рассказывать, как я уважаю всякие там советские идеалы, тем быстрее он поймет, что я свой и вообще хороший.
Поэтому когда Фролыч мне это задание насчет поездки на дачу подкинул, я сперва расстроился, а потом наоборот – обрадовался, что проведу с его отцом несколько часов, помогу ему таскать вещи и клеить обои, расскажу что-нибудь – например, что я начал серьезно изучать ленинское наследие, и он свое отношение ко мне резко поменяет.
Во-первых, Фролыч мне поздно позвонил, во-вторых, я сам еще проковырялся, собираясь, а в-третьих – отменили несколько электричек, и я два часа проторчал на платформе, из-за чего появился на даче уже поздно вечером. Намного позже, чем должен был приехать сам Фролыч, если бы его не отвлекли важные комсомольские дела.
Дядю Петю я нашел уже мертвым. Он лежал наверху, у вскрытого тайника, а рядом с ним был разбитый телевизор. Я так понимаю, что он ждал-ждал Фролыча, а когда все время вышло, то рассвирепел, решил все сделать сам, а с Фролыча потом спустить семь шкур. Для начала он потащил вверх по лестнице телевизор, но тот был тяжелым, дядя Петя перенапрягся, и тут с ним и приключился удар. Когда я его увидел на полу, то сперва подумал, что на него кто-то напал, потому что все лицо его было в крови, и на полу рядом с головой застыла небольшая лужица черной крови, но потом оказалось, что вся кровь вытекла из носа, потому что он надорвался, поднимая в одиночку по узкой крутой лестнице телевизор «Темп».
Телефонов тогда никаких на дачах не было. И вообще ничего и никого там в начале ноября не было, только заколоченные на зиму домики. Поэтому я побежал за три километра на шоссе, ловить машину, чтобы перевезти тело генерала в Москву. Битый час прыгал я по асфальту, но как только очередной водитель узнавал, в чем состоит срочный калым, как тут же давал по газам. Через час мне удалось, пообещав червонец и бутылку, уговорить трехтонку, и я подогнал ее к калитке дачи.
Вот так я и вез домой дядю Петю, отца Фролыча, – ветерана войны и органов, моего первого в жизни врага, укрытого желто-коричневым одеялом из верблюжьей шерсти, – в кузове зиловской трехтонки с невыметенными полусгнившими капустными листьями. Я сидел в кабине и показывал шоферу дорогу.
Я понятия никакого не имел, что полагается делать с покойником, поэтому мы заехали к нам во двор, я выскочил и побежал наверх.
Дверь открыл Фролыч – у него было накурено, шумно, играла музыка, а в столовой громко хохотали. Я так понял, что неотложные комсомольские дела уже закончились, и все отдыхают и веселятся.
Фролыч, как меня увидел, сразу изменился в лице – раньше завтрашнего дня нас не ждали, а дядя Петя лихие вечеринки сына не одобрял и разгонял тут же со всей беспощадностью, так что мое появление сулило неприятности.
– Фролыч, – сказал я серьезным голосом, – случилась большая беда. Мужайся. Твой папа умер.
– Ты чего несешь? – спросил Фролыч. – Чего случилось?
– Он умер. Я его привез. Он там, внизу, в кузове лежит.
Фролыч остолбенело посмотрел на меня, крикнул вглубь квартиры, что сейчас вернется, и побежал вниз, перепрыгивая через ступеньки. Я – за ним.
Фролыч подтянулся, запрыгнул в кузов, выпрямился и встал уставившись прямо перед собой. Потом сказал хрипло:
– Ну-ка залезай сюда.
Когда я тоже оказался в кузове, он показал пальцем:
– Значит, вот как ты с моим отцом обошелся. Ты понимаешь, кто ты есть? Какая ты мерзкая тварь?
Ему это даже говорить не надо было, я сам все понял, как только увидел. От тряски одеяло, которым был укрыт дядя Петя, развернулось и куда-то делось, скорее всего просто улетело по дороге. В пути тело болтало по всему кузову, поэтому одежда и волосы его были покрыты мокрой черной грязью, а лицо облеплено черно-желтыми капустными листьями. Из-под листьев был виден уставившийся в небо открытый левый глаз.
От удара по лицу я не устоял на ногах и сел на дядю Петю. А Фролыч соскочил на землю и побежал в подъезд. Я же дождался, когда лифт уедет, и пошел к себе наверх пешком. На душе у меня было пакостно, очень пакостно, потому что мне надо было на самом деле не рассиживаться с водителем в теплой кабине, а ехать в кузове и придерживать тело покойного – тогда ничего похожего не случилось бы.
Две вещи меня терзали – как я мог оказаться таким бесчувственным скотом, и что же теперь будет, ведь Фролыч мне никогда этого не простит. Я думал, что он теперь от меня отречется и не захочет меня знать из-за того, что я надругался над телом его покойного отца. Я понимал, какое неслыханное оскорбление я нанес своему лучшему и единственному другу, и от этого мне было так горько и страшно, что никакими словами я этого передать не могу.
Я открыл дверь на звонок – Фролыч стоял на пороге.
– Ты шоферу чирик и бутылку обещал? – спросил он, как ни в чем не бывало, и у меня мгновенно отлегло от сердца.
Я начал лепетать что-то жалобно извиняющееся, но он меня движением руки остановил.
– Понимаешь, какая смешная история – мы тут немного погуляли, и ни одной непочатой бутылки в доме не осталось, а все уже закрыто. У твоих ничего нет?
И больше он на меня не сердился. На похоронах мне даже досталось нести венок, а на поминках Фролыч при всех меня поблагодарил и предложил за меня выпить.
Ну это я немного отвлекся.
Итак, папаша Фролыча уже не мог воспользоваться своими связями в системе и Фролыча в эту систему безболезненно встроить. Тем более что, будь он жив, никогда бы на это и не пошел. Он был таким верующим в советскую власть и всякие идеалы марксизма-ленинизма, причем не просто верующим, а агрессивно верующим. Если при нем что-то такое сказать – что в Америке, например, живут лучше, чем в Советском Союзе, то для него такого человека больше не существовало. Он такого человека готов был своими руками расстрелять прямо тут же и не расстреливал только потому, что времена, все-таки, уже были не такими, как когда он еще служил в органах. Но клеймо врага и чуть ли не шпиона на такого человека он уже ставил навсегда. А если кто ничего про советскую власть и Америку не говорил, но просто не проявлял себя каждую минуту как настоящий советский человек, то папаша Фролыча его все равно считал врагом, но только скрытно затаившимся.
Он, наверное, очень расстраивался из-за того, что не смог вырастить из своего сына достойную смену, потому что Фролыч себя не слишком проявлял как настоящий советский человек в его понимании – и книжки читал не те, и музыку слушал не ту, и вообще больше интересовался собственным будущим местом в обществе, а не приближением окончательной победы коммунизма.
Я так понял, что Фролыч еще при жизни отца к нему как-то подъехал насчет того, чтобы встроить его в систему, но в ответ выслушал много чего неприятного. А потом они вовсе разругались, потому что Фролыч подъехал повторно и напомнил дяде Пете, как тот убавил ему год жизни, записав его родившимся первого января. Вроде как где были тогда твои светлые идеалы. Судя по всему, дядя Петя ему тогда все очень внятно объяснил, потому что больше Фролыч об этом не заикался.
Так вот, у Фролыча после смерти дяди Пети возникла другая идея. Идея лифта. Если наши собственные отцы нас в систему встроить не могут (а мой, собственно, никогда и не мог, потому что сам был не из системы), то надо воспользоваться другими отцами. Удачно жениться. Не на сироте. А так, чтобы был настоящий лифт, желательно скоростной. На самый верх.
Он составил список, как сейчас помню, из шестнадцати кандидатур и начал подбирать себе лифт. Звонил очередной девочке, договаривался о встрече или просто в кино пойти, потом провожал домой. Если дом с виду был не очень, то прощался у подъезда и больше не звонил. Если же экстерьер дома был более или менее подходящим, симулировал внезапный приступ якобы застарелого менингита и просил таблетку от головной боли. Это позволяло ему провести не только беглый осмотр квартиры, но и предварительно оценить, что представляют собой родители.
Через три месяца в списке остались всего четыре имени: Люда, Оля и две Наташи. Если бы их можно было разобрать на составные части, то из этих частей вполне получилась бы подходящая по всем статьям кандидатка. Наташа-большая была дочкой советского дипломата, командированного в Нью-Йорк по линии ООН. Это плюс. Все остальное у нее, если не считать действительно великолепных, белоснежных и очень ровных зубов, было в минусе, а по зубам, как задумчиво заметил Фролыч, лучше все-таки выбирать не жену, а лошадь. Оля, дочка директора крупного завода, внешне была вполне ничего, хоть и не красавица, но совершенно законченная дура. При этом еще смешливая дура, а гоготала она так, что, если это случалось на улице, даже отважные бездомные коты врассыпную летели по подворотням. Это даже не смех был, а какой-то икающий рев. Красивой была Наташа-маленькая: глаза, лицо, фигурка, ножки – Голливуд просто. Ее отец работал большим торговым начальником, и возможности у него были такие, что никаким ооновским дипломатам не снились.
Она настолько была хороша, что Фролыч закрутил с ней по-серьезному и стал водить к себе домой днем, когда матери не было. Мне он об этом сперва не рассказывал, не знаю почему. Про их роман я узнал от фролычевской домработницы Насти, когда встретил ее во дворе и спросил, дома ли Фролыч.
– Дома, – проворчала Настя. – Только ты сейчас туда не ходи. Он со своей проституткой.
– С кем? – переспросил я.
– А то ты не знаешь. С кралей своей. Бесстыдство просто. Я уж ухожу, когда она заявляется.
Я дождался удобного момента и спросил у Фролыча напрямую, правду сказала Настя или нет, и означает ли все это, что он уже сделал окончательный выбор.
– Я еще не решил, – признался Фролыч. – Но скорее да, чем нет.
– А что Людка?
– Да ничего! Ты смеешься, что ли?
Отец Людки был генералом бронетанковых войск и хорошим приятелем папаши Фролыча. Это он помог в свое время дяде Пете устроиться в бронетанковую академию, а потом и сам получил туда же назначение. У них была крепкая мужская дружба. По праздникам они ходили друг к другу в гости, так что Людку Фролыч знал очень давно, и разговоров, что у нас тут жених подрастает, а у вас невеста, наслушался вдосталь. Я бы, например, на месте Фролыча и минуты не размышлял и никакого списка из шестнадцати кандидаток не составлял, потому что Людка, она не была какой-то раскрасавицей, как Наташа-маленькая, но вот если она, например, оказывалась рядом, то это все сразу чувствовали, и что-то менялось немедленно, будто вдруг на тебя направили электрический фонарик, и хоть ничего от этого особенного не произошло, но все равно и стоишь ты уже как-то по-другому, и говоришь особенным голосом, и слова подбираешь более тщательно.
Вокруг нее очень много всяких крутилось, но все это было безнадежно, потому что она была совершенно без памяти влюблена в Фролыча. А он не то, чтобы был к ней вовсе равнодушен, он ее просто не воспринимал в таком качестве и в список внес просто, чтобы не пропустить ни одну из возможностей. Внес, но сказал при этом:
– Это уж точно ерунда полная, Квазимодо. Она ж мне как сестра. Ну не родная, так двоюродная по крайней мере. Мы с ней на горшках по комнате наперегонки соревновались. Какая тут, к черту, женитьба… Кровосмешение какое-то….
А ей было все равно, соревновалась она с Фролычем на горшках или нет. Это ей совершенно не мешало. Она просто ждала, когда Фролыч забудет про эти дурацкие горшки и посмотрит на нее так же, как все остальные из этого мужского хоровода, которые вокруг нее выкозюливались. Как я.
У меня это совершенно внезапно случилось, потому что я, как и Фролыч, на нее первоначально внимания особого не обращал. Она все время рядом крутилась, поэтому мне очень даже понятно было, почему ее Фролыч никак не вопринимает. Просто мы как-то после школы играли во дворе, в беседке, в кинга, и я на «не брать всех» огреб все взятки до одной. Тут она мне и сказала: «Тебе, Квазимодо, должно здорово в любви везти». И меня как током шарахнуло, хотя в этих словах ничего такого особенного не было.








