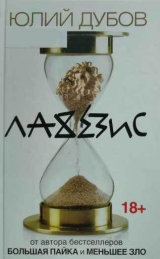
Текст книги "Лахезис"
Автор книги: Юлий Дубов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
– Ну что ж ты меня, совсем за дурака держишь? Я же не призываю тебя заявление писать или превращать товарищеский суд в уголовный. Давай позвоним Николаю Федоровичу. Он у нас партийный начальник, к нам относится вполне даже хорошо. Встретимся, все объясним. Честно скажем, что совсем не собираемся выносить сор из избы и устраивать из всего этого общественный базар. Но нас тревожит собственное будущее, рисковать которым очень не хочется, поэтому мы у него, как у старшего товарища просим совета. Потому что мы, с одной стороны, законы уважаем, а с другой – не хотим затевать разоблачительную бучу. Мне кажется, он правильно поймет и оценит. Райкому ведь эта история, если она как-то неправильно начнет развиваться, на пользу тоже не пойдет.
– А знаешь что? – сказал Фролыч. – А это гениальная идея. Мы с тобой получаемся не просто честные комсомольцы, но еще и такие, которые не любят несанкционированную самодеятельность. Таких ценят. Я, пожалуй, согласен. Надо только решить – Татьяну будем предупреждать или нет?
– А это просто. Надо сначала решить, мы вдвоем к Николаю Федоровичу идем или я один. Если я один, то можно не предупреждать, потому что со мной она не откровенничала, и я всю интригу раскопал сам, готовясь защищать Сурину. Если вдвоем, то тебе надо ей сказать, что я такой сукин сын, но ты меня одного не отпустишь и будешь держать руку на пульсе.
Вот так мы и порешили. Визит к Николаю Федоровичу прошел на редкость гладко и с очень положительным результатом для нас лично. Николай Федорович сказал, что у нас обоих великолепные данные для комсомольской, а впоследствии и партийной работы и что он сформулирует предложения и даст рекомендации. Через месяц Фролыч уже был секретарем комитета комсомола на фабрике, а я у него – заместителем по общим вопросам.
А дня через четыре после нашей беседы с Николаем Федоровичем я с Татьяной Игнатьевной столкнулся на лестнице. Я поднимался вверх, а она на лестничной площадке стояла и загородила мне дорогу. «Здрасьте, Татьяна Игнатьевна», – говорю я ей, – «позвольте пройти», а она молчит, смотрит на меня в упор, и в глазах что-то такое… будто бы она пытается вспомнить, где она меня раньше видела и видела ли. Постояла, потом повернулась боком и рукой эдак сделала – «проходите, Константин Борисович, проходите». И больше мы с ней с тех пор не разговаривали, а если доводилось встретиться, то она делала вид, что меня не замечает.
Ну а что? А как она хотела? Чтобы как было?
Вообще ситуацию вокруг восьмой комнаты разрулили мгновенно и с необыкновенным изяществом, каковое для нас с Фролычем в те времена представлялось совершенно недоступным. На фабрику прислали комиссию не то из партийного, не то из народного контроля, и комиссия эта товарищеский суд попридержала до окончания своей работы. Мы уже с Фролычем уволились, а работа эта все не заканчивалась. Татьяну Игнатьевну перевели на какую-то другую руководящую должность, довольно скоро она забрала к себе переводом заведующую складом, Сурина и товарки ее из восьмой комнаты уволились по собственному, но в Москве зацепились, потому что им не без помощи сверху удалось устроиться в разные другие места, а скандалистку Клаву назначили заведовать складом.
Мне Фролыч потом, уже года два спустя, сказал, что никакого акта комиссия так и не представила.
Квазимодо. Камень десятый
Звали ее Инной, и она работала в бюро переводов. Мы познакомились совершенно случайно: я просто шел мимо, а у нее был лишний билет в музыкальный театр Станиславского на какой-то, сейчас уже и не вспомню, балет. Вечер у меня был свободный, в антракте мы пошли в буфет, где я купил лимонад и два бутерброда, потом она долго отказывалась взять у меня за билет деньги, в общем я ее проводил до дома.
Уродиной она не была, она просто была некрасивой – с большим ртом, длинным носом, невероятно высоким лбом и мышиного цвета волосами. Еще у нее все время что-то болело – то сердце, то желудок, то еще что-нибудь. Ее отца, военного, перевели в свое время служить в Москву, а подходящей жилплощадью не обеспечили, поэтому первые годы их семья ютилась в подвале на Маросейке, и вот в этом подвале она родилась, и там же прошли ее младенческие годы. «Я – дитя подземелья», – говорила она и вроде бы объясняла этим и свою непримечательную внешность и постоянные недомогания.
Хотя глаза у нее были красивые – большие, светло-зеленые, продолговатые и со слегка припухшими веками, что делало бы ее немного похожей на китаянку, если бы не все остальное.
Когда после театра я вызвался ее проводить, она согласилась и тут же с какой-то торопливой готовностью взяла меня под руку. Это все и решило – мы начали встречаться.
На второй или на третий вечер ей вдруг захотелось рассказать мне о себе. В этой короткой жизненной истории не было ничего необычного: мать нашла себе другого, ушла из семьи и исчезла, отец умер, живет вдвоем с младшей сестрой, есть две подруги, еще со школы, но одна уже выскочила замуж, а вторая, для которой и был предназначен билет в театр, только собирается, училась всегда на «хорошо» и «отлично», иняз закончила с красным дипломом, но распределилась не очень удачно, хотя работой довольна, обожает русскую литературу («Представляешь, – говорила она, – папе присвоили майора за два дня до моего рождения, чуть-чуть не сошлось, а то я была бы капитанская дочка») – в общем, старая дева, – это ведь не физиологически-возрастное понятие, а состояние души.
У нее никогда никого не было, если не считать одного мальчика, еще в школе, с которым она дружила, но из этой дружбы ничего не произросло, потому что у мальчика обнаружилось серьезное психическое заболевание, что-то вроде шизофрении. «Он очень любил рисовать, – рассказывала она, – у него такие чудесные картины получались, он меня много раз рисовал и собирался поступать в Суриковское, а потом что-то случилось, и картины у него начали получаться какие-то страшноватые, а потом уж совсем жуткие, все такое, и невозможно стало разобрать даже, что нарисовано, а потом начались изменения в поведении, очень тяжело про это вспоминать, он перестал узнавать близких, все такое, и его поместили в стационар, причем похоже, что навсегда». Уже несколько лет дважды в месяц она ездит его навещать, привозит яблоки и апельсины, но увидеться не всегда удается, потому что это зависит от его состояния, и если не удается, то она оставляет передачу и уезжает, а если удается, то им иногда разрешают погулять по парку при лечебнице.
– Ты должен быть готов к тому, – сказала она очень серьезно, – что я и дальше буду его навещать. Ты ведь не будешь против, правда?
Я тоже рассказал ей про себя – про то, что у меня есть лучший друг Фролыч и про его семью, про Мосгаза (она ахала от ужаса и все время заглядывала мне в глаза), про Джаггу, про Людку, которая теперь жена Фролыча, и про ее семью. Конечно же, я рассказал, как угодил под выстрелы Штабс-Таракана. И про свою нетипичную аффектогенную амнезию.
Услышав про амнезию, она расплакалась, и мне пришлось ее успокаивать и объяснять, что мне, в отличие от ее первого кавалера, психушка не грозит. Утешать тем не менее пришлось довольно долго, потому что такое совпадение, нарушающее обычные представления о теории вероятностей, произвело на нее очень сильное впечатление, – именно с ней, и второй раз подряд..; как не увидеть в этом руку неблагосклонной судьбы…
И хоть я ее и успокоил на свой счет, но, видать, не окончательно, потому что практически при всех наших встречах она так или иначе этой темы касалась, – она заполучила доступ к иностранным медицинским журналам и каждый раз, вычитав что-нибудь новенькое, начинала меня просвещать. «Тебе обязательно нужно ежедневно есть артишоки, – говорила она авторитетно, – в них идеальное сочетание микроэлементов, я прочла в одном журнале, что при некоторых заболеваниях, в особенности нервных…». – «У меня нет нервных заболеваний, а у нас нет в продаже артишоков, – останавливал ее я, – и не будет никогда». – «У нашей начальницы, – торжествующе парировала Инна, – есть подруга, у которой двоюродная сестра живет в Лионе, она замужем за дипломатом, я могу попросить. А ты не знаешь, артишоки, они скоропортящиеся или могут лежать?»
Я думаю сейчас, что ее покорная готовность к любви, проявившаяся в первые же дни, была намного действеннее любой настойчивости, – она не сомневалась ни на секунду, что впереди у нас свадьба с цветами и шампанским, а потом долгая и счастливая жизнь, и с каждым днем верила в это все сильнее и истовее, хотя ни одного слова мною на этот счет сказано не было, так что я просто не мог представить себе, как возможно эту веру поколебать, и постепенно сам стал воспринимать это придуманное ею будущее как неизбежность.
Это может показаться странным, но при всем при этом у нас с ней практически ничего не было – мы целовались, это да, но когда при очередных проводах у нее в подъезде я попробовал расстегнуть ее блузку она отвела мою руку и сказала молящим голосом: «Нет-нет, это нельзя, – и тут же поправилась: – это сейчас нельзя, это будет можно только потом».
Каким-то непостижимым образом Фролыч узнал, что у меня кто-то появился. Сперва он в свойственной ему дружеской манере подшучивал надо мной, потом пристал всерьез, требуя признаться, а когда я рассказал, что мы познакомились на балете, он от души расхохотался и спросил:
– На «Эсмеральде», что ли?
А закончилось это тем, что он пригласил меня с Инной в гости.
– Я Люшке все рассказал, – сообщил он, – она аж до потолка подскочила. Не поверила сначала. Приходите в субботу. Люшка обещала гуся зажарить по такому поводу. Часиков в семь, ага?
– Я не знаю, – жалобно сказала Инна, – я не знаю, как я успею. Уже через два дня?
– А куда ты должна успеть?
– Ну как же… мне ведь нужно подумать, что надеть… в такой дом…
– Дом у них, – объяснил я, – не в Кремле. У них дом на Нагорной. Двухкомнатный кооператив. Кухонька – вот такусенькая.
– Все равно. Ты не понимаешь.
Я встретил Инну на автобусной остановке рядом с домом Фролыча.
– Что это у тебя с головой? – спросил я, озадаченно глядя на зеленую мохеровую башню.
– Я прямо из парикмахерской, – кокетливо улыбнулась Инна и изобразила подобие книксена. – Я прическу сделала. Хочу сегодня быть красивой. Скоро увидишь.
Жареным гусем пахло на весь подъезд. Фролыч и Людка в одинаковых джинсовых костюмах из «Березки» встретили нас в дверях.
– Меня зовут Григорий, – представился Фролыч. – Назван так в честь легендарного комбрига Котовского. После первой рюмки отзываюсь на Гришу. Потом уже отзываюсь на что угодно. Некоторые невоспитанные называют Фролычем. А это моя боевая подруга и верная спутница жизни Людмила. Я ее обычно называю Люшкой, а Квазимодо – Людкой.
Два дня были потрачены Инной не напрасно: она раздобыла где-то открытое бархатное платье на бретельках. На груди у нее красовался металлический кулон с профилем Нефертити, размером меньше блюдца, но достаточно солидный. Безжалостная парикмахерская рука забрала все волосы вверх, соорудив из них яйцеобразный купол, и закрепила это сооружение неимоверным количеством лака.
– Как у вас уютно! – восторженно воскликнула Инна, оглядывая коридор.
– Уютно, – оторопело согласился Фролыч, уставившись на Нефертити. – Очень уютно. Просто ужас как уютно. Какая у вас прическа красивая.
– Вам нравится?
– Очень. Люшка, а тебе?
– Потрясающая прическа, – согласилась Людка, задумчиво прикусив губу. – Просто как при дворе какого-нибудь Людовика. И платье какое у вас элегантное. Сразу видно, что привозное. Фирменную вещь вообще сразу видно.
– Люшка, а духи какие! Ты чувствуешь? – Фролыч потянул носом. – Чудо какие духи. Даже гуся перебивают. Это у вас что, если не секрет? Нет-нет, не говорите, я сейчас попробую угадать. «Диор»? Нет, «Диор» резче. «Шанель»? Ощущается такая нежная бергамотная нота…
– Я даже сама не знаю, – застеснялась Инна. – Может быть. Это мне подарили, я на название и не взглянула.
– Это мы выясним, – Фролыч элегантно предложил Инне согнутую в локте руку. – Надо будет просто внюхаться. Не возражаете, если время от времени я буду оказываться в рискованной близости? Прошу к столу. Мы сядем рядом, не правда ли?
– Это она? – спросила Людка, когда Фролыч с Инной прошли вперед. – Это и есть Инна?
– Нуда.
– Понятно, – сказала Людка и посмотрела на меня со странной серьезностью. – Ну пошли.
– Вот про покойников, – объявил Фролыч, когда я ему позвонил назавтра, поблагодарил за прием и осторожно спросил, как ему понравилась Инна, – про покойников – либо хорошо, либо никак. А невесты от покойниц отличаются тем, что о них можно только хорошо.
– Она мне еще не невеста.
– Это тебе, Квазимодо, просто так кажется. Ты у нас еще мальчик молодой, неотесанный, так послушай опытного человека, – ты моргнуть не успеешь, как это забавное существо тебя окрутит. Такие беззащитные тихони опаснее любой стервы. Послушай, а ты не знаешь, что это с ней по части артишоков? Она меня напрочь замучила вчера, все спрашивала, не могу ли артишоки достать. Сейчас, погоди секунду, Люшка что-то спрашивает… А! Она интересуется, это ты Инне сказал, что у нее глаза, как у княжны Марьи из «Войны и мира»? Или это она сама так решила?
У меня и раньше такое ощущение возникало, а уж после этого вечера я бесповоротно убедился, что Инна и Фролыч с Людкой ну совершенно несовместимы, не их она круга, никогда не была и никогда не будет. Ну и что? Ведь если пораскинуть, я тоже не из их круга, просто исторически так сложилось, что мы оказались вместе и разделить нас невозможно, как сиамских близнецов. А для меня она в самый раз, ну и ладно, что некрасивая… надо только сжечь бархатное платье, сдать в металлолом Нефертити, и чтобы парикмахерскую эту за версту обходила, и будет все как раньше.
Вот в этот момент, как мне кажется сейчас, я все для себя и решил. Но что-то меня держало, не знаю даже, что именно, наверное, подколесинский страх перед окончательным и бесповоротным решением, поэтому Инне я ничего не говорил, и мы продолжали встречаться, хотя я и чувствовал, как она ждет моего слова и даже начинает понемногу уставать от того, что я о чем угодно говорю, а о самом важном для нее – нет.
Она даже затеяла немудреную интригу, пытаясь вызвать во мне ревность и заставить поторопиться, – опять начала мне рассказывать про свою первую любовь, про мальчика этого из психушки, как она опять к нему ездила, и о чем они говорили, и как ему вроде бы становится немного легче, и врачи им очень довольны.
Как раз в тот самый период, когда рассказы про ее полоумного возлюбленного стали чуть не ежедневными, и случилась история с дверной табличкой.
Может сложиться такое впечатление, что мои отношения с Фролычем – это всегда была такая безоблачнобеззаветная дружба, что ничто их не омрачало. Это не совсем так. Вот, к примеру, та ночь, когда я привез в грузовике тело его отца, а он меня ударил по лицу, так что я упал. Или когда я в больнице лежал, после Штабс-Таракана, а он ко мне только в последний день пришел навестить, перед самой уже выпиской – разве не обидно мне было? Конечно, это проходило все, а наша нерушимая дружба оставалась, но все же были в ней и не очень светлые эпизоды.
У него ко мне тоже иногда были претензии. Вот например, через некоторое время после того, как мы с Инной у них были, он мне скандал закатил. Кто-то у него на входной двери мелом написал «ФРОЛЫЧ – КАЗЕЛ», и он решил, что это я ему мщу за то, что им Инна не понравилась. Потому что, кроме меня, его Фролычем никто не называет. Ну вы сами подумайте, на фига мне тащиться к нему через весь город, чтобы такую глупость у него на двери написать? Это же просто дурное мальчишество.
Ну я ему дал честное слово, что это не я, и он, как мне показалось, поверил. А мне ему поверить в истории с табличкой было куда труднее, и сейчас вы поймете почему.
Сразу оговорюсь, что он мне, до этой истории во всяком случае, никогда не врал. Ну, почти никогда. Когда он пропал и вкручивал мне про преферанс, то врал, конечно, но это же он не мне, а Людке врал через мое посредство. Если же нас двоих касалось – никогда не врал. А тут… Я ему говорю, Фролыч, ну признайся, что это ты все устроил, ведь некому кроме тебя, у меня же не бывает никто, только ты, ну что уж теперь запираться, когда все уже закончилось, а он – белый весь, глаза бешеные, но никак не хочет сознаться, вижу, что в глаза врет и что умрет скорее здесь на месте, чем правду скажет.
А вдруг и вправду не он? А кто тогда? Тогда кто?
Ну это я вперед забегаю.
В какой-то день я все же решился. Пригласил Инну к себе домой. Я и раньше ее приглашал, но она под всякими предлогами отказывалась, а тут почувствовала, что момент приблизился, и сразу согласилась. Договорились на семь вечера, я ей сказал адрес и поехал домой готовиться. Шампанское по дороге купил, цветы.
У меня на входной двери обнаружилась привинченная табличка. Это я ее называю табличкой, а на самом деле это была квадратная металлическая плита размером с полдвери. Тридцать шурупов сверху, тридцать снизу и по бокам по двадцать четыре. Всего сто восемь шурупов. А на этой доске выгравирована, с виньетками и узорами, огромная надпись: «КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ ШИЛКИН. БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ».
То, что это работа Фролыча, мне не сразу в голову пришло. Первая и единственная мысль, мною овладевшая, в том состояла, что времени у меня чуть больше часа, а допустить, чтобы девушка это украшение увидела, никак не возможно. Что надо эту доску немедленно отвинтить и выкинуть или спрятать куда-нибудь.
Единственная имевшаяся у меня дома отвертка оказалась совершенно бесполезной – прорези на шурупных головках были под звездочку. Я позвонил в квартиру напротив. Мне открыла девушка лет семнадцати, в коротком халатике и с конским хвостом на голове. Я вежливо поздоровался.
– У вас отвертка-звездочка есть? – спросил я.
– А вы из этой квартиры? – поинтересовалась девушка, осмотрев меня сверху донизу. – Подождите минутку, сейчас посмотрю.
Она удалилась, захлопнув за собой дверь, через минуту вернулась с коробкой:
– Выбирайте. Я в этом не понимаю ничего.
В коробке нашлась отвертка с набором стержней, третий по счету к моим шурупам подошел.
– Спасибо большое, – сказал я, – через полчаса верну.
– А это вы – Константин Борисович? – спросила девушка, изучая доску. – Вы по какой части большой специалист?
Ответа она дожидаться не стала, потому, наверное, что заметила мой пакет с шампанским и цветами, и ей стало сразу понятно, по какой части я большой специалист.
Негодяй, приделавший к моей двери эту плиту, был еще большим мерзавцем, чем я думал с самого начала, – он посадил шурупы на масляную краску, и, вернись я на час или два позже, пришлось бы просто менять дверь на новую. Сейчас краска еще не успела схватиться, но все равно пришлось здорово попотеть. Все же сто восемь шурупов – это не кот начихал.
А вот когда я вывинтил последний шуруп и снял плиту (весила она, по моим прикидкам, килограмм двенадцать), я сразу понял, что это привет от Фролыча. Потому что под плитой красовалась огромная черная надпись масляной краской, той же, на которую были посажены шурупы: «КОСТЯ ШИЛКИН – КАЗЕЛ».
Я достал носовой платок и потер черные буквы. Они немного размазались, но это ничего не изменило. Положение становилось критическим – встретить Инну у двери, украшенной этим, было несоизмеримо хуже. Оставалось только одно – привинтить плиту на место, но гравировкой к двери, и хотя выглядеть все это будет по-идиотски, но все же не так, как в первоначальном варианте.
Одного я не учел. В центральной части плита была вдвое толще, чем по краям, поэтому когда я ее перевернул и вкрутил первый шуруп, он вошел в дверь только до середины, и стоило мне убрать руку и потянуться за вторым шурупом, как первый из двери вырвало, и вся эта двенадцатикилограммовая махина углом грохнулась мне на левую ногу.
У меня потемнело в глазах. Наверное, я не то даже чтобы вскрикнул, а просто взвыл, потому что дверь напротив тут же распахнулась.
– Что с вами? – услышал я встревоженный голос.
Я сидел на полу и раскачивался от невыносимой боли, держа левую ногу на весу.
– Ушиблись? – догадалась девушка. – Вам надо срочно в травмпункт, это, вероятно, перелом или трещина в кости. Я в медицинском учусь, это может быть серьезно. Я вызову «скорую»?
Я помотал головой. Мною владело какое-то неслыханное упрямство.
– Не надо «скорую». Ко мне прийти должны.
– Тогда надо непременно холодный компресс. Или опустить ногу в ледяную воду. Давайте я вам помогу дойти до ванной.
– Нет, – сказал я. – Не надо помогать. Видите, что у меня тут случилось. Я человека жду, а дверь в таком состоянии.
– Ну давайте я вам принесу таз с водой, – предложила девушка. – И льда туда набросаю, у меня полная морозилка льда. Вы сами ботинок снять сможете?
Когда она вернулась, я с трудом встал и осторожно опустил босую ногу в таз. Ступня распухла и была синекрасного цвета. Но опираться на пятку было можно.
– А что вы собираетесь с дверью делать? – спросила девушка.
– Скоблить, – ответил я. – Строгать. У вас рубанок есть?
Рубанка, вполне предсказуемо, не было. Принесенный соседкой кухонный нож оказался тупым и никакого видимого воздействия на краску не оказал. Тут девушке пришла в голову блестящая идея.
– А если это закрасить? – предложила она. – У меня набор гуаши есть и кисточки. Взять и закрасить. А еще лучше – нарисовать какую-нибудь картинку сверху. Я бы вам даже помогла, но мне бежать надо. А вы рисовать умеете? Ну хоть что-нибудь? Ну вот, например…. «Буратино» помните? Очаг, огонь, котел какой-нибудь сверху, из котла дым идет. Пар то есть. Это совсем просто.
Пока она бегала за гуашью, я попытался представить себе будущий рисунок. Камин – это, скажем, две такие дуги в клеточку, типа камни выложены. Огонь – ну это просто, три красных изогнутых треугольника, котелок – черный. Из него пар идет. На десять минут работы. Я снял пиджак и решительно приступил к изображению очага из каморки папы Карло. Это, как вы понимаете, был мой первый художественный опыт со времен школьных уроков рисования.
Если вам повезло в жизни и не приходилось никогда заниматься совершенно незнакомым и чуждым делом, стоя на одной ноге, а на вторую, погруженную в таз с холодной водой, лишь осторожно опираясь, если вас никогда не переполняла при этом смертельная обида на лучшего друга, благодаря идиотской шутке которого вы попали в эту историю, если вам не приходилось чисто физически ощущать, как утекают драгоценные минуты, а вместо воображенной вами вполне осмысленной картинки получается совершенно бессюжетная мазня – вам меня не понять. На этом фоне безнадежно испорченный пиджак, на который упала банка с гуашью, – просто мелочь. Пот, по рассеянности или в творческом порыве стертый со лба правой рукой, в которой зажата кисточка. Мелочь, все мелочь. Неважно даже то, что, пытаясь поубедительнее изобразить пар, выходящий из угольно-черного, похожего на мочевой пузырь котла, я потерял равновесие, выплеснул из тазика половину воды и еще приложился к свежеразрисованной двери грудью и правой половиной лица.
Вот тут и открылась лифтовая дверь. В кабине стояла улыбающаяся Инна.
Эта улыбка, с каждым мгновением все более переходящая в результат простого мышечного напряжения, так и сохранялась на ее лице, пока она переводила взгляд с меня на дверь с кипящим котлом, с двери на таз с водой и мою синюю ногу, на меня – и потом снова на дверь.
– Боже мой, – произнесла она наконец сдавленным голосом, – боже мой… неужели опять… за что мне это…
Она зарыдала и, не отрывая взгляд от таза, стала вслепую шарить рукой по кнопкам, дверь схлопнулась, и лифт, мерно жужжа, увез ее из моего дома и из моей жизни.
Я ей пару раз позвонил после этого, хотел объяснить, но она просто бросала трубку. Надо было бы подъехать и поговорять, но, когда гипс сняли, мной овладела какая-то апатия, будто перегорело все внутри. Я ведь не очень-то и стремился, если по-честному, просто духу не хватало разорвать, жалко ее было очень, хотя понятно было, что она настолько не из круга Фролыча, что ни ему с ней, ни ей с ним никогда комфортно не будет, а променять Фролыча на нее – это уж дудки. Если бы не ее предыдущий возлюбленный, тот самый, из дома скорби, она бы – я так думаю – не отреагировала так резко, даже зная про аффектогенную амнезию. Но уж как получилось, так получилось.
Фролычу, как я уже говорил выше, я все высказал в довольно-таки резкой форме. Меня больше всего оскорбило, если хотите, не то даже, что он мне совершенно ни за что устроил такую замысловато ухищренную подлянку, а то, что не признался и горячо отрекался от всего – ни сном ни духом, – и все его передвижения в тот день можно проверить, и на все у него свидетели есть и так далее.
Это все очень недостойно выглядело. Оскорбительно.
Так меня за полнейшего дурака держать…
Ведь это он был, очевидно.
Но когда я об этом вспоминаю, то иногда закрадывается сомнение. Слишком много странного было в нашей с ним жизни. Мне часто ведь казалось, будто кто-то идет рядом и играет с нами в непонятную игру, подбрасывая приманки и расставляя ловушки. Вот ведь телефонные звонки в ту ночь, когда я с Людкой был, – она уверена, что это Фролыч звонил, а когда он мне сказал, что даже и не думал, я ему почему-то сразу поверил. Но если не он, то кто тогда звонил?
А вот с доской и надписью – это точно он.








