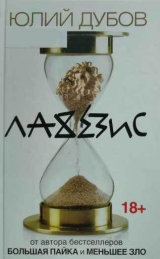
Текст книги "Лахезис"
Автор книги: Юлий Дубов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Квазимодо. Выход на берег
Я его раньше точно видел, только не сразу смог вспомнить, где именно.
– Я назначен представлять ваши интересы, – сказал адвокат, протягивая мне сигаретную пачку. – Давайте знакомиться. Меня зовут Эдуард Эдуардович. Хотелось бы для начала пробежаться по вашей биографии, а потом уже перейдем к материалам дела. Я буду говорить, а вы меня поправляйте, если ошибусь в чем-то. Вы родились первого января тысяча девятьсот пятидесятого года в семье служащих. Родители живы?
– Мать умерла. Отец живет в Израиле.
– Закончили школу, потом юридический факультет. Работали сперва в конструкторском бюро, оттуда перевелись на швейную фабрику, затем двинулись по общественной линии. Первый секретарь райкома комсомола. А сейчас вы бизнесом занимаетесь?
– Да.
– Президент Центра технологических и финансовых инициатив. Это что, общественная организация?
– Была раньше. Потом преобразовалась в акционерное общество.
– У вас там большой пакет?
Про то, что я через Кипр и Люксембург держал под контролем две трети акций плюс еще двадцать процентов для себя и Фролыча, адвокату знать не полагалось. Поэтому я сказал только про два с четвертые} процента, официально оформленные на мое имя.
Адвокат усмехнулся.
– Но остальные акционеры вас уволить с поста президента не смогут. Не захотят. Не так ли?
– А какое это имеет…
– Никакого. Я просто так, для внесения ясности. А спрашиваю я про ваш бизнес потому, что вы как бизнесмен вряд ли имели какие-то основания поддерживать Верховный Совет – там ведь настроения были не в пользу бизнеса. Согласны со мной?
– А я и не поддерживал. Я вообще вне политики. Мне неинтересно.
– Я вас хочу предупредить, Константин Борисович, что обвинение будет упирать на ваше комсомольское прошлое. Ну, вроде как деньги деньгами, а убеждения остались старые, периода застоя. Нам эту позицию надобно перевернуть. Убеждения были, а потом бизнес плюс новые реалии сформировали совершенно иное отношение к жизни. Я понятно излагаю? Не возражаете?
– Дау меня вообще никаких убеждений не было! Это просто была такая работа. Кто-то шел в токари-слесари, а я – по комсомольской линии. Никто же не будет у токаря выискивать какие-то специальные токарные убеждения.
– Логично. Так и запишем. Теперь еще один момент. Вы ведь со следователем Мироновым не в первый раз видитесь, не так ли?
– Мы учились когда-то вместе. В школе.
– Да, это я знаю. Отношения у вас какие с ним были? Неприязненные?
– Ну… никаких не было.
– А что у вас с глазом? И вообще с лицом? – неожиданно спросил адвокат. – Старая травма?
Пришлось рассказать старую историю со Штабс-Тараканом. Адвокат все старательно записал.
– Продолжайте, пожалуйста.
– Так это все. Больше ничего не было.
– То есть вы хотите сказать, что больше вы с ним не встречались, хотя и жили в соседних домах? Я понимаю, что учились в разных школах, но встречаться вполне могли. Или это вовсе исключено?
Я никак не мог понять, к чему он клонит, но тут вспомнил, как Джагга выкинул Мирона из школы, и как это все привело к школьной революции.
– Зачем это вам?
– Я планирую направить ходатайство об отводе следователя Миронова в связи с возможной заинтересованностью в исходе следствия. Поэтому чрезвычайно важно вспомнить все детали ваших отношений.
– Он меня уже один раз собирался посадить, – сказал я. – Я тогда в райкоме работал, и у нас один деятель немножко порезвился, а Миронов решил меня притянуть.
– Расскажите подробно-подробно, ничего не упуская.
Я так и сделал, умолчав лишь, почему именно все закончилось так, как закончилось – не хотел упоминать ни Николая Федоровича, ни Фролыча. Хотя к этому дню лефортовская одиночка уже довела меня до такого состояния, что – попадись мне любой из них, просто разорвал бы на куски. Особенно если предъявленная Мироном фотография была подлинной, а не фальшивкой. Меня, кстати говоря, эта ситуация угнетала, пожалуй, даже сильнее, чем тюремное заключение, потому что, если я что и ценил всегда превыше любых жизненных радостей, так это наши с Фролычем отношения. Эти отношения даже мысли о предательстве не допускали – а тут такое.
Но все равно мне не хотелось говорить с адвокатом про Фролыча. Хоть он и адвокат был, а не следователь, и с ним полагалось быть откровеннее, но что-то мешало. А особо меня настораживало, что я его явно раньше видел и вроде даже говорил с ним, но вот только никак не припоминалось, когда и при каких обстоятельствах. А адвокатов знакомых у меня ни одного не было, так уж сложилось. Так что пока не выяснится, откуда взялся этот знакомый незнакомец, я решил вести себя максимально аккуратно.
Еще мне вдруг стало казаться, что адвокат знает про меня много лишнего, много такого, о чем только я сам и могу знать, – уж больно уверенно он меня вел по белым камешкам, ни одного не пропустив, ни на одном не оступившись. Вот и опять, стоило мне замолчать в конце рассказа про сукина сына Белова-Вайсмана, как адвокат тут же задал наводящий вопрос: требовал ли Мирон дать показания на партийных работников, если требовал, то на кого именно, говорил ли я об этом в райкоме, и кто из боссов указал Мирону его место.
– Значит, я могу записать, что с Фроловым у Миронова тоже давняя вражда? – полуутвердительно констатировал адвокат. – И вполне возможно, что он рассчитывает взять реванш за эту старую историю? А вас он намерен, помимо прочего, использовать как инструмент давления? Как такую брешь в обороне?
Вот казалось бы, самое обыкновенное слово «брешь», ничего в нем особенного нет. Но я уже говорил, что со мной эти недели в одиночке сотворили, и слово это вдруг меня как молотом оглушило: я ведь и вправду уже совсем никто и ничто, отрезанный от мира отщепенец, пустое место, прореха. Именно что брешь.
И так мне стало себя невыносимо жалко, что я заплакал. Молча. Смотрю на адвоката, молчу, а слезы текут.
Он мне налил воды, подпер подбородок обеими руками и ждет, пока я успокоюсь.
– Насчет бреши, Эдуард Эдуардович, вы, возможно, заблуждаетесь, – сказал я ему, когда немного успокоился. – Мне Миронов показал фотографию, на которой Фро… Фролов сидит в баре аэропорта. Он сразу же после моего ареста вылетел на юг Франции и, насколько я понимаю, до сих пор там пребывает. Если бы ему не было на меня наплевать, он бы остался в Москве, а я бы тут и двух дней не провел. У него знаете какие связи в администрации?!
– Это я наслышан, – кивнул адвокат.
– Он вправду во Франции? – спросил я в сумасшедшей надежде, что Мирон затеял провокацию.
– Насколько мне известно – да, – ответил адвокат, глядя на меня с непонятной опаской. – И пока возвращаться не планирует. Это как-то влияет на ваше предполагаемое поведение при допросах?
– Есть большая проблема. – Я все же решился раскрыть карты. – Я не могу объяснить, почему я поехал в Белый дом и на кой черт мне понадобилось возить на своей машине оружие. То есть могу, но тогда мне придется назвать Фро… Фролова, Потому что это он меня попросил.
Я думаю, что Миронов про нашу встречу знает, но без моих показаний ему не обойтись. Если бы я хоть кого-то другого мог назвать, но я там не знаю никого.
– Я вам по этому поводу советов давать не могу, – сказал адвокат, – но чисто теоретически существуют две возможные линии поведения. Первая – вы просто отказываетесь давать показания, ссылаясь на соответствующую статью конституции.
– И что тогда?
– Просто вы должны понимать, что на суде вам это припомнят. Если дело до суда дойдет.
– В каком смысле?
– Ельцину советуют объявить общую амнистию. Но советчиков, как вы понимаете, много, и каждый советует то, что ему самому выгодно. Так что вы должны это иметь в виду.
– А сколько мне могут дать?
Услышав ответ, я посидел немного с закрытыми глазами и спросил:
– А вы говорили, что есть еще одна линия?
– По форме она мало чем отличается. Только вы ссылаетесь не на конституцию, а на совсем другое.
– На что?
– Я просмотрел вашу медицинскую карту, прежде чем сюда прийти. Вы у нас, оказывается, психический. Причем не простой, а особенный. У вас крайне редкая форма аффектогенной амнезии. Стабильно повторяющееся выпадение памяти. Так?
– Так, но… У меня ведь даже от армии освобождения не было.
– От армии, насколько я осведомлен, вы сами успешно освободились, не прибегая к помощи медицины. Нигде не указано, что военкомат вас направлял на освидетельствование.
Это была чистая правда. Перед получением приписного свидетельства на семейном совете было единогласно решено, что справка психиатра сиюминутную проблему решит, но в будущем создаст непреодолимые сложности.
– Так что, – продолжил адвокат, – ваш медицинский диагноз дает мне все основания настоять на всеобъемлющем обследовании. Я потребую провести независимую экспертизу и приглашу лучших специалистов. Если я правильно понимаю, вы свободно можете не помнить, что вообще ездили в Белый дом. Не говоря уже о том, кто вас об этом попросил. Вот такую я планирую линию защиты, если не возражаете. Или у вас есть какие-то иные соображения?
Что у меня точно было, так это уверенность, что никакая аффектогенная амнезия меня не спасет. И тут, – честное слово, вовсе не потому, что я нацелился на предательство, а просто, чтобы не оставлять белых пятен, – я спросил:
– А как вы оцениваете перспективу чистосердечного признания?
– Вы хотите назвать Фролова и признаться, что это он вас уговорил, а вы никак к мятежу не причастны? – уточнил адвокат, и в его глазах впервые за все время беседы появилась неподдельная тревога.
– Вроде того.
– То есть поступить в точности так, как от вас этого требует Миронов?
– Ну… да.
– Так вот, – сказал адвокат. – Вы мне должны обещать, что то, что я вам сейчас скажу, останется строго между нами. Вы про это никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не расскажете. Даже Фролову. Я могу рассчитывать?
– Да.
– Имейте в виду, что у Миронова во всей этой истории есть свой интерес, и фотографию из аэропорта он вам показал намеренно. К вам он относится вполне лояльно и, если бы захотел, то тут же выпустил вас под подписку, а дело ваше замотал и спустил на тормозах. Кроме него, вы тут больше никому не нужны. А вот на вашего друга Фролова у него вырос большой зуб. В своих карьерных трудностях он винит исключительно Фролова, причем небезосновательно. К этому еще добавляются кое-какие детские воспоминания, так что история давняя. Он специально вас провоцирует, чтобы вы назвали Фролова, и будет стараться изо всех сил вас здесь задержать, пока это не случится. Как только вы это сделаете, вас выпустят немедленно, но Фролову – конец. Не в том смысле, что его арестуют, выдадут России, посадят или что-то такое, нет, просто карьера его будет закончена. Так что вам надо выбирать – или Миронов, или Фролов. Еще скажу вам одну вещь, очень важную. И хочу, чтобы вы меня услышали. Самое ценное, что есть в вашей жизни, – это не карьера, не связи, не деньги. Самое драгоценное – это ваша дружба с Фроловым. Вовсе не потому, что дружба есть одно из наиблагороднейших человеческих чувств, а потому что именно вашей дружбе вы обязаны всем остальным – и карьерой, и деньгами. Пока вы вместе, вы будете только подниматься, и никто не знает, каких высот вы достигнете. Смею предположить, что это будут головокружительные высоты. У вас будет все, что вы только будете в состоянии пожелать. Но только пока вы вместе и пока вы друзья. Разойдетесь врозь – проиграете не только вы…
Меня просто взорвало.
– Дружба? Благородство? Он же подставил меня, подставил и бросил. Как ненужную тряпку. Он там загорает на пляже, а я здесь, в одиночке. И вы мне еще тут вкручиваете про мои моральные обязательства. У меня нет перед ним больше никаких обязательств. Я, если хотите знать, тут чуть концы не отдал, потому как решил, что его в живых больше нет, ведь будь он живой, он бы меня ни за что не бросил, – так я считал, а он по Франции гуляет. Нет у меня обязательств, так, только детские воспоминания. И из-за них я должен в тюрьме сидеть? Если из двоих только один благородный, а второй о него все время ноги вытирает, то это не благородство, а идиотизм! Ладно еще – если речь шла о жизни и смерти, можно было бы о чем-то говорить, но подыхать здесь из-за его карьеры? Дудки! Плевать я хотел на его карьеру!
Адвокат помрачнел и стал крутить в руках зажигалку. Потом сказал:
– Хорошо. Ваша позиция понятна. Попробуем по-другому. Предположим, что вы соглашаетесь сотрудничать с Мироновым. Даете показания на Фролова и на его шефа. Вас выпускают. Как вы себе представляете свою последующую жизнь?
– Нормально, – ответил я, не понимая, куда он клонит. – Вернусь в Центр. Там дел невпроворот. Буду работать как работал.
– Вы уверены?
– А что?
Адвокат перестал крутить зажигалку, вырвал из блокнота чистый лист бумаги и написал на нем цифру.
– Это более или менее точная оценка активов вашего Центра. Из них вот столько (он перечеркнул последний ноль) принадлежит лично вам, остальное – другим людям, пусть не напрямую, а через вас. Но другим. Фамилии не будем называть?
– Не будем, – оторопело согласился я.
– Первое, что они сделают, это выкинут вас к чертовой матери на улицу. Потому что стоит вам сдать хотя бы одного человека из – как вы говорите – системы, веры вам больше не будет. Вас система вышвырнет немедленно, как грязный ошметок. Верность другу вас не интересует? Хорошо. А как насчет системы?
Я смотрел на него, открыв рот.
– Вас ко мне прислал Фролыч? Чтобы я не сболтнул лишнего?
– Я вам даю честное слово. Я не только никогда не встречался с Фроловым, или с Фролычем, как вы его называете, я с ним даже ни разу не разговаривал. Ни с ним, ни с теми, кто его окружают. Я клянусь, что он вообще не подозревает даже о моем существовании. Но не буду скрывать, хотя и воздержусь от объяснений, что меня весьма занимает ваша судьба. И судьба вашего друга также.
– Кто вы?
– Ваш адвокат по назначению.
И практически сразу после этого он ушел. У двери повернулся и сказал с полуулыбкой, по которой я его тут только и вспомнил:
– Вы, между прочим, не поинтересовались, кто меня назначил вашим адвокатом.
Он не случайно показался мне знакомым с самого первого взгляда. Мы уже встречались. Тогда на нем была черная футболка с орлом и американским флагом и он собирался жить в одном доме с Фролычем.
Квазимодо. Пикник на пляже
Сгинувший неведомо куда после первого и единственного визита адвокат оказался прав – была объявлена общая амнистия, и меня выпустили. Про Фролыча я так ни слова и не сказал.
Фролыч встретил меня на выходе из Лефортовского изолятора. Видно было, что ему передо мной здорово неловко – он как-то непривычно лебезил, сразу полез обниматься, я отстраняться от его объятий не стал, хотя и дал понять, что мне это не шибко приятно; еще он все время заглядывал мне в глаза и постоянно растягивал губы в деланой улыбке.
Непросто подводить лучшего друга под тюрьму, а самому отсиживаться на средиземноморском курорте, очень непросто.
Посмотрел я, как он дергается, и мне его стало жалко. Конечно, он со мной поступил довольно подло, но только вот теперь мои беды закончились, а ему с этой памятью о собственном предательстве всю оставшуюся жизнь мучиться. И когда мы заходили в сандуновскую парилку, куда он меня сразу же повез, я решил, что забуду про всю эту историю тут же и навсегда и пусть все будет как раньше, если получится. Даже не буду спрашивать, почему перевозка автоматов из Белого дома в гостиницу «Мир» была так важна, что за это надо было платить моей свободой.
Из Сандунов он повез меня к себе, потому что Людка организовала праздничный ужин и очень хочет меня видеть.
Я провел у них весь вечер и остался до утра, потому что ко мне домой Людка отправила двух уборщиц приводить квартиру в порядок после обыска, и они не успели закончить работу. Так мы и просидели всю ночь втроем – я молчал, Фролыч улыбался своей приклеенной улыбкой, а Людка почти все время, без передышки, говорила. Она как будто боялась, что стоит ей замолчать, как мы с Фролычем начнем ссориться или даже подеремся.
Но мы ничего такого не сделали. Хотя на меня пару раз накатывало, несмотря на принятое решение все забыть. Дело в том, что Людка через какое-то время исчерпала все заготовленные к моему приходу монологи и приоткрыла кое-что из происходившего в течение последних шести месяцев.
Оказалось, что телка, с которой Фролыч улетел во Францию, к нему самому никакого отношения не имела (это он ей наплел, а она либо поверила, дура, либо сделала вид, что поверила). Она якобы была племянницей Николая Федоровича, который в Ниццу попал через Киев, а сопровождение девушки доверил Фролычу. Людка тоже с ними все это время была – через три дня после моего ареста ей дали понять, что могут заявиться с обыском, начнут таскать на допросы и вполне вероятно ограничение свободы передвижения. Она не стала дожидаться, рванула на машине в Минск, оттуда в Вену, и через Париж в Ниццу.
Они там зафрахтовали яхту и три недели плавали по Средиземному морю, были на Сицилии и Корсике, потом перебрались к греческим берегам, ну и так далее. От души отдохнули, пока я с ума сходил в Лефортове.
У них все варианты срочного выезда были проработаны, билеты забронированы, машины стояли наготове, на пограничном контроле полностью схвачена ситуация. Только вот про одну-единственную мелочь – про меня – они подумать забыли. Про «племянницу» Николая Федоровича не забыли, про сопровождение для беспомощной потаскушки, чтобы она в аэропортах не заплутала, не забыли, мой лучший друг Фролыч ее лично сопровождал. А со мной обошлись как с прилипшей к подметке жвачке– соскребли, отвернулись и пошли по своим делам.
Дальше – больше.
Я смотрел на загорелую Людку и все отчетливее понимал, что эти четыре с лишним месяца, проведенные ими на яхтах и курортах, а мной – в камере следственного изолятора, не просто что-то необратимо изменили в наших отношениях, они изменили и нас самих. Мой лучший и единственный друг, всегда такой немногословный и надежный, превратился в какое-то странное существо, льстиво-суетливое и высокомерное одновременно. Ведь человек никогда не говорит с большим начальником таким же тоном, как с секретаршей, это две разные манеры говорить, а Фролыч, когда он со мной заговаривал, то вел себя так, будто от меня зависит вся его если и не жизнь, то уж точно карьера, а то вдруг у него прорывались такие нотки, будто я у него не просто в лакеях, но еще и ушибленный на всю голову.
И Людка, которую ни одна из моих знакомых девушек не могла не то чтобы заслонить, но и встать с ней вровень, Людка, которая в день моего ареста кричала мне по телефону про протекшую стиральную машину, она тоже изменилась. Она как будто подняла себя на пьедестал, с которого не только стиральную машину, но и людей не очень-то и разглядишь, стала барыней, причем не только для суетящейся у стола прислуги, но и для меня. Я вдруг ощутил, что ее манера обращаться с этой самой прислугой, хоть и отличается от вновь приобретенной манеры говорить со мной, но лишь по форме: если прислуге она отдавала распоряжения, то со мной она вела себя… нет, не скажу, чтобы высокомерно, но покровительственно. Такого не было никогда.
Мне вдруг отчаянно захотелось схватить блюдо с фруктами и со всего размаху шарахнуть его об пол.
По-видимому, Фролыч что-то такое почувствовал, потому что встал и позвал меня в кабинет – выкурить по сигаре.
– М-да, – сказал он, разливая коньяк по пузатым тонкостенным фужерам, – такие вот дела… Как там Миронов себя вел, нормально? Он же у тебя следователем был?
– Он себя нормально вел, – я все же решил вставить Фролычу шпильку, – как обычно. Хотел, чтобы я тебя сдал. Очень настаивал. Даже фотографию с этой блядью показал, как вы с ней в Шереметьеве время проводите, перед рейсом.
Фролыч так искренне удивился, что даже вдруг стал как раньше.
– Ты с ума сошел! На кой черт ему нужно было, чтобы ты меня сдавал! Он и так все знал. Я тебе больше скажу, – Фролыч нагнулся и заговорил шепотом, – это же он меня вывозил. Мало того что он меня через границу провел мимо паспортного контроля, так он еще притормозил флажок. На всякий случай. Моя фамилия в списке появилась, когда самолет уже в воздухе был.
– А зачем же он меня прессовал?
– Ты не понимаешь, – отмахнулся Фролыч, возвращаясь к покровительственно-пренебрежительному тону. – Ему надо было выяснить, как ты себя намерен вести. Типа – сломаешься ты или нет. От этого зависело, с кем и о чем ему придется договариваться. Можешь считать, что он тебя на вшивость проверял.
– А откуда у него твоя фотография в аэропорту?
– Так я же сказал уже! Он от меня там ни на шаг не отходил. Сам и сфотографировал.
– Зачем?
– Для отчетности, ты что, не понимаешь? Он еще и у трапа меня снимал. У них на слово верить не принято.
– Не понимаю я всего этого, ты уж извини. Придется тебе потратить время и объяснить, что случилось. Что все это было?
– Я тебе все объясню. Но не сейчас.
– Нет уж. Либо ты сейчас же все рассказываешь, либо не рассказываешь никогда.
– Это почему?
– Да так. Лишишься слушателя. Некому будет рассказывать. Разве только в мемуарах.
Фролыч испытующе посмотрел на меня и понял, что я не шучу.
– Грозишь порвать отношения?
– Нет. Не грожу, а просто предупреждаю. Я ничего рвать не собираюсь, я их просто восстанавливать не буду.
Фролыч покраснел и яростно швырнул недокуренную сигару в камин.
– Что ты хочешь, чтобы я сделал? На колени встал? Руки тебе начал целовать?
– Нет. Этого не нужно. Просто потому, что это ничего не изменит. Я хочу знать, за что я четыре месяца отсидел в камере, пока ты грел пузо на курортах. Я хочу знать, почему при таком любовном отношении меня нельзя было вынуть из кутузки. Я хочу знать, наконец, как вообще такое могло случиться, что меня арестовали, а ты слинял из страны. Ты мне все это расскажешь, и я пойду думать, стараться постигнуть сложные интриги свои скудным умишком.
– Давай выпьем, – предложил Фролыч. – Выпьем, и я тебе кое-что объясню. За что будем пить? Хочешь – за дружбу?
– Ну тогда уж не чокаясь.
– Как скажешь. А знаешь, когда у нас все вот так же почти сломалось? Не знаешь? Я тебе напомню. Совхоз «Чешковский», второй наш стройотряд. Пятница, шестнадцатое июля. Восемь тридцать вечера. Ничего не припоминаешь?
– Нет. Ну, совхоз помню. Степь. А что там было, именно в пятницу вечером, чтобы я еще дату и время помнил?
– А я тебе скажу, что было. У нас тогда сломался трактор, мы полдня ждали, пока починят, и решили не уезжать с точки, пока не наверстаем. А водитель, который нас должен был в лагерь везти, он на чью-то свадьбу опаздывал, и ходил вокруг нас кругами, злой как сто чертей. Не помнишь?
– Нет.
– Мы к восьми закончили, забрались в кузов. Там сидений не было, мы стоя ехали. И мы с тобой вдвоем стояли впереди, держались за крышу кабины. Помнишь? Опять нет? Ну ладно, я еще напомню. Он погнал как бешеный, сперва по дороге, а потом был овраг, и он решил срезать, чтобы покороче.
– Ну предположим. А дальше?
– А дальше – когда он сиганул в овраг, машина накренилась, и я стал вылетать из кузова. На скорости в восемьдесят. Мне больше не за что было удержаться, я тебя за руку схватил. А ты, друг мой единственный, руку-то и вырвал. Это хорошо, что я удержался каким-то чудом, а то мы бы сейчас с тобой по душам не разговаривали. Вспомнил?
Нет, ничего похожего я вспомнить в первое мгновение не смог, просто ошарашенно таращился на Фролыча, потом постепенно стали выплывать из памяти размытые картинки: зеленая степь, проселочная дорога, сперва прямая, как стрела, потом резко сворачивающая влево перед протянувшимся на добрую версту оврагом, летящие в лицо струи дождя, рванувшаяся под откос, к дну оврага, трехтонка, чей-то крик за спиной…
– Это, впрочем, не так уж и важно, помнишь ты это или нет, – продолжил Фролыч. – Может, и забыл. Важно другое. Я-то это помню, все эти годы помню, но ведь ты от меня ни слова упрека ни разу не услышал, хотя тогда речь о жизни и смерти шла буквально, и ты решил, что лучше пусть ты останешься жить. Знаешь, почему я молчал? Потому что понял потом, что будь у тебя не эта вот тысячная доля секунды, а хотя бы в два раза больше, ты бы руку ни за что не вырвал, сам бы из кузова вылетел, а меня бы уберег – разве нет? Я понял, что это у тебя просто инстинкт сработал, быстрее, чем все остальное, и нельзя за это на тебя злиться, потому что такое с каждым случиться может. Но ведь я не сразу это так вот хорошо понял, а много позже, поэтому так хорошо и дату и время запомнил, что для меня сперва это было то самое время, когда лучший друг Костя решил моей жизнью за свою расплатиться. Совсем не помнишь? Нуда ладно, поверь мне на слово. Я ведь никому про это не рассказывал, да и тебе не стал бы, если бы не эта вот ситуация. Ну да, тогда обошлось все, а теперь тебе пришлось посидеть. Думаешь, мне там так уж здорово было, на курорте, зная, что ты в камере? А что я мог сделать? Ну вернулся бы, пристроился в соседней камере – и что? Уж поверь, за нас с тобой никто бы особо напрягаться не стал. А так удалось разрулить насчет амнистии и чтобы тебя там особо не тиранили. Знаешь, сколько сил потрачено было, чтобы тобой именно Мирон занимался, а не эти… которые все затеяли?
– Эти – это кто?
– Да расскажу я тебе, честное слово, только позже. Сейчас не это важно. Я хочу две вещи. Чтобы ты… ну, простил меня, что ли, и чтобы поверил, что я тебя не сдавал, не подставлял, за твою спину не прятался. Просто мы не все правильно посчитали, и ситуация временно вышла из-под контроля. И в одну секунду ее нормализовать никак не получалось. Мы же первый месяц с телефонов не слезали, все пытались что-то сделать. А потом нам сказали, что готовится амнистия, что все уже решено. Указ президенту дважды приносили, если хочешь знать, а он не мог подписать, потому что все время оживлялись… ну про это потом как-нибудь. Тут разные команды, в Кремле и около, и очень аккуратно надо было двигаться, чтобы не обострять после всей этой заварухи, чтобы дополнительно врагов не нажить. Да в конце концов, не в этом же дело! Пусть даже я ссучился совсем, сбежал и оставил тебя в этой каталажке без поддержки и помощи, но теперь я здесь, и вот мы сидим с тобой вместе, и я у тебя прошу прощения за эту свою слабость. И что? Пошлешь меня куда подальше, всю нашу дружбу похоронишь, и каждый пойдет дальше сам по себе? Ты вспомни, Квазимодо, вспомни все, как оно было. Что, все это выбросить на помойку? Валяй, выбрасывай.
Он помолчал.
– Решай, короче. Либо забываем эту историю и все будет как раньше. Либо допьем этот пузырь, разойдемся и будем иногда перезваниваться с поздравлениями по поводу нашего общего дня рождения.
Этим своим рассказом про совхоз он меня просто оглушил. Всю мою обиду и злость, накопленную за месяцы в Лефортове, незыблемое ощущение собственной правоты, как будто унесло ветром. Я смотрел Фролычу в глаза, и мне было стыдно. Хоть сам я так и не мог вспомнить эту историю, но поверил ему сразу же, – он оказался лучше меня, потому что не только простил, не только понял, но и все эти годы молчал, а заговорил только сейчас, когда я пригрозил разрывом.
– Черт, – сказал я ему, – черт, черт… давай, Фролыч, не будем больше про это, хоть я про этот совхоз и не помню ни фига такого. Не было ничего: ни Белого дома, ни Ниццы, ни Лефортова. Забыли. А тебе спасибо.
– За что?
– За адвоката Эдуарда Эдуардовича.
– Какого Эдуардовича?
– Которого ты мне прислал в изолятор.
– Я тебе никого не присылал, – удивленно сказал Фролыч. – Я же говорю: за тобой там смотрел Мирон. А что за адвокат?
– Эдуард Эдуардович. Я не помню его фамилию. Вернее знаешь что – он ее не назвал, как странно. Просто имя-отчество. А я решил, что он от тебя.
– Почему?
– Слишком информирован. Все знает про нас с тобой. Ну, про Мосгаза – это неудивительно, в газетах же писали. Но он и про Штабс-Таракана знает, и про Джаггу, про амнезию нашу. Просто все. Я поэтому и подумал, что ты его подготовил.
– Да нет, – сказал Фролыч задумчиво. – Непонятно. Ладно, бес с ним. Зараз не об этом надо гутарить. У меня кое-какие новости. Ты, старик, должен знать, что твое многомесячное сидение было не просто так. Сейчас мы фактически у руля, наша команда, я имею в виду. Без нас в стране вообще ничего произойти не может, а с нами – произойдет только то, что мы захотим. Так что готовься. Завтра-послезавтра тебе поступит предложение. Я переговорил, и твое лефортовское сидение было у меня главным козырем. Охотников на это место, как понимаешь, по самое не могу, и у каждого свои ходатаи, но все согласились, что раз уж ты так пострадал, то тебя обижать не с руки. Подробно говорить не буду, чтобы сюрприз не испортить, но останешься доволен. Наливай еще по одной и протяни руку – там на полке блюдце с лимоном стоит.








