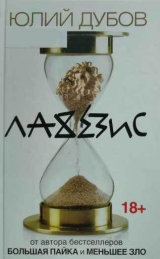
Текст книги "Лахезис"
Автор книги: Юлий Дубов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Орленок Эд и девушка Элиза
Совершенно достала меня эта поганая квартира. Непрерывное газетное шуршание – как будто какой-то человек-невидимка днем и ночью ко мне подкрадывается. Из-за этого постоянное ощущение опасности.
Хотя, казалось бы, бояться нечего. При том, что самому Бесику я ни на грош не верю: бандит он и есть бандит, – но зато полностью доверяю его возможностям. Паспорт он мне выправит самый настоящий и все нужные визы проставит в лучшем виде. Это ведь только очень наивные люди могут думать, что этой страной управляют президент с правительством, а на самом деле ничуть не меньше возможностей у Бесика и ему подобных, и на их полномочия никому и в голову не приходит посягнуть.
Так что, пока я этом грязном логове нахожусь, ко мне ни одна прокурорская зараза не заявится – это будет как нарушение государственной границы.
Рискованная ситуация сложится, когда я с новым паспортом в кармане выйду за порог. Бесик, понятное дело, необходимую охрану обеспечит, но, если я правильно припоминаю, обладание поддельным документом образует состав преступления, и тут я уже становлюсь уязвимым. И если до сих пор я формально перед законом чист, то как только паспорт у Бесика возьму и положу в карман пиджака, тут же и окажусь преступником. Впрочем, такая угроза может реализоваться только, когда людей Бесика уже рядом не будет, – на паспортном контроле, например.
Но об этом беспокоиться еще рано. Вполне вероятно, что и среди пограничников у Бесика полно своих людей.
Так что можно спокойно продолжить игру, вот только идиотские песочные часы мешают. Хоть они у меня за спиной стоят, пока я общаюсь с девушкой Элизой, но я их все равно вижу. Они в экране компьютера отражаются, вот ведь гадство какое. В них должна же быть хоть какая-то идея, но я ее совершенно не улавливаю. Не выходят они у меня из головы. Мешают, потому что не понимаю, зачем они, и что сия тяжеловесная аллегория может означать. Это очень раздражает, потому что я же не идиот, и для всяких загадочных вещей вполне могу находить рациональное объяснение. Я, если хотите знать, вполне даже догадливый человек. Вот ведь девушку Элизу я расколол и понимаю теперь, как устроена олицетворяемая ею программа.
А вот интересно, если я расскажу, как и о чем мы с ней разговариваем, кто-нибудь еще догадается, что у нее внутри тикает, или нет. Вот кусочек из нашей беседы.
Элиза: «ТЕБЕ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕЛЬ ИГРЫ».
Я: «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ».
Элиза: «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ?»
Я: «Я ПРОЧЕЛ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЮ».
Элиза: «ТЫ ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕЛ?»
Я: «НА ЭТО ВСЕЙ ЖИЗНИ НЕ ХВАТИТ, Я ПРОЧЕЛ ТОЛЬ. КО ВВЕДЕНИЕ, А ОСТАЛЬНОЕ БЕГЛО ПРОСМОТРЕЛ».
Элиза: «ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО КАК В ЖИЗНИ?»
Я: «ДА, А ИНАЧЕ НЕИНТЕРЕСНО».
Элиза: «ЧТО ЕЩЕ ТЫ ЗНАЕШЬ?»
Я: «ЗНАЮ, КАК ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ».
Элиза: «ЭТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК ЦЕЛЬ ИГРЫ?»
Я: «НЕТ, ЭТО МНЕ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НАДОЕЛО».
Элиза: «ЧТО ЕЩЕ ТЫ ЗНАЕШЬ?»
Я: «ВСЕ ЗНАЮ, ЧТО СО МНОЙ БЫЛО».
Элиза: «ЧТО БЫЛО С ТОБОЙ?»
Я: «У МЕНЯ БЫЛ БИЗНЕС, БЫЛО МНОГО ДЕНЕГ, ПОТОМ У МЕНЯ ВСЕ ОТНЯЛИ».
Элиза: «КТО ОТНЯЛ?»
Я: «ТЕ, КТО СИЛЬНЕЕ».
Элиза: «ТЫ ХОТЕЛ БЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ ИХ?»
Я: «КОНЕЧНО».
Элиза: «И ОТНЯТЬ У НИХ ВСЕ?»
Я: «КОНЕЧНО».
Элиза: «ЭТО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК ЦЕЛЬ ИГРЫ?»
Вот такой приблизительно разговорчик. Я его очень примерно воспроизвожу, по памяти, потому что ничего не записывал. Никаких письменных принадлежностей в квартире нету, а как в протоколы влезать, я понять не смог. Так вот где-то на этом месте я вдруг начал что-то соображать. Первым делом мне показалось, что эту самую компьютерную Элизу я уже где-то видел. А как вспомнил, где видел, так и началось раскручиваться само собой. Это ведь Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл, той самой Элизы, которую на пари профессор Хиггинс учил разговаривать, как подобает настоящей леди. Элиза Дулитл заученно и старательно несла всякую чушь, а окружающие ее леди и джентльмены принимали вызубренные банальности за чистую монету.
Тут я стал за ее вопросами внимательно следить и все понял. Алгоритм, и вправду, был прост. Это не значит, что я мог бы создать нечто подобное, но идея была более или менее понятна. Элиза вылавливала в моем очередном ответе одно или два ключевых слова, после чего, очевидно с помощью заложенных в памяти грамматических правил, формулировала вопрос, относящийся к одному из ключевых слов. Содержание ответов ее не касалось – она представляла собой оригинальный инструмент для извлечения информации, которая, как я позднее сообразил, предназначалась для программ более высокого уровня. Ее не ставили в тупик односложные ответы типа «да-нет», в этом случае она возвращалась на несколько шагов назад, выбирала еще неиспользованное ключевое слово и формулировала новый вопрос. Элизу было трудно сбить с толку, она шла по пунктирному следу из ключевых слов подобно хорошей охотничьей собаке и не отвлекалась на ложные приманки.
Я решил свою догадку проверить и начал экспериментировать. Для начала я несколько раз ее грубо послал, а потом еще сделал ей непристойное предложение. Она все это проигнорировала, и я решил, что программа фильтрует грубости. Потом я попробовал сбить ее со следа и вместо ответа резко сменил тему. Она спросила что-то, не помню уже что, а я напечатал: «ГЛОКАЯ КУЗДРЯ БОКРЮЧИТ БО-КРЕНКА». Эта абракадабра через предполагаемый фильтр проскочила, но Элиза на нее не отреагировала, она ушла куда-то назад и затянула меня в обсуждение половых проблем – вполне возможно, что этому поспособствали мои предыдущие попытки использования ненормативной лексики. Через какое-то время я решил провести очередной эксперимент, и попробовал длинную серию из «ДА – ДА – НЕТ – НЕТ». Бедная Элиза металась от одного ключевого слова к другому, устроив мне форменный перекрестный допрос, а потом вдруг спросила: «ЗАЧЕМ ОНА ЕГО БОКРЮЧИТ?»
Я понял, что мое предположение о принципе ее устройства более-менее соответствует действительности, перестал испытывать суеверный страх и дальнейшие эксперименты прекратил. В конце концов, программа честно делает работу, для которой она была создана, и, раз уж я решил поиграть в эту игру, то лучше не мешать – любознательный дурак может сломать все, что угодно, а я уже столько времени потратил на общение с Элизой, что не хотелось бы начинать все сначала.
Я тут, пожалуй, забегу чуть-чуть вперед. Когда Элиза спросила у меня «ЗАЧЕМ ОНА ЕГО БОКРЮЧИТ», я про свою глокую куздрю уже забыл. Потому что много времени прошло. Я даже не сразу сообразил, что она у меня спрашивает. А вы бы сообразили, если бы у вас ни с того, ни с сего спросили «ЗАЧЕМ ОНА ЕГО БОКРЮЧИТ?» Ни фига бы не сообразили. Вот и я не сообразил.
Поэтому я ей ляпнул что-то типа «ОНА ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЕГО ПРЕДАТЕЛЕМ». Просто так. Без всякой задней мысли.
Костя Шилкин. Камень второй
Лучше всего мне всегда было, когда окружающие люди меня просто не видели. То есть видели, конечно, но не меня, а как бы сквозь меня – я об этом говорил уже. А хуже всего, когда вот эта моя прозрачность вдруг исчезала, и я оказывался вдруг у всех на виду, будто нахожусь на прицеле сразу у целой сотни пушек. Меня от этого просто трясти начинало – ощущение как палец в розетку нечаянно засунул.
В первый раз я это испытал, когда случилась история с отцом Фролыча.
Я до этого времени вообще не знал, что такое ненависть. Слово-то я знал, оно в книжках часто попадалось, и самому нередко приходилось говорить, что вот «манную кашу я ненавижу». Но это было просто слово, а вот с тем, что оно означает, я никак не сталкивался.
Сразу надо сказать, что с отцом Фролыча у меня отношения с самого начала, с той самой вакханалии обмена подарками, как-то не заладились. Он меня невзлюбил, и проявлялось это постоянно, как только я попадался ему на глаза. Играем мы с Фролычем или уроки вместе делаем, а он зайдет в комнату и так посмотрит, что сразу все понятно. Что-то было у него такое во взгляде, от чего мне сразу делалось неуютно. Он тоже вроде бы сквозь меня смотрел, но не так, будто я есть, а он меня не замечает, а так, будто бы меня просто нет и никогда не было.
Но, по сравнению с тем, что потом случилось, это были просто цветочки.
Я с самого начала расскажу.
У меня выпадение из памяти воспоминаний о предыдущей моей жизни и переход в новое состояние всегда происходили одинаково. Перед глазами вспыхивал очень яркий белый свет, и одновременно раздавался громкий, но мелодичный звук – какое-то «ум-па-ра-рам». Я от этого дергался всем телом и сразу оказывался в иной реальности.
Я все время говорю про пропажу воспоминаний, но это не совсем правильно. Воспоминания никуда не девались, я все помнил, но как-то совсем по-другому. У меня сохранялось знание, но напрочь исчезали ощущения. Так бывает, когда отсидишь, например, ногу. Смотришь на нее, понимаешь, что это не какое-то бревно, а твоя собственная нога, про которую тебе все совершенно известно, но чувствовать ты ее не чувствуешь. Она твоя, и в то же самое время совершенно чужая.
А когда вспыхивал белый свет, ко мне приходили ощущения. Если до вспышки все было как бы с кем-то другим, а не со мной, то сразу после нее будто разрушался такой невидимый колпак, отделявший меня от всего остального мира. Я как-то прочел в одной книжке, что так обычно бывает с эпилептиками за мгновение до наступления припадка – резко обостряются все чувства. От эпилептика я отличался тем, что, во-первых, никаких припадков со мной так и не случалось, а во-вторых – у эпилептиков это состояние довольно-таки кратковременное, а у меня оно могло продолжаться часами или даже несколько дней. Потом колпак возвращался на место.
Когда я этот фокус с исчезновением и появлением ощущений уже смог в словесной форме описать, родители, понятное дело, переполошились, и меня стали проверять на эпилепсию. Несколько раз меня таскали на элекгроэнцефалограф, но он ничего такого не показал, даже повышенную эпиактивность установить не удалось, и меня оставили в покое, ограничившись уже упомянутым выше диагнозом.
Была вспышка белого света в то утро, когда мы с Гришкой передарили друг другу родительские вещи, или нет, я не припоминаю. Наверняка была, но я тогда был маленьким и вполне мог не обратить на нее внимания. А вот спустя восемь лет я эту вспышку и сопутствующую ей мелодию уже зафиксировал своим сознанием и с тех пор отмечал уже каждый раз.
Это случилось в школе, во время урока. Открылась дверь, и в класс ворвалась невысокая женщина в темносиней юбке и белой блузке. Спереди юбку оттопыривал мощный живот, а сзади – не уступающий ему по массивности зад, из-за чего юбка натянута была настолько сильно, что казалось, будто от талии и до колен женщина была просто покрашена синим. Сквозь блузку просвечивал розовый бюстгальтер, а вокруг шеи у женщины был повязан шелковый пионерский галстук. И в моей пустой голове немедленно возникла первая частица знания: эта лупоглазая тетя – наша пионервожатая Людмила Васильевна Куздрыкина. Именно так к ней следует обращаться, и ни в коем случае не называть Люсей, Людой, Милой, а уж тем более – Куздрей. Иначе будет плохо.
Куздря строго посмотрела на меня и сказала:
– Шилкин, немедленно в пионерскую комнату.
В пионерской комнате под красным пионерским знаменем сидел дядечка в черном костюме. На столе перед ним лежал потрепанный блокнот. Куздря встала у окна, опершись попой о подоконник.
– Садись, Шилкин, – приказала она. – Вот товарищ из газеты. Он хочет написать большую статью про нашу школу и про нашу пионерскую организацию. И ты, как советский пионер, должен ему помочь.
Я очень обрадовался, потому что сразу понял, что в этой газете будет моя фамилия, и все узнают, что я – настоящий советский пионер.
– Тебя Костей зовут? – спросил дядечка из газеты. – Константин. Хорошее имя. Ты смотрел такое кино «Константин Заслонов»? Про войну?
Кино я не смотрел, но согласительно кивнул головой, потому что не хотел, чтобы дядечка подумал, будто я некультурный и не смотрю хорошие фильмы про войну.
– Ну вот и хорошо, – продолжил дядечка. – Людмила Васильевна мне сказала, что ты дружишь с Гришей Фроловым.
Как только он сказал про Гришку, мне стало тревожно. Мне тут же, как по заказу, воткнулось откуда-то снаружи в голову, что сегодня я сидел за партой один, а его место пустовало. И что у него дома какая-то беда, и как-то эта беда связана с тем, что уже три дня я не видел во дворе черной «Победы», на которой его папашу возили на работу.
– Ты знаешь, кто его отец? – неожиданно спросил дядечка.
– Дядя Петя – военный, – честно озвучил я очередную всплывшую у меня в голове частицу знания. – Он – генерал-майор.
– Этот дядя Петя, – ласково объяснил мне дядечка, – никакой не военный. Он – преступник. Он арестовывал невинных людей, сажал их в тюрьму. Там их пытали и убивали. Теперь его разоблачили и будут судить.
У меня стало холодно в животе и зашумело в ушах. Я смотрел на дядечкин рот, из которого неторопливо вылезали слова про Гришкиного папашу, и ничего не понимал. Я как-то вдруг перестал понимать, про что он мне говорит. И зачем он мне про это говорит. Просто хлопал глазами весь красный и молчал.
Тут вклинилась Куздря. Оказывается, у нас после уроков должно быть пионерское собрание, и дядечка-журналист специально приехал, чтобы поприсутствовать на этом собрании, а потом написать в газету статью. И вчера Куздря долго говорила с Гришкой, что он должен выступить на этом собрании и, как настоящий пионер, сказать всякие слова, что он своего папашу считает преступником. Вот про это журналист и должен был написать в свою газету, как пионеры осуждают извращения линии партии и так далее. Но Фролыч сегодня в школу не пришел, и телефон у него дома не отвечает.
– Мы ведь не можем отменить это пионерское собрание, – говорила Куздря брякающим железным голосом. – Это был бы просто позор для нашей организации. И для школы. И для всего района. Вот товарищ напишет в газету, что у нас хромает пионерская дисциплина. Мы этого допустить не можем, Шилкин. Правда?
Я машинально кивнул головой. Никак не хотелось, чтобы про нашу школу плохо написали в газете.
– А ты читал, Костя, про пионеров-героев? – спросил дядечка. – Конечно, читал. Все они были очень принципиальные. Всегда ставили общественные интересы выше личных. Вот, например, Павлик Морозов. Или другие герои. Когда я был пионером, я всегда хотел быть похожим на Павлика Морозова. Ты тоже, конечно, хочешь быть, как он. Да, Костя?
Я посмотрел на висящий на стене плакат с Павликом Морозовым. На этом плакате Павлик куда-то шел – он весь был такой летящий, с развеваюшимися светлыми волосами, в белой рубашке и с отглаженным красным галстуком на груди. Очень красивый. Я сразу понял, что хочу быть на него похожим. Павлик Морозов был настоящим пионером-героем. Он боролся с кулаками, которые были против революции и угнетали крестьян. Его родной отец, хоть и не был кулаком, но тайно этим кулакам помогал и боролся против советской власти. Тогда Павлик не побоялся и рассказал комсомольцам и коммунистам, что его отец – враг советской власти, и комсомольцы вместе с коммунистами собрались и расстреляли его отца. Потом Павлик пошел в лес с другим мальчиком, чтобы собирать клюкву, а кулаки решили отомстить ему за то, что он разоблачил родного отца, подстерегли его и убили из засады. У нас в учебнике была такая картинка, как злые кулаки окружили Павлика и готовятся его убить, а он стоит, как на плакате, с развевающимися волосами и в красном галстуке, и у его ног лежит лукошко с клюквой. А из-за дерева выглядывает тот самый его друг, с которым они пошли в лес. Он потом прибежал в колхоз и рассказал, как убивали Павлика, и всех кулаков арестовали и расстреляли.
– Хочешь помочь своей школе? – это снова дядечка. – Своей пионерской организации?
– Вот что, Шилкин, – сказала Куздря, не дождавшись даже, пока я согласно кивну головой. – Сейчас после звонка мы с тобой и с Николаем Федоровичем пойдем в физкультурный зал. Там будет общее собрание всей пионерской дружины. Сначала я расскажу про отца Гриши Фролова, а потом выступишь ты. Знаешь, что тебе нужно будет говорить? Ты скажешь, что дружил с Фроловым, потому что считал его настоящим пионером. Но он оказался трусом и не пришел на собрание, потому что побоялся посмотреть в глаза своим товарищам, после того как его отец оказался преступником. Поэтому ты больше не можешь с ним дружить и предлагаешь исключить его из нашей пионерской организации. Понял, Шилкин?
Она это сказала очень спокойно, даже ласково, но я сразу почувствовал, что ласковость эта – как урчание в водопроводном кране, когда вдруг на минуту отключилась вода: вот-вот оно оборвется и загрохочет мощная струя. Стоит мне промедлить с ответом, как пружинка, на которой держится ее спокойствие, соскочит, на щеках у Куздри выступят пунцовые пятна, глаза побелеют от ярости и еще больше вытаращатся, пальцы скрючатся как у страшной ведьмы из сказки, и она завопит, обзывая меня бестолочью, фашистом, шпаной, дефективным выродком и уродским кретином, которому не место в советской школе.
С плаката на стене ясными глазами смотрел Павлик Морозов, и я позавидовал ему – его отец был заодно с кулаками, и ему было легко и просто, он сам знал, что надо делать, на него не орала никакая Куздря, и еще у него не было такого друга, как Гришка Фролыч, которого непременно надо было исключить из пионеров, чтобы помочь своей школе и пионерской организации. Павлика убили кулаки, и он стал пионером-героем, а меня просто исключат из школы как бестолочь и дефективного выродка.
– Ты себя хорошо чувствуешь, Костя? – обеспокоенно спросил Николай Федорович. – У тебя ничего не болит?
– Воспаление хитрости, – рявкнула Куздря, с трудом сдерживаясь. – Так что, Шилкин? Тебе все понятно?
Ничего понятно мне не было. Я знал только одно – я никогда не смогу сказать ей «нет». Но и сказать при всех вслух, что Гришка Фролыч – трус и сын преступника, и его за это надо погнать из пионеров, тоже не смогу. Да меня только от одной мысли, что я буду стоять на сцене, и на меня будет смотреть вся наша пионерская организация и слушать, как я предаю своего лучшего друга, сразу заколотило. Выход был только один – согласиться, и ждать, что перед тем, как она на собрании поднимет меня и заставит выступать, случится что-нибудь, какое-нибудь чудо. Например, придет сам Фролыч, или произойдет землетрясение, или… не знаю что.
Я кивнул головой.
– Вот и хорошо, – с ноткой торжества произнесла Куздря, глядя на меня тем не менее с подозрением. – Пять минут до звонка осталось, и сразу пойдем. Только без фокусов у меня. Ты в уборную не хочешь, Шилкин? Если хочешь – иди сейчас. С собрания не отпущу.
Подсказанный ею гениально простой выход из положения мгновенно оказался тупиком. Но почему-то мне вдруг стало легче. Ведь только что я никакого выхода не видел, кроме землетрясения, а он был прямо перед глазами: сбежать в уборную, засесть там, как будто схватило живот, и сидеть, пока им всем не надоест. Но если есть один выход, пусть и перекрытый Куздрей еще в замысле, то могут быть и другие, надо только хорошо подумать.
В физкультурном зале, который при наступлении всяких торжественных событий использовался как актовый, было пасмурно и гулко. На сцене стоял покрытый красной скатертью стол, за которым уже сидели Дина Дюжева, наша председательша совета дружины, и комсомольский секретарь Тофик из 10 «Б». Пустующий стул между ними был предназначен для Куздри. Она усадила меня на первом ряду, прямо перед своим стулом, и я оказался там совсем один, потому что все остальные пионеры сгрудились позади.
– Четвертый «А», – скомандовала Куздря, поднявшись на сцену. – Все быстренько встали. Вот так. И перешли дружно вперед. Миронов и Гавриш, – вам особое приглашение нужно? Ну-ка давайте в первый ряд, чтобы я вас хорошо видела.
От соседства с Мироновым я испытал очень нехорошее ощущение. Он был второгодником, в пионеры его приняли самым последним, и он меня не любил. Все время приставал. Был такой случай в позапрошлом году, когда я стоял в школьном дворе с Мариной Голубевой из нашего класса, и тут из-за угла школы вышел Мирон и сразу направился ко мне. «Ты чего тут прохлаждаешься?» – спросил он и – не дожидаясь ответа, еще спросил: «Хочешь я тебе ебальник начищу?» Я тогда еще не знал таких слов, но почувствовал угрозу и на всякий случай сказал, что не хочу. Мирон постоял рядом, посмотрел на меня презрительно и снова исчез за углом, будто бы за тем именно и приходил, чтобы спросить вот это самое. Когда он ушел, я повернулся к Маринке и спросил, что такое ебальник, а она покраснела и сказала, что, как ей кажется, это что-то вроде лица.
Вот и сейчас Миронов, пересаживаясь рядом со мной, сделал вид, что споткнулся и плюхнулся ко мне на колени, а весил он, несмотря на свою костлявость, довольно много. И еще он сделал вид, что никак не может встать, поэтому обхватил меня своими ручищами и начал раскачиваться вместе со мной на стуле.
– Э-э-э! – шипел он при этом мне на ухо. – Э-э-э! Иуда! Друга предавать будешь? Ну, давай.
– Заткнись, – тихо приказал Серега Гавриш, и Миронов немедленно замолчал.
Гавриша слушались и уважали. Даже учителя относились к нему с некоторой опаской – его отец был каким-то большим начальником по учительской части. Даже злобная Куздря перед Гавришем как-то терялась, во всяком случае не орала на него и не обзывала идиотским кретином. И когда он предложил принять Миронова в пионеры, это тут же и случилось. Хотя Миронов и говорил всем, что ему В пионерах делать нечего, но понятно было, что он рад, и с тех пор он с Гавришем был не разлей вода.
Тем временем под барабанный бой из пионерской комнаты принесли знамя, мы все встали, отсалютовали как положено, уселись обратно, и Куздря начала свою речь. Я сначала не очень понимал, про что она говорит – какой-то съезд партии, дорогой Никита Сергеевич, еще что-то. ©на долго про это рассказывала, все устали, и сзади начали бросаться жеваной бумагой. Но тут она перешла к уже понятному, и бросаться прекратили.
– И вот нашлись такие подлецы и изменники, – орала Куздря, потрясая кулаком, – которые воспользовались всем этим и стали расправляться с честными советскими людьми. Они их специально арестовывали, потому что сами были фашистами и выродками и завидовали честным людям, которые любили нашу советскую Родину. Эти враги бросали невинных людей в темные подвалы, пытали и расстреливали. Они хотели расстрелять весь наш народ, но весь народ расстрелять нельзя. Их всех разоблачили как фашистов и преступников, и они понесут суровое наказание.
Я представил себе длинную вереницу злодеев в фашистской форме, сгибающихся под тяжестью огромного бревна с надписью «суровое наказание», и мне вдруг стало смешно. Я еще представил себе, что на этом бревне своим необъятным задом сидит Куздря, и даже пожалел злодеев, хоть они и были подлецами и изменниками.
Когда я вырос, то узнал, что в то самое время разоблачали культ личности Сталина, и отец Фролыча, работавший когда-то под началом Абакумова, попал, как говорится, под раздачу. Но там, в спортзале, я этого по малости возраста понимать не мог, и мне было по-настоящему жутко, что рядом со мной, на той же лестничной площадке, жил такой матерый враг, приходившийся моему лучшему другу Фролычу родным отцом.
Вот тут-то, как только я это сообразил, про матерого врага, на меня и сошло озарение. Я вдруг понял, что надо говорить, чтобы Гришку не исключили из пионеров, и меня тоже, с ним за компанию. Я даже подпрыгнул на стуле, потому как обрадовался, что мне пришла в голову такая гениальная мысль.
А Куздря все бушевала на сцене.
– И сегодня на нашем собрании как раз и должен был выступить пионер Фролов. Он вчера мне обещал под честное пионерское слово. Но он сегодня даже не пришел в школу, побоялся посмотреть в глаза своим товарищам. Этим самым он совершил поступок, недостойный пионера и нашего советского школьника. Он подвел всю нашу школу и пионерскую организацию. Я сейчас даю слово вашему товарищу пионеру Шилкину. Шилкин! Иди сюда!
Я покосился на Миронова, ожидая, что он меня опять обзовет Иудой, но тот сидел молча. Не хотел идти против Гавриша.
Я поднялся на сцену.
– Мы все знаем про пионеров-героев, – сказал я, глядя прямо на журналиста Николая Федоровича, сидящего на последнем раду со своим блокнотом. – Был такой пионер Павлик Морозов. Он был настоящий герой и не пожалел родного отца, когда узнал, что тот помогает кулакам.
Я помню, как в этот момент мне вдруг стало страшно совсем по-настоящему. Потому что именно сейчас надо было решать – сделать ли так, как хочет Куздря, или исполнить свой гениальный замысел. Когда вот так бывает страшно, то кажется, будто ты только что съел сто порций мороженого, и эти порции внутри склеились в холодную веревку, которая как удав сжала все кишки и стала их давить. А дальше все случилось как тогда, под елкой, когда меня непонятная сила потащила из квартиры, и я заговорил дальше.
– Гриша Фролов – тоже настоящий пионер-герой, как Павлик Морозов. Он узнал, что его отец против советской власти. И он решил, что он сам арестует своего отца и сдаст его в милицию. У них дома есть настоящий пистолет, и Грища знал, где он лежит. Он достал пистолет, подошел к своему отцу и сказал: «Руки вверх, ты арестован». Но его отец стал сопротивляться, он вырвал у Гриши пистолет и хотел его застрелить, но потом передумал и просто ударил Гришу пистолетом по голове. Поэтому Гриша не пришел сегодня в школу, потому что он лежит дома раненый.
Я старался не смотреть в сторону Куздри, я понимал, что сейчас она заорет своим противным голосом, и я не успею договорить. Поэтому я зачастил, глядя в потолок:
– После того как Павлик Морозов разоблачил своего отца и его расстреляли, кулаки решили отомстить Павлику: они подстерегли его в лесу и убили, и теперь тоже всякие враги хотят отомстить Гришке Фролову за то, что он такой смелый и принципиальный. Вот они и решили, чтобы здесь на собрании исключить его из пионеров, как будто он просто струсил и не пришел, а на самом деле он лежит раненый, и мы должны им гордиться, а не исключать его, потому что он взаправду герой.
Тут я уже решил взглянуть на Куздрю. Она сидела совершенно окаменевшая, с багровыми пятнами на щеках и раскрытым от изумления ртом. Потом рот захлопнулся, и я даже услышал, как лязгнули зубы.
– Ты! – прошипела она. – Шилкин! Ну, Шилкин! Ты здесь! Своим товарищам-пионерам! Врешь в глаза! Да ты знаешь что! Вылетишь сейчас! В два счета! Из школы! Из пионеров! С дружком своим вместе!
У меня неожиданно прорезался голос.
– Не имеете права! – завопил я на весь зал. – Не имеете! Я честное пионерское даю! Вот тут дядечка из газеты сидит! Проверяйте! Все проверяйте! А так не имеете права! Вы сами, Людмила Васильевна, нарочно все это устроили, чтобы Фролыча исключить. Вот про вас и напишут в газете, кто вы есть. Вы, Людмила Васильевна, и есть самая настоящая врагиня. Вот!
Вот после этого крика у меня вдруг пропали все силы. Будто бы из воздушного шарика выпустили весь воздух, он вышел со свистом, шарик обмяк и съежился. Мне стало все безразлично. И я заплакал, очень громко. Но мне настолько было все равно, что даже не было стыдно. А кругом все замолчали и только смотрели, как я плачу.
Тут Гавриш поднял руку.
– Людмила Васильевна, – сказал он, – а можно… Мы с Мироновым можем сбегать сейчас домой к Фролову. Тут близко. И тут же обратно.
– Отлично, – с какой-то яростной злобой закричала Куздря, тыча в меня толстым пальцем с облезшим красным маникюром. – Отлично! Вот сейчас мы во всем разберемся. Значит, так. Никто никуда не уходит. Гавриш, Миронов, Дюжева! Быстро к Фролову домой и немедленно сюда. Сейчас все будет понятно. Ну, Шилкин, смотри. Еще есть у тебя возможность все исправить. Признайся честно, что ты все это придумал.
Сил у меня хватило только на то, чтобы помотать головой. Слезы продолжали литься без остановки, еще потекло из носа, и началась икота. Зверская какая-то, как кукареканье. Но никто не смеялся. Все смотрели на меня и молчали. Даже жеваной бумагой никто не бросался. Я сквозь слезы видел, как к Куздре подошел дяденька-журналист, что-то тихо сказал, она покивала головой и проводила его до выхода из зала, а потом вернулась на сцену и зашелестела у меня за спиной какими-то бумагами.
Я стоял перед всеми, будто у позорного столба, плакал и икал.
Потом журналист вернулся в зал и встал у окна, через минуту буквально влетели Гавриш и остальные, и я понял, что мое время кончилось. На лице у Гавриша было написано какое-то непонятное торжество.
– У Фролова врач, – закричал Гавриш прямо с порога, – нас к нему не пустили. У него целых два врача, и еще нянечка, ему укол делают. Его в больницу хотят забрать. Нам врач сказал, что с ним нельзя разговаривать.
Я думал, что раньше в зале было тихо. На самом деле, только тут я понял, что такое настоящая тишина. А еще я испытал такое торжество, будто в одиночку выиграл тяжелую и страшную войну, даже трясучка от нахождения в центре всеобщего внимания пропала. Я повернулся к Куздре, затопал ногами и заорал что-то невнятное, показывая на нее пальцем, и весь спортзал, все наши ребята тоже заорали и затопали.
Она вскочила и вылетела вон из зала, а мы продолжали топать и орать.
Дальше не помню точно, я шел, меня о чем-то все время спрашивали, но я просто отмахивался и шел, забрал в классе портфель, потом пальто в раздевалке, вышел на улицу, и там меня остановил журналист. Он хмурился и был очень недоволен.
– Ну заварил ты, Костя, кашу, – сказал он. – Это я просто-таки в кино сходил, можно сказать. Ну, теперь признавайся – придумал все? Про пистолет? И все остальное?
– Ничего я не придумал! – заорал я на всю улицу. – Оставьте меня в покое! Уйдите все! Сволочи все! И ты – сволочь! Гад!
И я побежал через сквер, туда где был наш дом, мой и Фролыча.
У Фролыча оказался менингит, из больницы его выписали через месяц, и он перевелся в четвертую школу. Я перевелся вместе с ним. Его отца никто арестовывать не стал, просто выгнали с работы, и черная «Победа» в нашем дворе больше не появлялась. Потом, когда его назначили начальником первого отдела в бронетанковую академию, за ним стала приезжать «Волга».
Никаким пистолетом Гришка, как вы понимаете, папаше своему не грозил, а тот его не бил в ответ по голове. Все было совсем по-другому – Фролыч объяснил, что никак не мог знать, что Куздря меня потянет, чтобы я на собрании разоблачал и его, и папашу, поэтому он просто решил пересидеть дома, решив, что как-нибудь вся эта история сама собой рассосется. Он, понятное дело, про это рассказал своим родителям, и они все вместе решили, что пусть у него будет ангина. Его мать даже записку в школу заготовила, чтобы он ее отнес, когда уляжется буря. И вот он сидел себе спокойно дома, наклеивал марки в альбом, а где-то за полчаса до появления делегации из школы случилась точно та же самая штука, что и со мной: вспышка белого света и мелодия. И тут у Гришки вдруг заболела голова, да так сильно, что он потерял сознание, и ему вызвали «скорую». Врачи сказали, что менингит, повозились с ним, а потом увезли в больницу.








