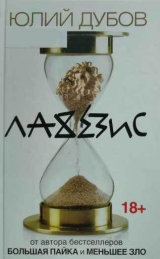
Текст книги "Лахезис"
Автор книги: Юлий Дубов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Вот так и получилось, что меня стали звать Квазимодо. Я не обижался, потому что Квазимодо – это такой очень благородный персонаж из книги Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», а то, что он был уродом, не так уж и важно. Тем более что со временем шрамы на моем лице стали не так заметны, как вначале, и я научился говорить так, чтобы было разборчиво. Единственное, что так и осталось, – это свернувшееся набок из-за поврежденного нерва лицо да частично снятый скальп, но сперва я просто стригся наголо и прикрывал голову черной шапочкой, а потом, когда совсем вырос, стал носить парик.
Но это все было потом, а когда с меня сняли бинты, и я впервые посмотрелся в зеркало, то страшно разревелся. До этого у меня лицо было самое обыкновенное, как у всех: нос, рот, глаза, – ничего особенного, а сейчас на меня смотрело из зеркала жуткое чудовище, все в шрамах, а шрамы были развороченными, синими, нормальной человеческой кожи на половине лица почти что и не осталось, а само лицо будто съехало куда-то в сторону, да еще и один глаз прикрыт наполовину. Мало того что я своего нового лица испугался, так еще и представил, как я выйду в таком виде на улицу или в класс войду, а на меня все тут же станут пялиться и пальцами показывать, а я этого просто даже перенести не мог, потому что уже тогда больше всего на свете ценил собственную незаметность, чтобы я на свете был, но только для себя, а для других меня будто бы и не было.
Чуть забегая вперед, скажу, что именно этого я как раз опасался напрасно, что на меня пальцами будут показывать. Первое время, конечно, малявки из младших классов бегали за мной на переменах и кричали: «Эй, Квазиморда, Квазиморда!» – но потом даже они перестали, а все, которые постарше, они вели себя очень даже деликатно и вообще старались не то чтобы даже мне в лицо не смотреть, но и вообще в мою сторону, так что незаметность моя от всего этого только усилилась.
Кстати говоря, именно Фролыч впервые и назвал меня Квазимодо. Я пролежал в больнице больше месяца, почти до самого первого сентября. Потом с меня сняли повязки, а тут как раз Фролыч вернулся с дачи и пришел меня навестить. Мог бы, конечно, и не приходить, потому что назавтра меня уже собирались выписывать домой, но он все равно пришел и увидел, на что я стал похож. Он на меня посмотрел и сказал:
– Ну вылитый Квазимодо!
Ну и когда я пришел в школу, там уже все знали, что меня теперь зовут Квазимодо.
Когда я думаю про своего друга Фролыча, то часто вспоминаю эту детскую историю. Ведь те деревенские хулиганы всерьез думали, что я пырнул ножом одного из них, и мне пришлось бы очень плохо, не заступись за меня Фролыч, – он меня сначала пытался защитить с помощью всяких доводов, а когда это не сработало, то вытащил из окружения. Если бы нас поймали, ему могло достаться намного сильнее моего, потому что насчет меня у них еще могли быть кое-какие сомнения, а Фролыч просто внаглую пытался отобрать у них законную добычу. Так что он вел себя очень самоотверженно, и правильно говорят, что друг познается в беде.
Конечно, если бы мы с Фролычем убегали не к даче Штабс-Таракана, а в какую-нибудь другую сторону, то ничего такого не случилось бы, – и не ходил бы я всю жизнь с изуродованной физиономией и без половины скальпа.
Ну навесили бы они нам пару раз, можно было бы закричать, и тогда прибежали бы взрослые и разогнали всех. Это вовсе не значило бы, что мы с Фролычем трусы, потому что когда двенадцать на двоих – это не по правилам. Но Фролыч сам решил меня выручить, и за это я ему очень благодарен.
Орленок Эд и напрасно загубленные души
Башка болит, просто раскалывается. Пересидел у компьютера, теперь вот расплачиваюсь. Сейчас бы пару таблеток нурофена, мокрое полотенце на лоб и полежать с закрытыми глазами – так ведь нет ни черта здесь, только банки с консервами и сухие галеты. Ну, Бесик, недоумок проклятый, трудно было сообразить, что человеку в полном одиночестве могут элементарно потребоваться лекарства, потому что без них он просто может скопытиться…
Конечно, у него-то самого голова никогда не болит, кость болеть не может.
Что ж делать-то, я ведь реально сдохну тут, и никто даже не чухнется. Крепкого чаю заварить? А вдруг это давление подскочило, и я крепким чаем еще добавлю? Вдруг начнется гипертонический криз, который разовьется быстро в какую-нибудь совсем уж терминальную гадость?
Нет, надо просто полотенце на лоб, срочно лечь и ни о чем таком не думать. Если про что-нибудь долго думать, то можно накликать, это я точно знаю. Вот один из наших, из третьего эшелона, у него к Бесику доступа не было, поэтому когда он понял, что за ним с минуты на минуту придут, то срочно лег в Кремлевку. Два дня полежал, изображая из себя тяжело больного, а на третий день – пожалте бриться – микроинсульт. Думаете, это его спасло? К вечеру и забрали, прямо из интенсивной терапии. Теперь его в «Матросской тишине» на ноги ставят, готовят к проведению следственных действий.
Не помогает полотенце. Вот если крепко сжать зубы, то боль на полминуты уходит, а потом возвращается с удвоенной силой.
Нет, так не годится. Надо вот что – в душ и вымыть голову как следует, три раза вымыть. Или четыре. Если это еще не криз, а просто спазм, то должно помочь. Такой вот отвлекающий массаж. Сразу после этого опять лечь и притвориться дождевым червяком. Лежит червяк в прохладной луже, лениво сокращается от удовольствия и радуется жизни.
Уф-ф… кажется, отходит. Отходит, отходит.
А что если паспорт у Бесика до самой последней минуты не брать, чтобы даже не касаться его? Ведь если документ не у меня и никогда в моих руках не был, то с меня и взятки гладки. А он пусть объясняется, у него это лучше выйдет.
Отходит голова…
Хорошо быть дождевым червяком. Мало того что у него ничего не болит, так если его разрезать на две половинки, то каждая из них будет все тем же изначальным дождевым червяком. Два отдельных червяка, а на самом деле это один и тот же червяк. Здорово природа все устроила, только не довела до логического конца, не распространила этот принцип на человека. Венец творения называется. Вот если бы я так мог, я бы немедленно разделился на две тождественные половинки – одна бы тут осталась, при бесполезных песочных часах и бумажных квадратиках на грузинском языке, а вторая вышла бы наружу и попробовала самостоятельно пробиться к веселым хлопцам, проявляя чудеса изобретательности и отваги. Отвагу легко проявлять, если знаешь, что точно такой же ты в настоящий момент пребываешь в безопасном месте, отгороженном от мира бронированной дверью и наглухо зашторенными окнами.
А вот интересно: если половину червяка взять и растоптать насовсем, то вторая половина что-нибудь почувствует или нет? Существует между половинками червяка телепатическая связь?
Как только Бесик меня вывезет отсюда (решено, паспорт в руки не беру, пусть он сам или его уголовники и на регистрацию, и на паспортный контроль подают, а я буду будто безрукий инвалид), первое, что сделаю, это найду червяка и проведу эксперимент. Вдруг обнаружится что-то такое, а это ведь и на Нобелевку потянуть может, не меньше, вот мне и будет занятие, потому что ничего такого, чем мы с веселыми хлопцами увлекались, нам уже не видать: российский бизнес – штука самобытная и на иностранной почве не приживается.
Ну ладно, вернемся к эксперименту. К игре то есть. Включать сейчас не буду, подожду пока башка пройдет окончательно, а просто проведу в лежачем состоянии сеанс работы над ошибками.
Я не могу перейти на следующий уровень. Для этого нужно, чтобы мои фишки как-то выделились, совершили нечто героическое, что ляжет в копилку их достижений и создаст плацдарм на будущее. Перепробовал решительно все – и все впустую. Может быть, я просто не представляю себе, какие такие действия должны были предпринять тогдашние школьники, чтобы система их заметила и отличила? Может быть, система на школьников и не обращала особого внимания, дожидаясь, пока они подрастут хоть немного? Но как же тогда быть со следующим уровнем?
Все, что я о том времени знал, я уже перепробовал. Фишки ходили со своими одноклассниками на сбор металлолома – на их пути возникала гора ржавого кровельного железа высотой с двухэтажный дом. В первый раз они эту гору с энтузиазмом перетащили на школьный двор, про них написали в стенгазете, что они молодцы, но переход на новый уровень не произошел. Я подсунул им еще одну гору, на этот раз из старых батарей отопления, но им, похоже, надоело таскать тяжести, потому что фишка номер один скомандовала: «Айда в кино, ребята!», и весь класс дружно свалил в кино.
Была хорошая идея со спасением провалившегося под лед ребенка. К мальчику, который угодил в прорубь на Оленьих Прудах в Измайлово, они шли настолько не торопясь, что даже в парк не успели войти, как мальчик уже утонул, а с меня программа срезала пятьдесят очков. Тогда я решил, что тонущую девочку они будут спасать с большим энтузиазмом, чем сопливого пацана, и они были уже совсем близко, но загляделись на народных дружинников, пытающихся поставить на ноги мертвецки пьяного забулдыгу. Еще пятьдесят очков, но я с маниакальным упорством продолжал в этом же направлении, следующую девочку вытащили лыжники, случайно оказавшиеся неподалеку, пока мои фишки только спускались с берега на лед. Так как девочка спаслась, очки с меня не срезали, но я понял, что надо сделать перерыв и подумать.
Опцией «помощь программы» я до этого пользовался только однажды, а тут решил попробовать, за что был немедленно вознагражден: они подхватили под руки подслеповатую бабушку и лихо переправили ее через оживленную городскую магистраль. Плюс десять очков, хотя я к этому доброму делу был вовсе не причастен. Но тут я увидел железный способ отыграть ранее списанные очки, и на их пути стали появляться бабушки и дедушки разной степени увечности, пытающиеся перейти улицу. Следующую бабушку они перевели, принеся мне еще десять очков, а потом охладели к этому занятию, развернулись и ушли в противоположном направлении. Даже сирена «скорой помощи» не заставила их обернуться.
Погибший под колесами трехтонки дряхлый дед обошелся мне в три очка – стариков программа ценила меньше, чем детей, но эту идею я тоже разрабатывать прекратил.
Прошла голова. Знаете, как здорово, когда уходит боль, легкость такая появляется во всем организме, будто вот-вот взлетишь.
Что же мне делать с этими кретинами?
Если бы я знал, что окажусь в таком тупике, я бы их как-нибудь присобачил, например, к полету Гагарина в космос – оказываются они, к примеру, на Большом Каменном мосту, а тут дурацкий псих с геростратовским комплексом пытается совершить покушение на первого космонавта, они, понятное дело, заслоняют космонавта своими детскими телами, ничего страшного с ними не происходит, но их тут же везут в Кремль: бабах – и я на следующем уровне.
Но вернуться назад во времени программа не разрешает, да и откуда я знаю – захотят они Гагарина спасать или обойдутся с ним как с бездарно загубленным дедом? Вообще, если я правильно понимаю, как эта штука работает, затея с Гагариным просто не пройдет – в реальности на него на Большом Каменном никто не покушался, а неизбежного в случае его гибели изменения курса истории, получившегося из-за непредсказуемого поведения моих фишек, программа не допустит.
Мне бы нужно реальное крупномасштабное событие, в котором фишки могли бы поучаствовать, такое, которое все равно бы случилось и без их участия, но чтобы их присутствие меня вывело из тупика.
Информация нужна. Может, было что-то из ряда вон в это самое время и в этом самом месте?
Ау, Элиза!
Квазимодо. Камень четвертый
У нас в соседнем подъезде жил один пацан, которого звали Соболем. Вообще-то он был Костя, как и я, но фамилия у него была Соболев, поэтому его и звали Соболем. Он учился в нашей школе, но не с нами, а в классе «Б». Он был такой маменькин сынок типичный, в очках и освобожденный от физкультуры. Еще у него что-то такое было с желудком: либо понос, либо просто так болит. Ему родители даже запретили ходить в школьный буфет, и он приносил с собой из дома пакетики с едой. А тогда в декабре так по всей школе пахло тушеной картошкой с мясом, что он не удержался, про пакет свой забыл, пошел в буфет и смолотил целую тарелку. Ну, к середине урока, его, как водится, и скрючило.
У них на этом уроке была самостоятельная работа по алгебре, а у нас заболела историчка, поэтому мы просто сидели в классе и ничего не делали, ждали, пока звонок. Вот нас с Фролычем, как Соболевских соседей, попросили проводить его домой. А то он совсем уже помирал от этой буфетной картошки.
Ну, мы, понятное дело, обрадовались, потому что обратно в школу уже можно было не приходить, и поволокли Соболя домой. Мы уже во двор заходили, как смотрю – Фролыч побледнел и начал ртом воздух хватать, я сразу понял, что у него приступ. И у меня тут же светомузыка в голове началась, да так, как никогда еще не было. Такое ощущение было, будто все внутренности у меня пустые, и в них что-то медленно вползает, как будто насосом накачивают меня, и всего меня от этого накачивания просто раздувает. Не больно было, а очень страшно, и, чем дальше в меня это вползало, тем страшнее становилось.
Тут уж нам не до Соболя стало, самим бы доползти. А он увидел, что с нами что-то не так, испугался, и от этого испуга все его желудочное недомогание улетучилось мгновенно. Теперь уже не мы его волокли под руки, а он вместе со мной тащил и Фролыча, и наши портфели. Мы ведь особо не дружили, поэтому он Фролыча в приступе не видел никогда и здорово сдрейфил. Помог мне доставить Фролыча домой и тут же сбежал.
Настя дома была и сразу стала звонить маме Фролыча на работу и врачу. Ей так приказано было – если приступ, то сразу бить тревогу. А Фролыч лег на диван и затих. Я сижу рядом и держу стакан воды, на случай если он пить захочет.
А музыка гремит, и змей многоголовый медленно ползет по моим кишкам и кровеносным сосудам.
С полчаса, наверное, прошло, Фролыч немного в себя пришел и говорит:
– В туалет хочу. Проводи.
Я его взял под руку, и мы вышли в коридор. Тут как раз и позвонили в дверь.
Мы с Фролычем стоим в коридоре, а Настя говорит кому-то за дверью:
– Да иди ты, милок, не до проверок нам сейчас – у нас мальчик заболел. Ты завтра заходи.
И хлопнула входной дверью прямо перед носом у того, кто там стоял. Но я его все равно успел увидеть. Он был не очень высокий, метр семьдесят – не больше, в телогрейке и меховой шапке, а в руке у него был черный чемоданчик под кожу с металлическими уголками.
Я отвел Фролыча в туалет, постоял рядом, пока он писал, воду спустил и отвел его обратно в комнату. Туг меня Настя позвала.
– Чаю хочешь? – говорит. – С печеньем. Пойдем на кухню.
У них всегда чайник, чтобы не остывал, накрывался такой куклой, бабой-чаевницей, в цветастом платье, кокошнике и с румянцем во все лицо. В руках баба держала самовар из папье-маше.
– Это кто приходил? – спросил я у Насти, усаживаясь за стол.
– Газовщик. Газ проверять? А чего тут проверять-то… В прошлом месяце проверяли, теперь вот опять пришел. Ходят, ходят, работать некому, все только ходят.
Тут я вспомнил, что мать как раз собиралась вызывать газовщика, потому что ей не нравилось, как работает духовка. А дома у нас сейчас никого нет, и он уйдет, а духовка так и останется плохо работающей. Я выглянул на лестницу, а там уже никого – он, наверное, звонил-звонил к нам в дверь, да и ушел, не дождавшись.
Вернулся на кухню, и сели мы с Настей пить чай с печеньем. Я, правда, печенья ни кусочка съесть не мог, потому что у меня все внутренности были забиты тем, что туда вползало медленно, да и чай-то еле осилил. Тут меня просто прошиб пот, полилось все со лба и по лицу, и даже китель школьный начал намокать.
– Ты что это? – всполошилась Настя. – Плохо тебе? Давай доктора попросим тебя посмотреть, он уже сейчас будет.
Но я от доктора отказался. Я ей соврал, что у меня вроде от чая всегда так бывает; она не поверила, но приставать перестала, только поглядывала на меня с сомнением. А мне так плохо было, что я даже подумал, будто помираю. Только и хотелось, что добраться до дивана дома, лечь, накрыться подушкой, и чтобы никто меня не видел и не слышал. Я зашел к Фролычу в комнату, чтобы свой портфель забрать, гляжу – он, похоже, задремал. Ну и ладно. К вечеру нормальный будет.
Только на лестнице уже сообразил, какая получилась дурацкая накладка. Этот Соболь так перепугался, увидев Фролыча в приступе, что мой портфель схватил. Вот ведь зараза! Одна надежда, что он все еще животом мается, а то если удрал куда-нибудь, то мне придется к нему еще раз тащиться, потому что все тетради и учебники в портфеле, а без них я никакие домашние задания сделать не смогу.
И вот как раз, как я подошел к соседнему подъезду, дверь открывается и выходит тот самый газовщик. Только теперь он был в темных очках от солнца, и от него просто на километр воняло одеколоном. Я этот запах до сих пор где угодно распознаю и при любой концентрации, потому что сколько помню себя – батя всегда только «Шипром» и мазался после бритья.
Я, хоть и совсем был уже на пределе, но в голове сидело про духовку, вот я ему и говорю:
– Вы – газовщик?
Он вроде как дернулся от этого моего вопроса и сперва даже отскочил от подъезда, а потом вернулся обратно, взял меня за плечо и говорит:
– Я – газовщик. Пойдем, мальчик, я у тебя дома газ проверю.
Мне это все здорово не понравилось. И то, что глаз у него за этими очками не видно было, и как он меня держал (потом, вечером, синяк обнаружился на плече). И акцент. Нерусский акцент. Отец на праздниках, когда тосты говорил, такой же примерно акцент изображал.
Но вот не понравилось, а все равно никак у меня эта духовка из головы не шла, и, вместо того чтобы вырваться и убежать, я ему и говорю:
– Сейчас, только вы меня подождите немного тут, я должен к товарищу по делу зайти. Вы не уходите никуда, я через минутку буквально спущусь.
Ну он остался, короче, внизу, а я на лифте поехал на третий этаж к Соболю и позвонил в дверь, а там никакого движения: как я и боялся, Соболь оклемался и удрал куда-то. Я еще позвонил, а тут у меня внутри совсем что-то завернулось в клубок, и я за ручку двери ухватился, а она возьми да откройся, а тут прямо мой портфель стоит под вешалкой. Это значит, Соболь ушел, а дверь запереть забыл.
Я даже не то, что портфели обменять не успел, я и обрадоваться-то не успел, что так все удачно получилось, как увидел, что из-за открытой двери в комнату торчит человеческая нога, и она так была странно вывернута, что я сразу понял – это не живая нога, а уже мертвая. Серая школьная брючина на ноге задралась, и я тут же догадался, что это нога Соболя.
Я сначала никакого страха почувствовать не успел, меня как потянуло к двери, а там Соболь лежит на полу весь в Крови. У него вся голова была в крови, волосы красные и склеившиеся в сосульки. Он лицом вниз лежал, школьная гимнастерка в трех местах тоже в крови, а левая рука вообще отдельно от него валялась, отрубленная.
А в комнате страшный кавардак: скатерть со стола сдернута, книги с полок свалены в кучу, и посудные черепки по всему полу.
Не помню даже, как я из Соболевской квартиры вылетел, стою у двери, и меня так трясет, будто я за голый электрический провод ухватился и отпустить не могу. А тут лифт зашумел. Кто-то наверх поднимался.
Я в этом страшном месте находиться больше не мог, и рванул вниз по лестнице. В свой подъезд, и на четвертый этаж бегом. Дверь на цепочку закрыл, тут меня и вытошнило. Прямо в коридоре. И вот я рядом с этой лужей сел на пол и сижу, пошевелиться не могу, потому что какая-то невиданная слабость на меня напала. Сколько-то времени просидел, потом встал, пошел в спальню, занавески задернул, плюхнулся на кровать, не раздеваясь, даже ботинки не снял, подушкой накрылся и дальше ничего не помню.
Пришел в себя я от того, что меня трясут за плечо. Открыл глаза, а в комнате полно народу – родители, дворник дядя Кузьма, какие-то незнакомые люди, да два милиционера. И все на меня смотрят.
Мать говорит: «Костенька, Костенька…» – и заплакала, а отец ее за руку взял и стоит весь белый. Дядька, который меня за плечо тряс, спрашивает:
– Проснулся? Давай, Костя, вставай, и пойдем поговорим.
И ведет меня в большую комнату, а там за круглым обеденным столом сидит какой-то лысый, а перед ним бумаги разложены. Меня перед лысым посадили на стул, остальные все, кроме того, который меня из спальни привел, делись куда-то, наверное, в коридор вышли или на кухню, только отец не вышел, я чувствовал, что он тоже у меня за спиной стоит.
Лысый спрашивает:
– Ты, Костя, давно домой пришел?
Я понял, что они уже нашли зарубленного Соболя и теперь занимаются расследованием, чтобы поймать убийцу. Вспомнил все, что было, и тут мне стукнуло в голову, что я, вместо того чтобы вызвать милицию, трусливо сбежал домой и лег спать. И этим самым просто помог преступнику сбежать. Поэтому я получаюсь пособник и соучастник, сейчас они меня за это арестуют и посадят в тюрьму. Пока я про это соображал, который меня из спальни привел, покашлял у меня за спиной и говорит ласковым голосом:
– Тебе, Костя, наверное, неудобно в пальто сидеть. Жарко. Ты бы снял пальтишко, Костя.
Лысый с ним переглянулся, кивнул головой, и тут же тот, второй, с меня пальто стянул и в коридор. Потом вернулся и опять у меня за спиной встал, рядом с отцом. Этих секундочек мне как раз хватило, чтобы сообразить – лучше всего про Соболя не говорить ничего, а будто я от Фролыча прямо пришел домой и сразу завалился спать. А тошнило меня потому, что я в школе картошку с мясом съел, отравился.
Так я и рассказал лысому. Он все записал, поулыбался и спрашивает:
– А сейчас ты себя как чувствуешь, Костя? Животик не болит?
– Нет, – говорю. – Сейчас уже почти не болит. Если только самую малость.
– А что ж ты не спросишь, Костя, почему я тебе все эти вопросы задаю?
Тут я понял, что промашку допустил. Надо было сразу спросить: «А что это вы, дяденьки, здесь делаете?» Но не спросил вовремя.
– Вы, наверное, – говорю, – расследуете, почему многие в школе отравились этой картошкой с мясом.
– А кто еще отравился?
– Костя Соболев, – говорю, – тоже отравился. Мы его с Гришкой Фролычем, с Фроловым то есть, домой привели.
– Вы его прямо домой привели?
– Да нет же, – говорю. – Я уже рассказывал ведь. Мы шли вместе, а по дороге у Фролыча голова заболела. Мы с Соболем, в смысле с Соболевым, зашли к Фролычу домой, а оттуда Соболь сразу к себе.
– И ты к Соболеву домой не заходил.
– А чего мне там делать? Я от Фролыча – и сюда сразу.
– А портфель твой, Костя, где? Где твой школьный портфель с учебниками и тетрадками?
Вот это я влип. Я же, когда мертвого Соболя увидел, у меня из головы все вылетело. Так мой портфель и остался в коридоре рядом с вешалкой на полу стоять. А они его нашли, поэтому и допрашивают меня сейчас.
– Не знаю, – говорю, – где мой портфель. А что, дома нету его? Может, его Соболь по ошибке с собой унес, когда от Фролыча уходил?
Это я ляпнул, не подумав. Сейчас он меня спросит, как такое может быть, чтобы Соболь сразу с двумя портфелями ушел.
Но он на это вроде как внимания не обратил. Опять переглянулся с тем, который стоял сзади, и спрашивает:
– А где ты так пальтишко свое вымазал, Костя? Что это у тебя там за пятна на плече? Может ты пирожки с повидлом неаккуратно ел прямо на улице?
– Костя! – это отец не выдержал. – Расскажи всю правду, сынок. Не надо обманывать. Ты же ничего плохого не сделал. Сынок!
– Вот видишь, Костя, – обрадовался лысый. – Папа тебе правильный совет подает. Хватит неправду говорить. Расскажи все как было на самом деле. Зачем ты пошел к Косте Соболеву. Кого видел там. Откуда кровь на пальто. Ты нам должен помочь. А ты вместо этого только путаешь всякими байками про картошку с мясом. Кто заходил к Соболеву, когда ты там был вместе с ним?
Голос у него такой ласковый-ласковый, а глаза злые. Мне сильно не по себе стало. Не иначе, как он думает, что я преступника знаю, раз так спрашивает. Потому что если я был в квартире у Соболя, когда его убивали, а сам остался жив, то непременно я должен знать преступника. Это намного хуже, чем мое первоначальное опасение, будто меня арестуют за то, что не вызвал тут же милицию и дал убийце уйти.
Пришлось рассказать, как Соболь унес по ошибке мой портфель, как я увидел его, уже мертвого, и как меня вырвало в коридоре.
– Допустим, – согласился лысый. – А ты в квартире у Соболева трогал что-нибудь?
– Нет.
– А кровь на рукаве откуда?
– Не знаю. Меня дядька за плечо схватил. Газовщик.
Как только про газовщика сказалось, так мне вдруг все очевидно стало. Это он, в темных очках, Соболя убил. Это он на лифте поднимался, пока я бежал по лестнице из Соболевской квартиры. Если бы я там еще минуту промедлил, он бы и меня зарубил топором, потому что я его в лицо видел.
– Значит, так, – сказал я. – Пишите. (Это я в кино видел, как следователь кого-то допрашивает, а тот сначала не хочет отвечать, потом соглашается и говорит «Пишите»; мне запомнилось). Все пишите.
И я рассказал все по порядку: как мы с Фролычем стояли в коридоре, когда Настя открывала дверь, как мы с Настей пили чай на кухне, как она сказала про газовщика, а я вспомнил про неработающую духовку, зачем я пошел в квартиру к Соболю, про встречу у подъезда, про темные очки и запах «Шипра», как он меня за плечо схватил, что я увидел в квартире, и как бежал вниз по лестнице, разминувшись с поднимающимся в лифте убийцей.
– Значит, тетя Настя и Гриша Фролов его тоже видели? – спросил лысый.
– Мы вместе в коридоре были, когда Настя дверь открыла, – подтвердил я. – И она видела. И он.
– Так, – сказал лысый. – Складно. Вот теперь вполне складно. А врал зачем?
Я признался, что боялся, как бы меня не арестовали за то, что не сообщил вовремя в милицию. Лысый рассмеялся, и тот, за спиной, тоже хихикнул.
– А описать этого газовщика можешь? – спросил лысый. – Хорошо описать. Чтобы его по твоему описанию всякий узнать смог.
– Так это лучше Настю спросить… и Фролыча…
– Спросим, – кивнул лысый. – Непременно спросим. Ну так как?
– Среднего роста, – решительно сказал я. – В телогрейке и в темных очках. С чемоданчиком. Без особых примет.
– Здорово, – похвалил меня лысый. – Значит, без особых примет? Никаких там шрамов на лице или повязки через глаз? Деревянной ноги? Ничего такого не приметил?
– Нет.
– Борис Львович, – обратился он к отцу. – Мне надо позвонить. И я бы хотел с Костей съездить в одно место. Это ненадолго – часа на полтора максимум. Если хотите, можете с нами, но это необязательно.
Отец хотел, но другой следователь привел Фролыча, и больше в машине места не оказалось. Мы ехали на старой «Победе», и лысый, которого звали Алексеем Дмитриевичем, сидел с нами сзади, а рядом с водителем – тот, который привел Фролыча. За Белорусским вокзалом машина свернула вправо, мы немного поколесили по дворам и наконец остановились у старого двуэтажного дома.
– Приехали, – сказал Алексей Дмитриевич. – Нам сюда.
Оказалось, что это мастерская художника Наума Павловича Карповского, и Алексей Дмитриевич с ним договорился, что он по нашим словам нарисует портрет преступника. Потом этот портрет раздадут всем милиционерам, и они быстро поймают убийцу. Но художник оказался какой-то не очень умелый – у него никак не получалось, чтобы было похоже. По кусочкам он все делал правильно, а когда эти кусочки – брови, рот, нос, волосы – собирались вместе, выходила какая-то ерунда. Битый час он со мной мучился, а Фролыч все это время сидел молча. И вдруг говорит:
– Губы заменить надо.
Вскочил и начал ворошить листки бумаги, на которых были разные губы нарисованы. Ворошил-ворошил, потом один выхватил и подает художнику:
– Вот это, – говорит, – правильные губы. И еще надо лоб другой. Он у него был уже, и волосы были птичкой.
Он еще попросил поменять нос – сделать его короче и потолще, а потом отошел немного, улыбнулся и говорит:
– Вот теперь самое оно.
Я посмотрел – и вправду самое оно. Как вылитый.
Мы еще немного посидели у художника, выпили чаю с пряниками, а потом Алексей Дмитриевич отвез нас домой.
У Соболевского подъезда все еще стояли и не расходились люди. Отцы наши тоже там были. Потом батя пришел и рассказал, что убийца забрал из квартиры те самые темные очки, в которых я его встретил на улице, флакон одеколона «Шипр», старый детский свитер, из которого Соболь уже вырос, и шестьдесят рублей.
Все это случилось перед Новым годом. В школе только и говорили про убийцу, который говорит, что он из «Мосгаза», ходит по квартирам с топором и всех убивает. К нам приходили из милиции и специально предупреждали, чтобы не открывали дверь незнакомым, особенно внимательно надо вести себя во время каникул, когда взрослых нет дома и дети остаются одни. Но, видать, не все внимательно слушали, потому что через несколько дней в нашем районе убили еще одного мальчика, нашего сверстника. Говорили, что ему удалось от преступника убежать и запереться в туалете, но тот взломал дверь и зарубил мальчика топором. А еще появился стишок: «Во Франции ОАС, в Америке Техас, в Техасе Даллас, а в России Мосгаз».
Еще нас с Фролычем Алексей Дмитриевич предупредил, чтобы мы ни в школе, ни вообще никому не рассказывали, что видели убийцу, помогали составить его портрет, а я даже говорил с ним. Мы не сразу поняли, зачем нужна такая секретность, но родители объяснили, потому что им он тоже строго-настрого наказал, чтобы никому и никогда. Секретность была нужна потому, что если убийца узнает про живых свидетелей, то он нас может выследить, подкараулить и тоже зарубить топором где-нибудь в темном углу. Так что мы молчали как партизаны, хотя так и подмывало рассказать.
Потом начались зимние каникулы, наступил Новый год, мы с Фролычем отметили наш общий день рождения и стали культурно отдыхать. Чтобы каникулы не проходили для нас бесполезно, родители покупали нам с Фролычем всякие билеты – на елки, в цирк, в театры. «Синюю птицу» мы с ним смотрели уже раза четыре и «Два клена» – тоже. А тут нам еще купили два билета в Уголок Дурова, смотреть на дрессированных зверей.
Ну мы и пошли смотреть на зверей.
А когда представление закончилось, Фролыч предложил сгонять к гаражу – там неподалеку был гараж «Интуриста». Внутрь нас, понятное дело, не пустили, но через железные ворота все время проходили автобусы со всякими иностранными надписями, вот на них нам и было интересно смотреть. А если повезет, то можно было увидеть и настоящие иностранные машины, на которых возили приезжающих в Москву заграничных туристов.








