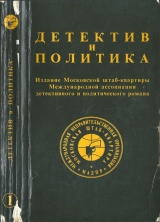
Текст книги "Детектив и политика. Вып. 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Соавторы: Лев Каменев,Дмитрий Лиханов,Вернер Шмиц,Роже Мартен,Дешил Хэммет,Тельман Гдлян,Гийом Апполинер,Владимир Трухановский,Евгений Додолев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
После того как в тюрьме нам со Швецом отказали в свидании с родными и посоветовали пойти к подполковнику Малову в областное управление, мы отправились в гостиницу.
Швец поджужжал на своей платформочке к окошку администратора и постучал по нему деревянным утюжком, которым отталкивался от земли, чтобы быстрее катиться.
Администраторша оказалась пожилой женщиной с маленькой головой на большом теле, но на ее крошечной головке как-то странно умещалось огромное количество крохотных бело-коричневых куделек, что делало ее похожей на барашка.
– Заполняйте бланк, – сказала она Швецу. Мест у нас нет, но уж вас-то я устрою, – как орденоносца и инвалида.
– Мы вдвоем, – сказал Швец, кивнув на меня.
Женщина ответила:
– Я дам номер люкс из исполкомовской брони.
Швец вернулся к столу, и мы начали заполнять длинные бланки анкет, которые выдают администраторы гостиниц перед тем, как вручить гостю ключ от номера.
Напротив графы – «с какой целью приехал, куда, к кому, кем выписана командировка и на какой срок?» – я написал: «прибыл как член-соревнователь Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, для обмена опытом лекционной работы». Меня действительно приняли в общество «Знание», когда отец был еще дома. Тогда я учился на втором курсе и довольно бойко излагал разные истории про те муки, которые испытывает национальная буржуазия в странах Среднего Востока, и как она постепенно уничтожается буржуазией компрадорской.
И сюда, в Ярославль, я, понятно, приехал с красной книжечкой общества, которая так успокоительно действовала на гостиничных администраторов и вокзальных дежурных.
Взяв мою анкету с красной книжечкой, Швец покатил к администратору. Сунув в окошко наши документы, он закурил и, оглядевшись по сторонам, задержался глазами на картине «Утро в сосновом лесу», вздохнувши, как-то изумленно заметил:
– Кругом одни медведи, – куда ни глянь…
Администраторша, не отрывая глаз от наших анкет, спросила:
– Молодой человек, а вы, собственно, с кем едете обмениваться опытом?
Разыскивая отца, я проехал уже восемь городов, в которых были пересыльные тюрьмы, и всюду устраивался ночевать под маркой обмена «лекторским опытом»; ответил поэтому фразой, которая действовала безотказно:
– С группой начинающих товарищей…
– А командировочка где?
– Идет по фельдъегерской связи, – ответил я туманно.
– Ах, так, – понятливо кивнула администраторша, – что ж, хорошо…
И – отложила мои документы в сторону. Взяв анкету Швеца, она бегло просмотрела ее и – скорее для проформы – поинтересовалась:
– Что же вы не указали причины приезда, товарищ полковник?
– Прибыл в ваш замечательный город, – начал рапортовать Швец, – надеясь получить свидание с сыном, находящимся в пересыльной тюрьме…
– Где, где?!
– В пересыльной тюрьме.
– Какая досада, – сказала администраторша, поправив свои мелкие бараньи букли на крошечной головке, – оказывается, тот номер, который я собиралась вам дать, только что заняли. Придется немножко обождать.
– То был свободен, а то заняли? – набычился Швец.
– Нет, он, собственно, не был совсем свободен. Он должен был освободиться, – запутавшись, пробормотала администраторша.
– Верните документы, – рявкнул Швец.
И – выкатился на своих жужжалках из темного холла гостиницы на предзакатную, пронзительно-чистую, ветреную площадь. В небе летали голуби. Они были сизовато-белые, но иногда их крылья высверкивали неожиданным желто-красным цветом.
– Где ночевать будем? – спросил я Швеца. – Честно говоря, я уж третий день не сплю, башка звенит.
– Ничего. Сейчас пойдем на вокзал, там выпьем и закусим, и спать с кем-нибудь договоримся: что здесь номер, что там тридцатка, все одно выйдет, – с точки зрения экономии. Не бойсь, найдем где отдохнуть.
В ресторане мы заказали бутылку черноголовой московской, три салата, селедку, щи и блинчики с мясом. Швец разлил водку по большим фужерам и попросил:
– Ну-ка придвинь меня, а то я на китель буду крошки ронять, неопрятно.
Я поднял его вместе со стулом и придвинул вплотную к столу. Швец кивнул в знак благодарности, цыкнул зубом и возгласил:
– Ну, выпьем за наших с тобой. Дай им бог…
Запрокинув голову, он вобрал в себя водку, неторопливо закусил селедочкой и усмехнулся:
– Анекдот есть такой. Один командировочный, вроде нас с тобой, задержался в Москве по делам, а спать негде, мест в отелях нет. Ну, ему и посоветовали взять на ночь шлюху возле «Метрополя», – у нее и переспать. Он пришел, а там одни красавицы в чернобурках. Смотрел он на них смотрел, а потом подошел к одной, галантно поднял шляпу и осведомился: «Тысячу извинений, мадам, а вы, случаем, не блядь?» Что плешка у «Метрополя», что здешний вокзал… Сука в бигудях, чтоб у нее сыпь на лбу выметало…
– Она ж служит, зря вы на нее.
– Нет, не зря! Скрывать правду – значит предавать Константина, отрекаться от него, живого!
– Вы его не этим предаете. Мы все предаем друг друга совсем не этим…
Швец грохнул кулаками по столу:
– Выбирай слова! Слышу интонацию врагов народа!
– Вы действительно верите, что маршал Тухачевский был врагом народа?
– А кем же еще?
– Кто штурмовал Кронштадт в двадцать первом?
– Как кто?! – Швец изумился. – Товарищ Сталин.
– Тухачевский, Сталин и Троцкий, – тихо сказал я, оглянувшись невольно.
– Я б тебя за такие слова на фронте к стенке поставил! И самолично пристрелил, как бешеного пса! – Швец разъярился. – Запомни: тридцать седьмой год был годом великого очищения! Мы освободились от скверны японо-германских наймитов! От гестаповцев и шпионов типа Каменева и Бухарина! Понял?! Мы выиграли войну благодаря тому, что обезвредили всех врагов народа!
Лицо Швеца вдруг жалобно сморщилось, он замотал головой и стал жалостливо повторять:
– Косинька, Косинька, мой маленький, за что ж такое?! Почему суки на свободе, а ты маешься?!
А я до ужаса явственно вспомнил плач отца, который донесся через открытые тюремные окна и его пронзительный крик: «Сынок!»
– За что такое горе, Косинька?! – Швец сокрушенно качал головой. – Ты ж нашему делу предан до последней капли, ты ж наш, наш!
К столику подошла официантка:
– Щи кончились, может, поменяем на порционную соляночку?
– Ладно, – сказал Швец, вытерев лицо квадратной ладонью, расплющенной «толкалкой». – Валяй сборную.
Он демонстративно отвернулся от меня и стал смотреть на эстраду, где рассаживались музыканты: аккордеонист, слепой скрипач, слепой барабанщик и огромная пианистка, похожая на Петра Первого. Скрипач взмахнул смычком, и оркестр заиграл песню о Сталине, – тогда все программы в вокзальных ресторанах так начинались; Швец стал проникновенно подпевать: «О Сталине мудром, большом и любимом, счастливые песни слагает народ…»
В уголках его пронзительно-черных глаз медленно накипали слезы; когда оркестранты кончили играть, Швец, аплодируя, закричал: «Браво!» В зале ресторана было всего два посетителя: он и я. Пять официанток стояли возле синих бархатных портьер, спрятав руки под белыми фартуками на толстых животах. На стене с лепными украшениями, выкрашенной в темно-зеленый цвет, висела громадная репродукция «Утро в сосновом лесу». Я посмотрел на «Мишек», тронул Швеца за руку:
– Простите меня, я, видно, что-то не так сказал…
– Да уж, – посветлев лицом, он сразу же обернулся ко мне, – я еле сдержался, чтоб не отправить тебя, куда следует. Болтаешь черт знает какую ахинею, уши вянут…
Он снова разлил водку по фужерам, мы выпили, в голове у меня зашумело; все, что было сегодня днем, сделалось каким-то отстраненным, далеким, оркестранты уже не казались такими жалкими, а, наоборот, стали представляться мудрыми хитрецами, потому что после обязательной песни об Иосифе Виссарионовиче заиграли печальный и веселый «Фрейлехс».
Швец заказал еще одну бутылку водки, быстро опьянел; я тоже. Мы начали меряться силами, – у кого крепче руки. Полковник лихо укладывал мою кисть на стол, а я тогда был боксером и подрабатывал на образцово-показательных выступлениях в рабочих клубах.
– Если нет одного, – комментировал Швец свою победу, – тогда обязательно много другого…
Эти слова мне показались очень смешными, я захохотал, а Швец обиженно постучал себя пальцем по виску:
– Смех без причины признак дурачины. Не понимаешь, что ль: нет ног – руки сильные!
Швец вздохнул, начал перемаргиваться с громадной пианисткой, а потом пригласил ее за наш стол:
– Мадам, не выпьете ли немного портфейна?
– Вы, случаем, не одессит? – спросила пианистка, опускаясь на стул. – Одесситы говорят «портвейн» через «ф».
– Какой с меня одессит? – Швец засмеялся. – С меня одессит, как с вас балерина.
Пианистка предложила:
– Может, сыграть попурри из военных песен? Мы недорого возьмем…
Швец достал из кармана кителя тридцатку:
– Извиняюсь, что нет конверта. Венерологам и женщинам я всегда давал деньги в конвертах.
Пианистка выпила рюмку, съела кусочек селедки, вернулась на эстраду и что-то шепнула слепому скрипачу. Тот кивнул и сразу же прокричал в шуршащий микрофон:
– Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!
– Опошляют героику, – заметил Швец. – Всего семь лет после войны отстучало, а уж попурри в кабаках поют. А солдатские кости еще не перегнили. Вот ты – ученый, лекции читаешь, ты мне скажи: сколько времени кость в земле гниет? Или, скажем, череп? Молчишь, член-соревнователь? Хитрые вы, полужидки, змеи извилистые.
Между тем слепой скрипач выкрикнул очередной куплет:
– По берлинской мостовой кони шли на водопой!
Загрохотал слепой барабанщик, а после музыканты стали петь, задирая головы к лепному потолку:
– Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки!
Когда куплеты кончились, слепой скрипач, сделав шаг вперед, нащупал смычком стул, но опустился на него неловко и обвалился на пол. Швец так хохотал, что сам тоже чуть не упал. Он махал руками, вытирал слезы и, плача от смеха, повторял:
– Ой, не могу, не могу, не могу! Как жопу-то припечатал! Ой, не могу, лектор, не могу!
До полуночи мы ходили вокруг вокзала, отыскивая кого-нибудь, кто бы взял нас на ночлег. Но привокзальная площадь была пуста, только под фонарем дремал таксист в старой «Победе» да время от времени прохаживался железнодорожный милиционер в малиновой фуражке.
– Где же ваши проститутки? – спросил я. – Пошли лучше на лавку, все соснем…
– Ты хоть одну свободную видел? – рассердился Швец. – Сам виноват, – я уж договорился с пианисткой.
– Ей же сто лет.
– Неважно. Зато она большая. Для меня чем женщина больше, тем – желанней.
– А скрипач?
– Скрипач? – передразнил меня Швец. – Он слепой, скрипач этот! Что он видит? Тьму и только!
Швец заметил милиционера, сделал мне знак, чтобы я оставался на месте, и покатил навстречу блюстителю закона. Милиционер опустился перед полковником на корточки, чтобы удобнее было разговаривать.
Я видел, как они закурили, а потом стали смеяться: то Швец, то милиционер, – попеременно.
Они смеялись, а я вспомнил, как плакал и трясся Швец, заталкивая меня в камеру, а потом размазывал по своим склеротическим щекам бессильные стариковские слезы…
Милиционер наконец откозырял полковнику, и тот быстро подкатил ко мне.
– Проститутки появляются к трем ноль-ноль, когда прибывает поезд с севера, – отчеканил он. – Но тут одна должна подойти к часу. Роза, – на курьерских теперь не работает, постарела, обслуживает пригородные линии. Мильтон говорит, что ее конкуренция побила, молодежь, говорит, набирает силу, ткачихи…
И вот мы в комнате у Розы. На стенах – вышитые рисунки: красноглазые котята, лебеди в зеленах прудах среди синих башен средневековых замков. На комоде, покрытом узорной салфеткой, фотографии в бумажных рамках. И почти на всех фото – Роза: завитая, губы бантиком, двое детей с одинаковыми челками и мужчина в военном кителе без погон; у него подбритые книзу брови и рваный шрам на щеке.
– Это ему миной рассадило, – объяснила Роза, накрывая на стол: поставила три стакана, порезала хлеб и подвинула большую солонку с желтоватой солью. Швец достал из-за пазухи бутылку водки и плитку шоколада «У лукоморья дуб зеленый». Роза налила себе стакан водки, выпила по-мужски, резко запрокинув голову; напудренное, дряблое лицо ее покраснело; она взяла шоколад со стола и переложила на комод: «Оставим детям, они до сладкого любители». Потом деловито поинтересовалась:
– Вы меня оба будете, или безногий не может?
– Оба, оба! – Швец развеселился. – Безногий может, будь спокойна.
– На широкой ляжем, или будете переходить ко мне по одному?
– По одному, – сказал Швец. – Чтобы в движеньях не смущаться.
Мы с ним совсем пьяны, рассказываем Розе анекдоты, она просит нас говорить потише, чтобы не услыхали соседи. Потом, рассердившись внезапно чему-то, предупредила, что с каждого берет по тридцатке. Мы легко согласились, и она начала стелить постели.
– Чего сюда приехали-то? – спросила она. – В командировку?
– В тюрьму, на свиданку к родным, – браво ответил Швец.
– Эх-хе-хе, – вздохнула женщина, взмахнув залатанной простыней, – вам хорошо, у вас хоть надежда есть, что из тюрьмы вернутся, а у меня и этого нет…
– Что, муж погиб в боях за нашу советскую родину? – деловито поинтересовался Швец, расстегивая китель.
– Да нет, – ответила Роза, – я б тогда на детишек пенсию получала. Он к молодой переметнулся, а от молодых не вертаются, это не тюрьма. Вот теперь и кручусь: днем в гараже, а ночью на вокзале.
– И – давно?
– Через полгода, как ушел, – и начала. Сначала-то думала его вернуть добром, – и начальству писала, и к знакомым ходила… А он не дрогнул… Ну и пошло…
– Заработок маленький? – поинтересовался Швец.
– Да нет, – задумчиво ответила женщина, присев на краешек стула, – можно б прожить… Детишек профсоюз в детсад определил… Только липли ко мне мужики, да и сама не каменная. А с горя баба по первому делу мстит, а уж потом начинает выть, когда дров полон воз наломала… Отомстишь, а ведь аборт денег стоит, где взять? Вот и пошло-поехало…
Она достала из комода старенький патефон, поставила пластинку, и хриплый голос запел, выговаривая слова не по-русски:
– Шпи, шенщин много на швете, шпи, твоэ сэрдцэ тош-куэт…
Роза сняла платье, пояснив:
– Надо, чтоб все было по-хорошему, с музыкой. Я и потанцевать могу, если хотите.
– Не надо. Баловство это. Нескромно, – отрезал Швец и попросил меня: – А ну подними на кровать, я сам не заберусь.
Он отстегнул лямки, которыми притягивал туловище к подшипниковой платформе, я взял его на руки и положил на кровать. Щеки у него были, как у моего старика, – колючие и морщинистые.
Роза потушила свет, выпила еще полстакана водки, остаток спрятала в шкаф, заперла на ключ и легла к Швецу. Он что-то стал шептать ей на ухо. Я устроился на второй койке. В окне металась ветка тополя, ветер раскачивал ее, и было в этом что-то тревожное и безнадежное, словно прощание.
– Какой же ты маленький, – ласково засмеялась Роза, – как ребеночек.
– Тише ты, – сказал Швец.
– Бородой не щекочись, – шепнула Роза. – Я не могу, если смешно.
– Ну вот! – Швец рассердился. – Молча полежать не можешь?! Это тебе кровать, а не Лига наций! Болтаешь языком, болтаешь, охоту отбиваешь.
Я отвернулся к стенке. Прямо на меня – в упор – смотрел с фото бывший муж Розы с подбритыми бровями. На стене по-прежнему металась тень от ветки тополя; с Волги резкими порывами задувал северный ветер.
Я проснулся от того, что меня теребили за плечо. Надо мной стояла Роза:
– Проспали! Подымайся, мне на работу пора. Черт безногий, спать всю ночь не давал, и ты еще храпел. Все равно тридцатку плати. Или пусть он вносит, я не виновата.
…Мы тихо вышли из комнаты. Я нес Швеца на руках, чтоб он не будил соседей своими жужжалками. Лицо его было отекшим и старческим. Он не смотрел на меня, дышал тяжело, а лоб его был прорезан морщинами так, словно он решал сейчас для себя самую важную жизненную задачу.
Роза подвела нас к автобусной обстановке. Швец с ней прощаться не стал; она грустно усмехнулась:
– Все так… Ночью – «милая», а утром мимо смотрят и рот кривят.
– Не сердись, – сказал я.
– А я и не сержусь. Счастливо вам, горемыки…
Она села в автобус и уехала.
– Сука, – пробормотал Швец.
– Зря, – сказал я.
– Нет, не зря! Все от них, от баб! А я не просто сука, я предатель, вот кто я.
Он съехал на мостовую и покатил к постовому милиционеру, который одиноко стоял на тумбе посреди площади. Я пошел следом за ним. Милиционер откозырял безногому полковнику.
– Где тут областное управление? – спросил Швец.
Милиционер снова козырнул и подробно объяснил, как туда добраться.
И мы поехали к подполковнику Малову, от которого зависело – получим мы свидание или нет. Ярославль еще спал. Небо было серым и низким. Лето сломалось, шла осень.
…Константина ввели в камеру, разделенную решеткой и частой сеткой, первым; моего отца внесли на руках два здоровенных зэка, – он дрожал, словно в ознобе, ноги свисали, будто ватные.
– Сынок, – обсмотрев меня, жарко зашептал он, – пиши товарищу Сталину, одна надежда, его обманывают враги!
Младший лейтенант Сургучев, ходивший взад-вперед по узенькому проходу между решеткой и сеткой, кашлянул:
– Без фамилий и подробностей, иначе прекращу свидание!
Константин Швец усмехнулся, снисходительно, но ласково погладив моего старика по седой шевелюре:
– Папа, официально меня осудили за то, что я требовал напечатать письмо Ленина к съезду… Он ведь предлагал сместить с поста генсека партии Сталина…
– Разговоры! – испуганно воскликнул младший лейтенант Сургучев.
– Какое письмо?! – закричал полковник Швец. – Это клевета врагов народа, Костенька! Ты не смеешь верить вздору. Товарищ Сталин самый близкий друг и соратник Ильича!
– Сынок, родной, запомни, – вновь зашептал мой отец, – если ты сможешь передать письмо Иосифу Виссарионовичу, меня освободят завтра же!
Константин Швец посмотрел на моего старика с горьким состраданием.
– Ты приходил в мой институт, папа? – спросил он полковника.
– Да, – ответил Швец.
– Ты говорил, что я тайком читаю вражеские, клеветнические книги типа «Десять дней, которые потрясли мир»? Там ведь замалчивалась выдающаяся роль Сталина в Октябрьской революции, так?
– Да, говорил, – отчеканил Швец. – Я никогда ничего не таил от товарищей, только они и могли помочь тебе в беде.
– Вот они и помогли, – усмехнулся Константин. – Написали, – с твоих слов, – что я занимаюсь антисоветской пропагандой, статья пятьдесят восемь, все как надо…
…Той же ночью полковник Швец поджужжал на своей каталке к краю платформы и бросился под товарняк; я вернулся в Москву и написал письмо товарищу Сталину о несправедливом аресте отца, – двадцатое по счету; воистину «двадцать писем к другу».
«Судьба солдата в Америке»В тот день я продал в букинистическом «Орлеанскую девственницу» с озорными иллюстрациями. За два тома уплатили триста рублей[16]16
Ныне соответствует тридцати рублям. – Ю. С.
[Закрыть]. Сто отложил на жизнь, а остальные спрятал во внутренний карман пиджака, чтобы перевести старику во Владимирский политический централ.
После букинистического я поехал к моему другу Леве Кочаряну. Он лежал, на тахте и читал книгу Юлиуса Фучика. Тогда эта книга называлась «Слово перед казнью», потому что кому-то наверху «Репортаж с петлей на шее» показался натуралистическим и рекламным.
Я поднял Леву, и мы пошли в «Шары», – так все называли маленькое кафе в проезде МХАТа. Мы тогда выработали особую походку, – точь-в-точь копия с американского актера Джима Кегни, который играл в фильме «Судьба солдата в Америке» бутлегера и драчуна. Перед гибелью он совершил массу всяческих подвигов и добрых дел. У него был коронный удар: резкий снизу – слева в скулу. Мы часто копировали этот удар: левой коротко снизу. Противник падал на затылок, и звук при падении был всегда одинаковым: словно били об асфальт старую керамику.
Уже после того, как эпидемия «Судьбы солдата» прошла, мы узнали, что настоящее название фильма было «Бурное двадцатилетие», но кинопрокат решил, – и правильно решил, конечно же, – что народу будет непонятно, про какое «бурное двадцатилетие» идет речь, возможны иллюзии, и поэтому появилось всем понятное название, и сначала на фильм никто не шел, потому что думали, что там про мучения безработных и про то, как угнетают негров, и только после того как его посмотрели человек сто из нашего института, началась настоящая эпидемия, и смотрели мы эту картину раз по десять, не меньше.
В «Шарах» мы выпили с Левой по стакану водки, закусили ирисками и, сглотнув слюну, поглядели на тарелки с сардельками и темно-бурой тушеной капустой, которые стояли под стеклом на витрине.
– Поедем на Бауманскую, – предложил Лева, – там сегодня в церкви танцы.
– Поедем, – согласился я.
И мы поехали.
Это было апрельской весной 1953 года. Сталин уже умер, Берия стал первым заместителем Председателя Совета Министров и министром внутренних дел, а врачи Кремлевской больницы, лечившие раньше правительство, по-прежнему считались агентами империализма и слугами тайной еврейской организации «Джойнт» – кровавыми убийцами в белых халатах.
…На Бауманской, в маленьком переулочке, который вел от рынка вниз к Почтовой улице, в глубине двора стояла старая церковь. Она была приземистой и какой-то уютно карапузистой, красного цвета, с громадными решетками на окнах. Церковь эту закрыли давно, когда все храмы Москвы закрывали. Сначала в этой церквушке устроили овощной склад, а после передали спортивному обществу «Спартак» для нужд секции боксеров и тяжелоатлетов. Три раза в неделю мы там тренировались на ринге у Виталия Островерхова, а по субботам устраивали музыкальные вечера. Внизу, в зале, где некогда звучали проповеди, теперь танцевали мальчики с обрубленными челками «а ля Нерон», юные работницы окружных фабрик с толстыми, по-спортивному вывернутыми икрами, начинающие штангисты в китайских кедах и местные голубятники. Оркестр Миши Волоха располагался на том месте, где раньше были Царские врата. Джазисты в белых рубашках и черных галстуках самозабвенно играли попурри из «Судьбы солдата», а на хорах, куда сваливали весь спортинвентарь, стояли два дежурных оперативника, – на случай чего-либо непредвиденного.
Мы шли к церкви мимо Бауманского колхозного рынка. (Вообще-то дикость, – именем революционера называть базар!) Весеннее небо было предгрозовым. Над городом висела громадная черная туча. Ее края были багровы от зашедшего солнца, и поэтому казалось, что над столицей реет черно-красный траурный стяг.
– Ринемся, – предложил Лев, – а то намокнем, складки сойдут, коленки выпрут.
– Дождя не будет, – сказал я, – ветер сильный.
Но дождь все же хлестанул по улице белой косой линией. Заухал гром, небо погасло, потом зазеленело, высветилось, треснуло пополам голубой линией – и начался весенний грохочущий ливень. Мы спрятались в подворотне. Мутный поток несся мимо нас вдоль по тротуару и ревел, низвергаясь водопадом через тюремные решетки сточной канализации. Дождь гремел, ярился и неистовствовал. Молнии высверкивали, пугая темноту неба отчетливой электрической безысходностью.
Откуда-то из глубины жуткого черного двора, словно Мельник из оперы Даргомыжского, вышел дед с маленьким котенком под мышкой. Котенок тихо мяучил. Дед ласково гладил его за ухом и мечтательно улыбался.
– Куда, старик? – спросил Лева. – Искать русалок?
– Вывелись они теперь, – ответил дед с услужливой готовностью, – одни гниды остались. А иду я этого пса топить, благо луж много.
– Какой же он пес? Он кот.
– Если б… Он – кошка. Вырастет, мяучить станет, кавалеров требовать, сон бередить.
– Перспективно смотришь, – сказал Лева, – трудно тебе, дед.
– Да уж нелегко.
– Давай котенка, – сказал Лева.
– Зачем?
– Заберем.
– Хрена. Плати пятерку. За так не отдам, за так лучше утоплю.
Я дал деду пятерку. Лева взял у старика котенка и посадил его к себе на плечо.
– Мурлычет, – сказал Лева. – Очень щекотно.
Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мы вышли из подворотни и стали спускаться к танцевальной церкви, – оттуда уже доносились быстрые звуки джаза.
…Танцы пятьдесят третьего года! Дай бог, чтобы памятливый искусствовед смог исследовать те совершенно особые вечера, когда официально рекомендованные к исполнению «па-де грасы» и «па д'эспани» соседствовали с запрещенными «буги-вуги», являвшими собою апофеоз буржуазного разложения. Стоило видеть, как юные спартаковские физкультурники и пожилые голубятники с латунными фиксами вышагивали аристократические танцы семнадцатого века, тянули мысочки и галантно приседали друг перед другом, словно маркизы в монархической Франции. Но едва только директор спортцеркви поднимался на хоры, – выпить чая в маленькой комнатушке вместе с оперативниками, – как джазисты, фанатики ритма и синкопы, ломали тянучий «па-де грае», трубы начинали реветь, страстно ухали саксофоны, и спортсмены с голубятниками бросались на своих подруг, весело и страстно перебрасывая их с руки на руку, а подруги смеялись и румянились наивным и чистым весельем.
Трубач, – горбоносый красавец в белой рубашке с узеньким, длинным черным галстуком, завязанным по тогдашней моде узелком величиной с ноготь, – подошел к микрофону, постучал по нему мизинцем и запел на ужасном английском песенку из «Судьбы солдата»:
Кам ту ми, май меланколи бэби,
Кам ту ми энд донь би блю,
Сайл май хани дир.
Смайл антил вил би ин лав,
Ор элс шел би меланколи ту…
Зал стонал от восторга, Миша Волох врубил самодельный зеркальный прожектор, и по лицам танцующих побежали мертвенно-голубые блики. Теперь все танцевали медленно, нагнувшись над подругами плохо выведенными вопросительными знаками, чуть покачивая головами в такт танго, словно дрессированные лошади на манеже.
Видимо, почуяв неладное, начальник спортцеркви выскочил из комнатушки на хорах. Джазисты сразу же заметили его и, сломав ритм, затянули «па-де грае». Спортсмены и голубятники немедленно перестроились, развернули подруг в графские позиции и стали приседать перед ними, выворачивая ноги, как истые аристократы семнадцатого века в эпоху предреволюционной Франции. Начальник церкви ушел, успокоенный, и джазисты снова перешли на «Судьбу американского солдата».
Мы протолкались с Левой поближе к сцене: там было раскрыто высокое стрельчатое зарешеченное окно. За этим раскрытым окном была черная после ливня, рассветающая и расцветающая ночь. Котенок, который сидел у Левы на плече, смотрел в окно желтыми глазами и, часто жмурясь, устало мурлыкал.
– Как будешь танцевать? – спросил я Кочаряна.
– Ничего. Котенок не помешает.
В поисках девушек мы разошлись по залу: он налево, я направо. Я видел, как Лева проталкивался вдоль стены, а котенок сидел у него на плече, – выгнувшись, подняв хвост трубой; все оборачивались и смеялись, а Лева, похожий на Мцыри, был бледен и невозмутим. Потом я нашел себе девушку и пригласил на па-де-де. Она танцевала, не глядя на меня, отвернув лицо, лениво разглядывая отсыревшие стены церкви. Такой был в те годы стиль: танцевать молча, не глядя друг на друга, – очень плотно прижиматься, но молчать и не замечать партнера. Девушка оказалась хорошо натренированной спортсменкой. Я понял это, потому что спина у нее на ощупь была гимнастическая: две горы, а посредине ложбинка.
– Если вы раз врежете, – сказал я девушке, – не поздоровится.
Она ничего не ответила, будто не слыхала.
– Вы очень крепкая, прямо стальная, – продолжал я осторожные ухаживания. Я тогда еще был неопытный, я полагал, что такие комплименты приятны девушке. А ей-то, даже чемпионке по толканию ядра, очень хочется чувствовать себя слабой подле мужчины. Ей обязательно надо быть уверенной в его превосходстве, иначе ничего путного не выйдет.
– Видимо, вы – баскетболистка? – прокашлявшись, спросил я. – Первый разряд? Или мастер?
– Можете не болтать? – сердито откликнулась девушка. – Танцевать трудно.
Я обнял ее еще крепче, она сразу же податливо прижалась ко мне, но голову отвернула чуть не назад, будто кукла с резинкой вместо шеи. Я мог спокойно разглядывать ее профиль и даже часть затылка – так она отвернулась от меня. Но я не успел ее толком разглядеть, потому что заметил в углу, возле двери, – оцинкованной, как в мясном магазине, – толпу, которая стремительно росла. А посредине толпы стоял Кочарян с отсутствующим взглядом. На плече у него сидел котенок, а два парня подталкивали Леву к выходу.
– Вы не умеете себя вести, – говорил один. – Додумались: котенка принести на танцы!
– Распоясались тут! – говорил второй.
Я извинился перед девушкой и протолкался к Леве.
– В чем дело? – спросил я.
– А вас не спрашивают! Отвалите-ка подобру-поздорову, – сказал первый парень, – и не хулиганьте в общественном месте!
– Кому мешает котенок? – холодно допытывался Лева. – У вас есть заявитель?
– Заявителя нет, но котенка вносить в общественное помещение не разрешается!
– Где это записано? – спросил я.
– Да! Где это записано?! – оживился Лева. – В правилах это есть?
– Есть!
Толпа напряженно выжидала, когда выявится победитель, чтобы тут же поддержать его.
– Предъявите правила! – потребовал Лева.
– Хватит с ними валандаться! – сказал первый и, взяв Леву за рукав, попросил: – Очистите помещение, гражданин.
– Не применяйте силу, – попросил Лева. – Вы не в Америке, а в Москве!
Мы часто пользовались этим приемом. Мы напоминали в таких сварах, что живем в демократической стране, а не в Америке, и что у нас нельзя допускать произвол в отношении гражданина. Это многих отрезвляло, и драка не начиналась, и все мирно рассеивалось. Но в этот раз ничего не вышло, – парни попались какие-то несознательные. Один из них ловко сорвал с Левиного плеча спящего котенка и швырнул его в оцинкованную дверь. Котенок пронзительно закричал. Лева сделал короткое движение, – точно как Джим Кегни, и парень растянулся на полу с разбитым ртом, – его губы стали ярко-пунцовыми, как у размалеванной проститутки.
Лева ринулся было к двери, где кричал котенок, но ему в ноги кинулся малолетка, и они упали возле сбитого парня. Началась свалка. Сбили и меня. Сквозь пальцы, прижатые к лицу, я какое-то мгновение близко видел трухлявый пол церкви, бело-красный кухонный кафель возле оцинкованной двери, чей-то полуботинок – замша с лаком – и котенка с желтыми глазами.
А потом я ослеп от боли, потому что мне наступили каблуком на кисть правой руки, – это был довольно распространенный прием шпаны, чтобы не позволить тебе драться: попробуй, ударь распухшими пальцами! Впрочем, Лева Кочарян умел продолжать схватку, даже если целая кодла прыгала прохарями и микропорками на кистях, – лишь бы подняться. Если он находил силы вскочить, то сразу, каким-то животным чувством определял пахана, прыгал на него, как футболист на мяч, летящий вдоль ворот, и наносил в падении страшный удар лбом в лицо; на какой-то миг оно делалось сахарно-белым, словно обмороженным, а уж потом превращалось в кровавое месиво. Не глядя на валявшегося пахана, Лева мгновенно поднимался, нацелившись на одного из малолеток; тот, как правило, пускался бежать. А если один дал деру, вся кодла развалится, потому что она сильна общностью, до первой трещины, и чтоб пахан стоял королем.








