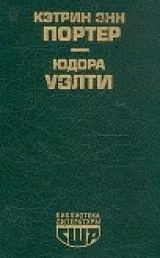
Текст книги "Юдора Уэлти: Рассказы"
Автор книги: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
– Может, вы ручей слышите? – нехотя сказала она.
Ее голос прозвучал ближе. Она стояла у стола. «Почему она не зажжет лампу?» – подумал он. Она стояла в темноте и не зажигала лампы.
Боумен знал, что теперь уже ничего ей не скажет – время для этого прошло. «Ну что ж, будем спать в темноте», – растерянно подумал он, проникаясь жалостью к себе.
Тяжело ступая, она перешла к окну. Смутно белеющая рука поднялась над ее плотным боком и указала во мрак.
– Вон то белое пятно – это Санни. – Она говорила сама с собой.
Он против воли повернулся и поглядел через ее плечо – подняться и встать с ней рядом он не решался. Его глаза шарили в серой мгле. Белое пятнышко подплывало к ее протянутому пальцу, точно лист в речке, и становилось все белее. Она словно открывала ему какую-то заветную тайну, делилась с ним своей жизнью, но ничего не объясняла. Боумен отвел глаза. Он был тронут до слез: почему-то ему казалось, что это была безмолвная исповедь, равная его собственной. Его ладонь ждала у него на груди.
Затем дом сотрясли шаги, и в комнату вошел Санни. Боумен почувствовал, что женщина оставила его и пошла навстречу другому.
– Вытащил я вашу машину, мистер, – произнес во тьме голос Санни. – Стоит на дороге. Готова ехать откуда приехала.
– Вот и славно! – сказал Боумен, ставя свой голос на полную громкость. – Очень вам обязан. Сам бы я не справился… Ведь я болел…
– Я ж ее запросто, – сказал Санни.
Боумен чувствовал, что они ждут в темноте, и слушал, как тяжело дышат собаки во дворе, готовясь залаять ему вслед. Его томила досада и ощущение непонятной беспомощности. Теперь, когда он мог уехать, ему больше всего на свете хотелось остаться. Что у него отнимают? Буйствующее сердце сотрясало его грудь. Эти люди лелеяли тут что-то, чего он не мог увидеть, они не допускали его к издревле обещанной пище, теплу и свету. Между ними был тайный сговор. Он вспомнил, как она пошла от него навстречу Санни, устремляясь к нему всем своим существом. Он дрожал от холода, изнемогал от усталости, это было нечестно. Смиренно и тем не менее злобно он сунул руку в карман.
– Ну конечно, я вам за все заплачу…
– Мы тут за помощь денег не берем, – резко объявил голос Санни.
– Но я хочу заплатить. Только сделайте еще кое-что… Разрешите мне остаться – на эту ночь… – Он шагнул к ним. Если бы только они могли его увидеть, они бы поняли, что он говорит правду, что это ему необходимо! Его голос продолжал: – Я еще не окреп и, наверное, даже до машины не дойду… Я ведь даже не знаю точно, где я.
Он умолк. Ему казалось, что он вот-вот расплачется. Что они о нем подумают?
Санни подошел и положил ладони ему на плечи. Потом они сноровисто и быстро скользнули по его груди и бокам. Боумен почувствовал в темноте устремленные на него глаза Санни.
– А вы не сборщик налогов, а, мистер? Пробрались сюда тишком, и вот… Пистолет у вас есть?
В эту Богом забытую глушь? Но ведь он все же сюда заехал… И Боумен без тени усмешки ответил:
– Нет.
– Ну ладно, оставайтесь.
– Санни, – сказала женщина, – надо бы занять огоньку.
– Сейчас схожу к Редмонду, – ответил Санни.
– Что-что? – Боумен напряг слух, стараясь разобрать, о чем они переговариваются.
– Огонь-то у нас погас, ну, Санни и сходит занять огоньку, а то ведь темно да и холодно.
– Но спички… у меня есть спички.
– Нам они ни к чему, – сказала она гордо. – Санни сходит за своим огнем.
– Я иду к Редмонду, – внушительно объявил Санни и ушел.
Некоторое время они ждали, а потом Боумен посмотрел в окно и увидел на холме кружок света. Кружок развернулся в маленький веер. Он зигзагами двигался через поля – быстрый и легкий, совсем не такой, как Санни… Вскоре в комнату ввалился сам Санни, держа за спиной щипцы с горящей головней. Пламя позади него плясало, озаряя все углы.
– Сейчас мы разведем огонь, – сказала женщина и взяла головню.
Потом она зажгла лампу, и стало видно, где стекло темное, а где прозрачное. Комната была теперь золотисто-желтой, точно цветок, и стены исходили запахом этого цветка и, казалось, дрожали в лад бесшумному бегу огня и трепету горящего фитиля на дне воронки из теплого света.
Женщина хлопотала над чугунками. Она хватала щипцами раскаленные угли и сыпала их на чугунные крышки. Они негромко гудели, точно дальние колокола.
Она оглянулась на Боумена, но он не смог произнести ни слова. Его била дрожь.
– Выпить хотите, мистер? – спросил Санни.
Он принес стул из соседней комнаты и теперь сидел на нем верхом, опираясь локтями о спинку.
«Вот сейчас мы все видим друг друга», – подумал Боумен и воскликнул:
– Спасибо, сэр! И очень даже!
– Ну так идите за мной и делайте, как я, – сказал Санни.
Еще одно вторжение в темноту. Они вышли на задний двор, миновали сарай, колодец под навесом и уперлись в густые кусты.
– На колени, – сказал Санни.
– Что-что? – Его лоб покрылся испариной.
Но тут же он понял. Санни на четвереньках нырнул в дыру под сомкнутыми ветками. Он пополз за ним, невольно вздрагивая всякий раз, когда к нему ласково, беззвучно прикасалась веточка или колючка, зецеплялась, а потом отпускала.
Санни остановился, скорчился и начал обеими руками разгребать землю. Боумен робко чиркнул спичкой и посветил ему. Минуты через две Санни выдернул из земли кувшин. Он отлил виски в бутылку, которую вынул из кармана, а кувшин снова закопал.
– Неизвестно ведь, кто к тебе постучится, – сказал он и засмеялся. – Давайте-ка назад, – добавил он почти церемонно. – Не свиньи же мы, чтоб пить на улице.
Сидя друг против друга за столом у топящегося очага, Санни и Боумен по очереди отхлебывали из бутылки.
Собаки спали. Одной из них что-то снилось.
– Отлично! – сказал Боумен. – Это мне и требовалось.
Он словно пил огонь из очага.
– Санни сам его гонит, – с тихой гордостью сказала женщина.
Она сгребла угли с чугунков, и по комнате разлился запах кукурузного хлеба и кофе. Она поставила еду перед мужчинами. В одну из картофелин, обнажая ее золотистое нутро, был воткнут нож с костяной ручкой. Женщина немного постояла, глядя на них, высокая и дородная. Потом наклонилась к ним.
– А теперь кушайте, – сказала она и внезапно улыбнулась.
Боумен как раз смотрел на нее. И поставил чашку на стол, не веря, не желая верить. В глаза ударила боль. Он увидел, что она вовсе не старуха. Она была молодой, все еще молодой. Но он не стал прикидывать, сколько ей лет. Она была одного возраста с Санни и принадлежала ему. Позади нее в углу комнаты густел мрак, зыбкие отблески желтого света скользили по ее голове, по серому балахону и затрепетали над ее высокой фигурой, когда она нагнулась к ним, и он понял все. Она была молода. Ее зубы сверкали, глаза сияли. Она повернулась и вышла из комнаты, ступая неторопливо и тяжело. Он услышал, как она села на кровать, а потом легла. Лоскутный узор сдвинулся.
– Ребенка ждет, – сказал Санни, откусывая хлеб.
Боумен не мог говорить. Так вот что скрывал этот дом! Он был ошеломлен. Супружеская жизнь. Плодоносная супружеская жизнь. Так просто. Доступно всем.
Почему-то он не досадовал, не возмущался, хотя с ним, несомненно, сыграли какую-то шутку. Этот дом не прятал ничего таинственного и непостижимого, но то, что в нем было, посторонних не касалось. Все тайное исчерпывалось древней близостью между двумя людьми. Но он помнил, как женщина безмолвно ждала у холодного очага, как мужчина упрямо прошагал за огнем целую милю, как они поставили на стол еду и питье, с гордостью показывая все, что у них есть, – в этом была такая ясность и громадность, что он не находил в себе отклика…
– А вы на вид поголодней были, – сказал Санни.
Когда мужчины отужинали, женщина вышла из спальни и поела сама, а ее муж благодушно смотрел на огонь.
Потом они выгнали собак во двор и отнесли им всю оставшуюся еду.
– Я, пожалуй, лягу тут у огня, на полу, – сказал Боумен.
Он чувствовал, что его обманули, и он получил право быть великодушным. Хоть он и болен, а их постели он не попросит. Теперь, все поняв, он не станет принимать одолжений в этом доме.
– Само собой, мистер.
И оказалось, что он все-таки не сумел понять до конца. Они и не собирались уступать ему свою постель. Немного погодя оба они встали и, невозмутимо поглядев на него, ушли в комнату напротив.
Он лежал, вытянувшись, у очага и смотрел, как угасает огонь. Он следил, как один огненный язычок за другим взметывается в последний раз и исчезает. И вдруг заметил, что снова и снова тихо бормочет:
– В январе вся обувь будет продаваться по сниженным ценам…
Он крепко сжал губы. Сколько звуков в этой ночи! Он слышал журчание ручья, потрескивание гаснущего огня и уже не сомневался, что слышит теперь свое сердце, его удары под ребрами. Он слышал ровное глубокое дыхание мужа и жены в комнате напротив. Это было все. Но в его душе незаметно нарастало какое-то чувство, и он жалел, что этот ребенок – не его.
Надо вернуться туда, где он бывал раньше. Пошатываясь от слабости, он выпрямился над редеющими углями и надел пальто. Оно придавило его плечи. Уже выходя, он оглянулся и увидел, что женщина так и не протерла лампу. Неожиданно для себя он сунул все деньги, какие были в его бумажнике, под ее ребристый стеклянный резервуар. Это получилось хвастливо.
Ему стало стыдно. Он пожал плечами, поежился, взял чемоданы и вышел. Холодный воздух словно поднял его над землей. По небу плыла луна.
Выйдя на склон, он побежал. Он ничего не мог с собой поделать. Когда он выбрался на дорогу, где в лунном свете, точно лодка у причала, ждала машина, его сердце начало оглушительно стрелять – бам, бам, бам!
Он испуганно осел на дорогу, уронив чемоданы. Ему казалось, что все это уже было прежде. Обеими руками он зажимал сердце, опасаясь, что кто-нибудь услышит его грохот.
Но никто не услышал.
Перевод. И. Гуровой
Хоженой тропой
Раннее декабрьское утро – ясное, морозное. По глухой лесной тропе, петляющей среди сосен, бредет старушка негритянка в красной косынке на голове. Зовут ее Феникс Джексон. Старенькая, согбенная, бредет потихоньку в тени сосен, покачиваясь из стороны в сторону, точно маятник больших старинных часов. В руке у нее тонкая тросточка – палка от старого зонта, и она постукивает ею перед собой по мерзлой земле. Чирк-тук-чирк – слышится в тихом лесу, точно завела спозаранку песню, жалуется на что-то одинокая птичка.
На старушке темное полосатое платье, длинное, до самых ботинок, и такой же длинный фартук, сшитый из отбеленных мешков из-под сахара, с большим карманом, – все очень чистое и аккуратное, только ботинки не завязаны, и шнурки тянутся по земле, того и гляди упадет. Смотрит Феникс прямо перед собой. Глаза у нее от старости поголубели. На лбу протянулись несчетные веточки морщин, словно целое деревце выросло с переносицы, но под ним просвечивает золотистая кожа, и темные кругляшечки ее щек отливают желтизной. Из-под красной косынки выбиваются легкие и все еще черные завитки с медным оттенком.
В кустах то и дело что-то шуршало и подрагивало. Старая Феникс шла и приговаривала: «Лисы, совы, жуки, зайцы, еноты и всякое там что ни есть зверье – прочь с дороги! Не суйтесь мне под ноги, куропаточки! Держитесь подальше, злые страшные кабаны. Не бегите в мою сторону! Мне еще так далеко идти». И гибкая, точно хлыст, трость в ее руке, покрытой темными пятнышками, нет-нет да и проходилась по кустам – попробуй, мол, только кто спрятаться от меня.
Шла она и шла. Лес стоял тихий, сумрачный. А в вышине, там, где ветер раскачивал кроны сосен, иглы светились под солнцем так ярко, что на них невозможно было смотреть. И легкие, точно перышки, выскакивали откуда-то еноты. А в лощине ворковал голубь – самое время ему было поворковать.
Тропа пошла в гору.
– Ну что ты будешь делать – как подступлю к этой горе, что цепями тебе ноги обмотает, – сказала вслух Феникс, точно сама себя в чем-то убеждала, как часто делают старики. – Так и хватает кто-то за ноги, так и хватает – стой, мол, не ходи дальше!
Поднявшись на взгорок, Феникс обернулась и сердито поглядела вниз, откуда пришла.
– Мимо сосен вверх, – проговорила она наконец, – а теперича вдоль дубков да вниз.
И, глядя во все глаза, осторожно двинулась вниз. Но до самого низа не дошла – какой-то куст вцепился ей в юбку.
Пальцы ее быстро заработали, но юбка была длинная, широкая, и едва она отцепляла одну колючку, как сейчас же цепляла другая. Не приведи Господь порвать юбку!
– Угораздило меня влезть в терновник! – сокрушалась Феникс. Уж вы, колючки, свое дело знаете. Разве кого пропустите, как же, жди! А мои-то старые глаза не разглядели, я-то думала, вон стоит такой маленький зеленый кустик…
Наконец она высвободилась, вся дрожа, и, чуть передохнув, нагнулась за своей тростью.
– Солнце-то как высоко! – воскликнула она, выпрямившись, и глаза у нее заслезились. – Небось засветло и не дойду.
Под горкой тек ручей, а через него было перекинуто бревно.
– Вот она где, смертушка, меня поджидает! – сказала Феникс.
Она подняла правую ногу, встала на бревно и зажмурилась. Одной рукой она подхватила подол, а другую, с тростью, вытянула вперед и, размахивая ею, как тамбурмажор на параде, двинулась вперед. Потом открыла глаза – слава Богу, она была на другой стороне ручья!
– Не такая уж я, выходит, и старая, – сказала она.
Однако села передохнуть. Раскинула вокруг себя подол юбки, сложила на коленях руки. Над ней жемчужным облаком нависла омела. Глаза она закрыть не решалась, и, когда какой-то малыш поднес ей на тарелке кусок слоеного пирога, она с ним заговорила.
– Вот спасибо-то, в самое время, – поблагодарила она. И хотела взять кусок, но рука ее повисла в воздухе – пирог исчез.
Феникс вышла из-под дерева, и тут ей пришлось пролезать под изгородью из колючей проволоки. Надо было встать на колени, вытянуть вперед руки и ползти, цепляясь за землю пальцами, как младенец, который пытается вскарабкаться по ступенькам. Но она громко твердила самой себе: нельзя, никак нельзя ей порвать платье, потому что другого уже не сшить, и нет у нее денег заплатить, чтобы отпилили ей руку или ногу, если она тут напорется на шипы.
Но она благополучно пролезла под изгородью и поднялась на краю убранного хлопкового поля. Посреди пурпурной стерни стояли большие высохшие деревья, точно однорукие негры. На одном сидел канюк.
– Ну, чего пялишься? – прикрикнула на него Феникс и пошла вперед по борозде.
– Хорошо, быки об эту пору в загонах, – бормотала она, поглядывая по сторонам, – и Господь милостив и определил всем своим змеям зимой свернуться в клубок и спать. И слава те Господи, нет вон на том дереве двуглавой змеи, а ведь вилась она по стволу, своими глазами видела, когда проходила тут летом. И как только меня тогда мимо этого дерева пронесло!
Кончилось убранное хлопковое поле, потянулось убранное поле кукурузы. Сухие стебли шептались и качались над ее головой.
– Ну, пойду я теперича плутать, – сказала Феникс, потому что не было через поле тропы.
И тут явилось перед ней что-то высокое, худое и черное.
Ей показалось – человек. Может, решил кто поплясать на раздолье? Она стояла, не двигаясь, и прислушивалась. Ни звука. Этот Черный молчал, как привидение.
– Эй ты, привидение! – громко крикнула она. – Это чей же ты дух, а? Не слыхала я, чтобы кто-то в здешних местах помер.
Не ответил ей лохматый, знай, пляшет на ветру.
Крепко зажмурившись, Феникс протянула руку и дотронулась до его рукава. Нащупала пиджак – внутри была пустота, холодная, как лед.
– Пугало! – сказала она. И лицо ее просветлело. – Видать, пришла мне пора отправляться на тот свет, – со смехом продолжала она. – Ничего-то я не вижу, ничего-то не слышу. Совсем старая стала. Я таких стариков и не встречала. Пляши, чучело несуразное, а то давай попляшем вместе!
Феникс дрыгнула ногой, нижняя губа у нее чуть отвисла, и она с важным видом качнула туда-сюда головой. Сухая шелуха закружилась струйками вокруг ее подола.
И побрела дальше сквозь шепчущиеся стебли кукурузы, раздвигая их своей тростью. Добрела до конца поля, до проселка, где между красными колеями серебрилась под ветерком трава. А вокруг, ни на что не обращая внимания, словно они невидимки, разгуливали грациозные куропаточки.
– Надо мне поспешать, – сказала Феникс. – Дорога теперь пошла ровная. Знай себе шагай.
И она пошла по дороге, протянувшейся через тихие голые поля, через рощицы, серебрящиеся в увядшей листве, мимо хижин, отбеленных солнцем и непогодой, с заколоченными дверями и окнами – точно сели рядком вдоль дороги старушки подремать.
– Ну и пусть себе спят, а я мимо пройду, – сказала Феникс, решительно мотнув головой.
В лощине тихо струился из полого бревна родник. Старушка нагнулась и попила.
– Амбровое дерево воду сластит, – сказала она и попила еще. – Знать бы, кто обустроил этот родничок, – я еще не родилась, а он уж тут был!
Проселок спустился в болотистую низину, с каждой ветки здесь белым кружевом свисал мох.
– Спите крепко, крокодилы, – шла и приговаривала Феникс, – спите, спите да пускайте себе пузыри.
Немного дальше проселок влился в большую дорогу, и она пошла вниз, вниз меж двух высоких зеленых откосов. Наверху смыкали ветви вечнозеленые дубы, и было тут темно, как в пещере.
У канавы из высокой травы выскочил черный пес, язык у него свисал чуть не до самой земли. А Феникс шла и думала о чем-то своем и совсем не была готова к такой встрече, и, когда пес подбежал к ней, она только легонько ткнула его своей тростью. И пошла дальше, точно травинка закачалась на ветру.
Но тут, в низине, на нее нашло словно бы забытье. И было ей видение, и она подняла руку, только ни до чего не дотянулась, и рука упала вниз и потянула ее за собой. И теперь она лежала на дороге и рассуждала сама с собой.
– Он тебя попутать хотел, этот черный пес, – говорила Феникс, – выскочил на тебя, старую, из травы, а теперь сидит, хвост кренделем свернул да еще лыбится.
Лежала она лежала, покуда не появился на дороге белый человек, охотник, совсем еще молодой парень, с собакой на поводке, и наткнулся на нее.
– Чего это ты тут лежишь, бабуля? – со смехом спросил он.
– Опрокинулась вот на спину, мистер, как июньский жук, да жду, кто меня поднимет, – ответила она, протягивая ему руку.
Он поднял ее, качнул в воздухе и поставил на землю.
– Чего-нибудь сломала, бабуля?
– Нет, мистер, хоть и стар бурьян, да крепок, – сказала Феникс, переведя дух. – Вы уж меня извиняйте за беспокойство.
– Где ж ты, бабуля, живешь? – спросил он, а псы тем временем рычали друг на друга.
– Далече, мистер, за горой. Отсюда и не видать.
– Домой путь держишь?
– Да нет, мистер, в город.
– В такую даль! Я и то туда пешком не хожу, если только дело важное есть. – И он похлопал по своей набитой охотничьей сумке; из нее свисала скрюченная лапка куропатки, клюв ее горько изогнулся, свидетельствуя о том, что птица мертва. – Шла бы ты домой, бабуля.
– Да в город мне надобно, мистер, – сказала Феникс. – Срок пришел.
Тут охотник опять засмеялся, так громко, что все зазвенело вокруг.
– Знаем мы вас, цветных! Уж вы не упустите случая поглазеть на Санта-Клауса!
Но Феникс вдруг замерла. Глубокие борозды морщин разбежались во все стороны по ее лицу и словно закаменели – прямо у нее на глазах из кармана охотника выскользнула и упала на землю блестящая монетка. А он все расспрашивал ее.
– Сколько же тебе лет, бабуля?
– Да разве их сочтешь, мистер! – отвечала Феникс.
И вдруг она громко вскрикнула и захлопала в ладоши.
– Пшел отсюда, пес! Нет, вы только гляньте! – Феникс засмеялась, будто пришла в восторг от этого пса. – Ишь какой, никого не боится. Образина черная! – И шепнула: – Шуганите его!
– А ну пошел отсюда! – крикнул охотник. – Ату его, Пит! Ату!
Собаки понеслись друг за дружкой, а охотник за ними. Он швырял в них сучьями, и Феникс даже услышала выстрел. Но она в это время уже начала клониться вперед, все ниже и ниже, и веки у нее опустились, как будто она наклонялась во сне, а подбородок чуть не уткнулся в колени. И рука выскользнула из складки фартука желтой ладошкой кверху. Пальцы скользнули по земле к монетке так легко и бережно, точно она вынимала яйцо из-под курицы. Потом она медленно выпрямилась – монетка уже была у нее в кармане. Над ее головой пролетела какая-то птичка. Губы Феникс зашевелились.
– А Господь Бог – он ведь все видит. До воровства я дошла!
Охотник возвратился, его пес, тяжело дыша, бежал с ним рядом.
– Пугнул я его, теперь близко не подойдет, – сказал он, потом засмеялся, вскинул ружье и нацелил на Феникс.
Она, не дрогнув, посмотрела ему в глаза.
– И ружья не боишься? – не отводя дула, спросил он.
– Нет, мистер. В меня и ближе целились, хоть и вовсе без всякой причины, – сказала она, все так же не шевельнувшись.
Он улыбнулся и вскинул ружье на плечо.
– Ладно, бабуля, – сказал он, – тебе небось уже за сотню перевалило, тебя ничем не испугаешь. Дал бы я тебе десять центов, да вот, жаль, деньжат с собой не прихватил. А совета моего послушай: сиди дома, тогда ничего с тобой не случится.
– В город мне надобно, мистер, – сказала Феникс. И склонила голову в красной косынке.
Они разошлись в разные стороны, и она еще долго слышала выстрелы за пригорком.
Феникс шла. Дубы откинули на дорогу тени – точно занавесями завесили. Вот потянуло дымком, запахло рекой, и она увидела колокольню, домишки с высокими крылечками. Вокруг нее закружила стайка черных ребятишек. Впереди сиял Натчез. Трезвонили колокола. Она шла.
На мощеные улицы города пришло Рождество. Повсюду висели гирлянды из красных и зеленых лампочек, и все они горели хотя был день. Потерялась бы тут Феникс, заблудилась, да только глаза ее вели и ноги сами несли куда надо.
Она остановилась на краю тротуара, по которому шли люди. К ней приближалась дама с красными, зелеными, серебряными свертками в руках, источая аромат, точно пунцовая роза в жаркий летний день. Феникс остановила ее.
– Прошу вас, мэм, завяжите мне, пожалуйста, ботинок, – сказала Феникс и подняла ногу.
– Чего тебе, бабуся?
– Да вот, ботинок, – сказала Феникс. – В нашей глуши оно и так сгодится, но как же я в таком виде войду в большой дом.
– Стой и не шевелись, бабуся, – сказала дама. Она сложила рождественские подарки на тротуар и затянула и туго завязала шнурки на обоих ботинках.
– Палкой-то мне никак с ними не управиться, – сказала Феникс. – Спасибо вам, мэм. Я как приду на эту улицу, завсегда прошу добрую леди завязать мне шнурки.
Припадая на обе ноги, она осторожно вошла в большой дом, ступила на подножье высокой башни из ступенек и стала взбираться все выше и выше, пока ее ноги сами не остановились, потому что они знали, где им остановиться.
Она вошла в дверь и увидела на стене документ с золотой печатью и в золотой рамке – в точности такой, какой и представлялся ей, когда она об этом думала.
– Ну вот и дошла я, – сказала Феникс и торжественно застыла у двери.
– Похоже, по части благотворительности? – сказала сидевшая перед ней за столом дежурная.
Но Феникс ничего ей не ответила, только смотрела куда-то поверх ее головы. Лицо у нее вспотело, и морщины заблестели на нем, точно густая металлическая сетка.
– Говори, бабушка, – попросила дежурная. – Как тебя зовут? Нам ведь нужно узнать, что у тебя за дело. Ты здесь раньше бывала? Что с тобой приключилось?
Лицо у старой Феникс дернулось, точно ей докучала муха.
– Глухая ты, что ли? – повысила голос дежурная.
Но тут в комнату вошла медицинская сестра.
– А, это тетушка Феникс! – сказала она. – Она не ради себя ходит – у нее внук есть. Приходит точно в срок, никогда не пропускает. А живет чуть не на краю света, за старой дорогой. – Сестра наклонилась к Феникс. – Да садись ты, тетушка Феникс, чего стоишь. Столько отшагала. – И она показала Феникс на стул.
Старушка села и снова застыла.
– А теперь рассказывай, как внук, – сказала сестра.
Феникс молчала.
– Как внук-то, спрашиваю?
Но Феникс все так же молча смотрела прямо перед собой, и лицо у нее было очень серьезное и строгое.
– Как у него с горлом-то? – спросила сестра. – Ты меня слышишь, тетушка Феникс? Получше у него стало с горлом после того, как ты последний раз приходила сюда за лекарством?
Крепко сцепив руки на коленях, старушка молча ждала – выпрямившись, недвижимая, точно закованная в броню.
– Ты отнимаешь у нас время, – сказала сестра. – Рассказывай-ка побыстрее, как там твой внук, у нас других дел полно. Надеюсь, он не умер?
Наконец-то в глазах у Феникс затеплились искорки, лицо ее ожило, и она заговорила:
– Внучек мой… Вроде бы на меня затмение нашло. Сижу вот и думаю: а зачем это я так долго шла? Совсем забыла…
– Забыла? – Сестра нахмурилась. – Столько прошла и забыла?
Лицо у Феникс стало виноватое, как бывает у старушек, что проснутся вдруг ночью, испугавшись неведомо чего.
– В школе-то я не училась; когда свобода пришла, мне уже много годов было, – тихо сказала она. – Необразованная я старуха. Вот и подвела меня память. А внучек мой – ему не лучше, нет, только, покуда я шла, я про него забыла.
– Значит, горло у него не зажило? – громким, настойчивым голосом спросила сестра. Но теперь в руке у нее была карточка, там что-то было написано. – Так… Глотнул щелоку. Когда же это случилось? В январе… два, нет, три года назад…
Теперь Феникс заговорила сама, хотя сестра ни о чем больше не спрашивала:
– Нет, мэм, не помер он, только все такой же. Горло у него опять заплывать стало, и глотать он опять не может. И дышать тоже. Ничего не может. Вот и подошло время опять мне идти за лекарством.
– Ясно. Доктор сказал: пока будешь приходить, будем тебе давать лекарство, – сказала сестра. – Только вот вылечить твоего внука нелегко.
– А он меня ждет, внучек-то мой. Сидит дома один-одинешенек и ждет, – продолжала Феникс. – Нас с ним только двое осталось. Очень ему плохо, никак не лучшает. А сам такой милый. И уж терпеливый какой! Завернулся в одеяло и выглядывает оттуда, а ротик открыт, как у птички. Теперь я все вспомнила – так и стоит он у меня перед глазами! Больше я уж про него никогда не забуду, до самой своей смерти не забуду. Сколько ни есть людей на свете, из всех его отличу.
– Ну и хорошо, и хорошо. – Теперь сестра старалась ее утихомирить. Она принесла бутылку с лекарством. – Бесплатно, – сказала она, делая пометку в журнале.
Старая Феникс поднесла бутылку к глазам, потом осторожно опустила в карман.
– Спасибо вам, – сказала она.
– Сегодня Рождество, бабушка, – сказала дежурная за столом. – Хочешь, я подарю тебе несколько пенсов?
– Пять пенсов – целый никель, – напрягшимся голосом сказала Феникс.
– Вот тебе никель, – сказала дежурная.
Феникс осторожно поднялась со стула и протянула руку. Она взяла монету, выудила из своего кармана другую, положила на ладонь рядом с первой и, склонив голову набок, стала их внимательно разглядывать. Потом стукнула тростью об пол.
– Знаю я, что сделаю, – сказала она. – Пойду сейчас в лавку и куплю своему внучку маленькую мельницу – там такие продаются, из бумаги сделаны. Он и не поверит, что такое на свете бывает! И обратно пойду – он ведь меня ждет не дождется. А мельницу вот в этой руке понесу.
Она подняла левую руку, слегка кивнула им, повернулась и вышла из докторского кабинета. С лестницы послышались ее медленные шаги.
Перевод И. Архангельской







