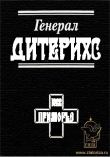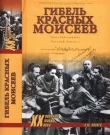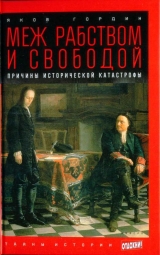
Текст книги "Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы"
Автор книги: Яков Гордин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
Сам Петр придавал принципиальное значение поведению окружающих во время этой болезни. Да и не только он. Кикин говорил Алексею, что отец его вовсе не болен, а только притворяется, чтоб проверить верность соратников. В вопросные пункты, врученные воротившемуся царевичу 4 февраля 1718 года, пунктом вторым Петр недаром включил следующий: "В тяжкую мою болезнь в Питербурхе не было ль от кого каких слов, для забежания к тебе, ежели б я скончался?" Царевич ответил на него отрицательно. На самом же деле попытка Долгорукого выступить благодетелем царевича и тем привязать его к себе предпринята была именно во время этой "тяжкой болезни".
Очевидно, князь то ли верил в смертельный исход царского недуга, то ли – что вероятнее – рассчитывал, что после длительного периода болезни подробности его маневров перестанут быть актуальными и забудутся, а результат – "я тебя у отца с плахи снял", то есть спас от казни – останется.
Здоровье Петра в это время уже сильно пошатнулось, и ясно было, что он недолговечен. В этот ли раз, в следующий ли, но болезнь сломит царя. Естественный наследник – Алексей. Даже в случае пострига он, как некогда Филарет, отец Михаила Романова, имеет все шансы стать регентом-правителем при своем малолетнем сыне.
Именно поэтому Долгорукий был отнюдь не одинок в своих "забежаниях" к наследнику. Посте трехмесячной болезни царя в зиму 1715/16 года надежды на скорую его смерть лишили многих привычной осторожности и выявили истинные симпатии.
Алексей показал: "Слышал я от Сибирского царевича, что "говорил-де Михайло Самарин, что-де скоро у нас перемена будет; а что-де Самарин говорит, то сбывается", сказал Сибирский; а какая перемена, не явил". Это было, судя по логике рассказа, в начале 1716 года, ибо далее Алексей пишет: "Еще же мне он сказал в марте месяце 1716 года: "В апреле месяце в первом числе будет переме-на". И я стал спрашивать: что? И он сказал: "Или-де отец умрет, или разорится Питербурх: я-де во сне видел"".
Именно в это время многие в окружении царя жили, напряженно ожидая перемен, мечтая о переменах. И не случайно – в это время. Это был не только период ухудшения государева здоровья, но и канун решающих реформ – церковной реформы и, главное, податной реформы. Это было время, когда, после решительного перелома в войне, Петр принялся за внутренние дела и ясно стало, что совсем скоро страна будет намертво схвачена железной системой, подавляющей всех и вся. Именно в это время выявился вектор реформ.
Нет ни малейших указаний на то, что хоть кто-нибудь замышлял насильственное устранение царя. Страх перед ним, его авторитет, несмотря на неприязнь и ненависть, были слишком велики. Верность царю его гвардии делала любой "регулярный" заговор авантюрой. Ясно было, что убийство царя приведет прежде всего к истреблению заговорщиков. Героических самоубийц в окружении Петра не было. Надеяться оставалось только на естественную смерть деспота-реформатора. И здесь нетерпение было так велико, что толкало на безрассудные поступки.
Алексей исповедовался отцу: "После твоей болезни, приехав из Англии, Семен Нарышкин ко мне в дом, а с ним Павел Ягужинский или Алексей Макаров, не упомню[23]23
Царевич «не упомнит» конкретный случай, но ясно, что у него бывали и вели откровенные разговоры – оба.
[Закрыть], кто из них двух один, а кто подлинно, сказать не упомню, и разговаривая о наследствах тамошних, и Семен стал говорить: «У Прусского-де короля дядья отставлены, а племянник на престоле, для того, что большого брата сын». И на меня глядя, молвил: «Видь-де мимо тебя брату отдал престол отец дурно». И я ему молвил: «У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы». И он сказал: «Это-де неведомо, что будет; будет так сделается, во всем-де свете сего не водится»".
Зерно этого многозначительного разговора – фраза чрезвычайной значимости: "У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы". Речь идет не о дурном характере Петра, но о форме правления. О самодержавии. Частный случай – нарушение порядка престолонаследования – естественно трактовался как порок самодержавной системы.
Этот мотив – осуждение самодержавия как института – возникает в течение следствия не единожды. Так, 12 мая от царевича потребовали подтвердить такое на него показание: "Царевич говаривал: два-де человека на свете как Боги: папа Римский да царь Московский; как хотят, так делают". Царевич подтвердил. В этой связи весьма многозначительны имена двоих собеседников – Ягужинский или Макаров.
Павел Ягужинский – генерал-прокурор Сената, "новый человек" из простолюдинов, всем обязанный Петру, один из ближайших к нему в последние годы людей.
Алексей Макаров – кабинет-секретарь Петра, его правая рука.
Кто бы из них ни участвовал в этом криминальном заговоре – суть дела не меняется. Идея несправедливости самодержавия жила уже в головах ближайших к царю лиц.
Можно было бы усомниться в правдивости показания Алексея, если бы мы не знали дальнейшего. В 1730 году, когда появилась возможность форму правления изменить, упразднив или ограничив самодержавие, оба – и Ягужинский, и Макаров – проявили себя вполне определенно. Как уже говорилось, в решающие часы Ягужинский высказался без обиняков: "Долго ли нам терпеть, что нам головы секут; теперь время, чтоб самодержавию не быть!"
Макаров в те же дни принял участие в составлении конституционных проектов.
Сетования благополучного Ягужинского, взлетевшего именно при самодержавии – и благодаря ему! – на самые верхи власти, – свидетельство кризиса системы. Самодержавный произвол, полная личная незащищенность пугали его не меньше, чем проштрафившегося и пострадавшего еще до "дела Алексея" Кикина.
Но еще более красноречиво реагировал на это мучительное чувство личной незащищенности, на тягостное ощущение неправильности хода жизни другой счастливец и удачник – князь Василий Владимирович Долгорукий.
В первый день следствия, еще не испытывая никакого давления, отвечая на вопросные пункты от 4 февраля, Алексей неожиданно в самом конце ответов сообщил нечто, о чем его вовсе не спрашивали: "Будучи при Штети-не, князь Василий Долгорукий, едучи верхом, со мною говорил: "Кабы-де на Государев жестокий нрав да не царица, нам бы-де жить нельзя: я бы-де в Штетине первый изменил"".
Чрезвычайно важно, что это показание идет сразу – хотя и без видимой связи – после пересказа крамольного разговора с Нарышкиным, Ягужинским или Макаровым. В голове Алексея и заявление Долгорукого, и сетования остальных складываются в единое явление: тяжкое недовольство "больших персон" своим положением и положением в стране. Придумать фразу Долгорукого Алексей не мог в силу ее парадоксальности – Долгорукий говорит как о единственной защите от самодурства Петра о мачехе царевича. Говорит это Алексею, зная о его отношении к мачехе. Гордый своей родовитостью Рюрикович вынужденно признает над собой покровительство пасторской служанки, простолюдинки, которую наверняка втайне презирал.
Ситуация, если вдуматься, потрясающая – один из столпов армии и режима вообще, человек, которому царь доверяет безоговорочно, декларирует свою готовность к измене! Каково же должно быть его душевное состояние и степень его недовольства!
Этот разговор происходил в 1713 году. И уже тогда генерал ведет его с наследником как с политическим единомышленником. И пусть это заявление – только вспышка и лавры князя Курбского князя Долгорукого не прельщали, но оно свидетельствует о драматичности процессов, происходивших в петровском окружении.
Если для Кикина, наказанного и отринутого царем, нестерпимость положения заключалась еще и в "тесноте уму" – скованности действий энергичного талантливого "дельца", в постоянном ощущении жесткой системы-клетки, в пределах которой и должны были существовать все, кроме ее создателя, то у высокородного Долгорукого к этому добавлялось еще и обостренное ожидание оскорбления, унижения достоинства. И полная невозможность свое достоинство защитить.
Разумеется, князь Василий Владимирович, как и умный Кикин, понимал, что дело не просто в "государевом жестоком нраве". Характер царя – игра судьбы и случая. Суть в том, что самодержец не имеет пределов своей власти и, соответственно, своего произвола. "У нас он волен, что хочет, то и делает; у нас не их нравы".
М. А. Фонвизин писал об этих настроениях в петровском окружении конца царствования:
Одни из них, любители старины времени допетровского, желали ее восстановления, другие же из молодого поколения, более образованные и осмысленные знакомством с Европой, тяготились уже самодержавием и замышляли ограничить его собранием государственных чинов и сенатом[24]24
Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2. С. 117.
[Закрыть].
Фонвизин ошибается относительно возраста. Как мы увидим, идеолог конституционалистов – князь Дмитрий Михайлович Голицын – был немолод. Но в принципе историк-декабрист совершенно прав. И к этим «другим» относились и Кикин, и Василий Долгорукий, и Ягужинский, и Макаров, и еще многие, ревностно служившие самодержавию, но мечтавшие о его уничтожении.
Ближайшие к Петру люди с надеждой примеряли на российский государственный быт "их нравы" – конституционные ограничения верховной власти.
Зная роль князя Василия Владимировича в конституционном порыве 1730 года, мы вправе предположить, что его стремление привязать к себе наследника сопряжено было с туманными, быть может, планами изменения системы власти.
Таким образом, уже на первом этапе следствия по делу царевича выявилась глубокая и драматическая подоплека его нелепого, на первый взгляд, бунта. Не дурное воспитание, не нашептывание "больших бород", а силовое напряжение исторического поля двигало безвольным царевичем в этот переломный период. А на втором этапе следствия царю пришлось услышать в пыточном подвале вещи для него убийственные.
Розыск по делу царевича выявил такое неблагополучие, такое напряжение вокруг реформатора, что, не обладай он неколебимым самодержавным сознанием, он должен был задуматься об изменении или хотя бы корректировке курса. Но Петр – при всех его талантах и страсти к преобразованиям – на глубине, там, где формируются фундаментальные решения, оставался старомосковским деспотом. И потому, свирепо расправившись с оппозицией и не пожелав извлечь из происшедшего уроков, он пошел той же дорогой с обычной своей решительностью. Но это была уже решимость отчаяния, быть может им самим не в полную меру сознаваемая.
Тонкий исторический психолог Ключевский писал:
Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и от сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе и не находил для престола надежного лица, а для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, земский собор, а вместе и сама воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью…[25]25
Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. М., 1989. Т. 4. С. 238.
[Закрыть]
Ключевский не сказал только, что так точно нарисованная им душевная и политическая трагедия Петра предопределена была выбором модели империи и, соответственно, методами ее построения…
Первый – московский – и второй – петербургский – этапы следствия существенно отличались друг от друга. Но между ними возник, наслоившись на московский этап, и на несколько недель заслонил все своей необъяснимой жестокостью суздальский эпизод, важный для нас не политически, но психологически.
Рассказывая о следствии по делу царевича, Пушкин со свойственной ему лаконичной энергией изложил суздальскую драму:
В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву вместе с монахинями, с ростовским епископом Доси-феем и с казначеем монастыря, с генерал-майором Глебовым, с протопопом Пустынным. Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епископ Досифей в лживых пророчествах, в потворствах к распутной жизни царицы и проч.
15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин, казначей Вяземский[26]26
Ошибка Пушкина – Вяземский был оправдан.
[Закрыть].
Баклановский и несколько монахинь высечены кнутом.
Царевна Мария заключена в Шлиссельбург.
Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу.
Петр хвастал своей жестокостью. "Когда огонь найдет солому, – говорил он поздравлявшим его, – то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает"[27]27
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. T. 9. С. 390.
[Закрыть].
В этот сухой конспект Пушкин, со свойственным ему гениальным чутьем, включил живую деталь, которая, собственно, и есть смысловое зерно сюжета, – «Петр хвастал своею жестокостью…».
Суздальское дело, само по себе второстепенное, ибо никто из участников не имел сколько-нибудь значительного политического влияния и опасности не представлял, важно было Петру в двух отношениях. Во-первых, он во что бы то ни стало хотел вывести на первый план "большие бороды". Вся серьезность ситуации еще не была ясна ему, но заговорщицкая энергия Кикина, замешанность – что, конечно же, было для царя потрясением – генерала Долгорукого, круг конфидентов Кикина, судя по найденным у него шифрам. – все это требовало, кроме расправы, еще и умного политического маневра. И для мнения народного, а также и международного Петр выдвигал на первый план постриженную царицу, Досифея, монахов и монахинь. Кикин, к тому времени уже выпотрошенный костоломами и сказавший все, что мог или хотел сказать, был сознательно казнен вместе с теми, к кому прямого отношения не имел, – "новый человек", адмиралтеец, недавний любимец царя спрятан был среди "больших бород" и несчастного любовника монахини-царицы.
Во-вторых, что не менее существенно, в канун второго этапа розыска, который должен был начаться с прибытием Ефросиньи, Петр решил продемонстрировать беспредельную жестокость.
Досифей, обвиненный и признавшийся под пыткой в том, что предрекал скорую смерть царя, сказал архиереям, собравшимся, чтоб расстричь его: "Только я один в сем деле попался. Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят?" Он был колесован.
Капитана Глебова (Пушкин ошибочно назвал его генерал-майором) удалось уличить только в одном – в блуде с монахиней-царицей. И за это отнюдь не политическое преступление он предан был страшной казни – посажен на кол.
Смерть Кикина была ужасающа. Колесованный, как и Досифей, с раздробленными руками и ногами, он медленно умирал на колесе. Он умолял Петра, подъехавшего взглянуть на мучения своих врагов, отпустить его умереть в монастырь. Петр приказал отрубить ему голову, чтоб прекратить мучения…
Это была прелюдия к главному этапу розыска. При всей ненависти бывшей царицы и ее круга к Петру и реформам, расправа с ее окружением была отнюдь не адекватна опасности. Это была чудовищная акция устрашения.
В нашу задачу не входит воспроизводить здесь картину и ход следствия. Нам важен только один аспект показаний царевича и его соучастников.
Но прежде чем перейти к содержательной стороне дела, надо представить себе ее, так сказать, технологическую сторону и понять, насколько сведения, полученные следствием, соответствовали реальности. Многие важные для нас, да и для Петра, сведения следователи получили от Алексея под пыткой.
Как это делалось?
Уже известный нам Берхгольц с восторженной объективностью этнографа-любителя описывает процесс получения показаний от запирающихся подозреваемых: "Он (князь Гагарин. – Я. Г.) не хотел признаваться в своих проступках и потому несколько раз был жестоко наказываем кнутом. Кнут есть род плети, состоящий из короткой палки и очень длинного ремня. Преступнику обыкновенно связывают руки назад и поднимают его кверху, так что они придутся над головою и вовсе выйдут из суставов; после этого палач берет кнут в обе руки, отступает несколько шагов назад и потом, с разбегу и припрыгнув, ударяет между плеч, вдоль спины, и если удар бывает силен, то пробивает до костей. Палачи так хорошо знают свое дело, что могут класть удар к удару ровно, как бы размеряя их циркулем и линейкою"[28]28
Берхгольц Ф. В. Указ. соч. 4.1. С. 104.
[Закрыть].
На втором этапе следствия Алексея многократно пытали кнутом на дыбе, а возможно, по имеющимся свидетельствам, и иными способами. Есть свидетельства, что часть допросов с пыткой проходила в присутствии Петра и не в крепости, а на царской мызе возле Петергофа.
Можно сколь угодно толковать о нравах эпохи и о жестокости обычаев, но то, что царь пытает собственного сына, казалось людям отвратительным, ибо прецедентов в русской истории не имело.
Разумеется, пыткой из царевича можно было вымучить все, что захотел бы царь. Но нужен ли был Петру самооговор Алексея и оговор других? Безусловно нет. Более того, часть признаний царевича, касающаяся "больших персон", была сознательно оставлена без внимания и не проверялась. Хотя проверить было просто. Петр хотел получить представление о реальной расстановке сил в правительствующей среде. Он получил его, но не пожелал сделать достоянием страны. Его вполне устраивал миф о "больших бородах" и темных старо-московских интриганах.
Царевича пытали жестоко, но расчетливо. Все время розыска он был на ногах, незадолго до смерти мог сам явиться в суд, его ответы на вопросы следователей до последнего дня изобличают неповрежденное сознание. Пушкин, читавший подлинник дела, говорит о дрожащей руке, которой написаны после пытки ответы царевича. Еще бы! Он писал рукой, только вправленной после вывиха на дыбе. Но у него оставались силы отвечать своеручно, четко и пространно.
Наиболее важные показания царевича перепроверялись следствием. Ему, висящему на дыбе, заново задавались вопросы, на которые он уже отвечал. И Алексей ни от чего не отрекался и нигде себе не противоречил. Тем более что следователи очень многое знали от его пытанных сторонников и легко предавшей его Ефросиньи.
Оснований сомневаться в правдивости показаний Алексея нет. Даже столь педантичный историк, как С. М. Соловьев, опирается на них без всяких оговорок и сомнений.
ТЯЖБА О ЦЕНЕ РЕФОРМ
Какова же была программа Алексея, которая сложилась у него перед побегом? В наивном и примитивизированном варианте она изложена была той же Ефросиньей и уже упоминалась нами. Надо иметь в виду, разумеется, что, говоря с любовницей, царевич учитывал уровень ее понимания политических проблем и все упрощал.
Да он же, царевич, говаривал: когда он будет государем, и тогда будет жить в Москве, а Питербурх оставит простой город; также и корабли оставит и держать их не будет; а войска-де станет держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хотел, а хотел довольствоваться старым владением и намерен был жить зиму в Москве, а лето в Ярославле; и когда слыхал о каких видениях или читал в курантах, что в Питербурхе тихо и спокойно, говаривал, что видение и тишина недаром: «Может быть, либо отец мой умрет, либо бунт будет; отец мой, не знаю, за што меня не любит и хочет наследником учинить брата моего, он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, а моя мачеха, умна; и когда, учиня сие, умрет, то-де будет бабье царство! И добра не будет, а будет смятение: иные станут за брата, а иные за меня».
Е. В. Анисимов так комментирует этот текст: «Можно предположить, что, по-видимому, царевич, придя к власти, намеревался свернуть активную имперскую политику отца, ставшую столь очевидной именно к концу Северной войны. Не исключено также, что устами царевича говорила политическая оппозиция, загнанная Петром в глубокое подполье…»[29]29
Анисимов Е. В. Время петровских реформ. С. 442.
[Закрыть]
Если мы внимательно и беспристрастно прочитаем "программу" Алексея, то не найдем в ней ни одного криминального положения. Алексей не собирается разрушать или отдавать шведам Петербург, а всего лишь хочет сделать его обыкновенным портом. Перенос столицы в Москву отнюдь не был для России катастрофой. Военный флот, как мы знаем, был страшной обузой для экономики страны. Но и полное уничтожение военного флота Алексей, имея ближайшим советником адмиралтейца Кикина, вряд ли предпринял бы. Речь могла идти о сокращении флотского бюджета. Но в мирной ситуации частный торговый флот, который, собственно, и был нужен России, развивался бы естественным путем, не высасывая соков из населения. Распускать армию Алексей не собирается – он исповедует, говоря сегодняшним языком, "принцип разумной достаточности". Он собирается перейти от наступательной, империалистической доктрины отца к доктрине оборонительной. Он не собирается отдавать берега Балтики – иначе о Петербурге и речи бы не было, – но не хочет дальнейших завоеваний, которые планировал Петр и о которых Алексей, естественно, знал. И это было вполне разумно. Более того, с государственной точки зрения совершенно целесообразно. Неразумной и нецелесообразной была безудержная жажда новых территориальных приобретений, владевшая Петром, его стремление диктовать свою волю Восточной и Центральной Европе. А если учесть, что в окружении царевича армию представлял генерал князь Василий Долгорукий, полководец нового типа, то совершенно ясно, что об уничтожении петровской армии и гвардии – лучшего, что удалось создать первому императору, – речи не было: генералитет этого не допустил бы.
Последний пассаж "программы", тоже касающийся престолонаследия, при всей наивности формулировок, поражает своей проницательностью. О петровском установлении, нарушившем традиционный порядок престолонаследия, Ключевский сказал со всей горькой прямотой:
Редко самовластие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом… Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим законом погасил свою династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови без определенного династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал игрушкой[30]30
Ключевский В. О. Сочинения. Т. 4. С. 238.
[Закрыть].
Но ведь, собственно, о том же говорит и Алексей, провидя «бабье царство» и династические распри.
Разумность идей наследника, даже в передаче темной Ефросиньи, выдает не только его природный ум, о котором говорят современники, и понимание реального положения, но в первую очередь указывает на круг государственного общения Алексея, круг, вовсе не ограниченный юношеской его "компанией", умным и дельным администратором и инженером Кикиным и генералом Долгоруким.
Что же это был за круг?
Люди, на которых царевич рассчитывал как на соратников после смерти отца, так и на сторонников в борьбе за власть при его жизни, выявились в ходе розыска – во второй, петербургский, пыточный период.
Наиболее влиятельные персоны, названные царевичем, оказываются в числе тех, с кем Кикин переписывался или готовился переписываться шифром. Это главнокомандующий русской армией фельдмаршал граф Борис Петрович Шереметев и сенатор князь Яков Федорович Долгорукий. Алексей рассказывает о своих отношениях с ними довольно беспорядочно, но целый ряд выразительных деталей дает возможность эти отношения реконструировать.
"Борис Петрович говорил мне, будучи в Польше, не помню в которое время, при людях немногих моих и своих, что напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал", – показал царевич 14 мая, еще до пыток. При всей краткости это чрезвычайно насыщенное смыслом свидетельство обнаруживает наличие особо доверенных лиц с той и с другой стороны, при которых можно вести разговоры, равные государственной измене. Ведь фельдмаршал учит наследника искусству политической интриги, советуя ему учредить свою разведку при августейшем отце.
Князь Яков Долгорукий прославлен был прямотой и мужеством перед лицом царя. Царевич показал, что они с князем обсуждали "тягости народные" – тяжкое положение России. Князь сознавал, что его отношения с царевичем вызывают подозрения. "Когда при прощании в Сенате, – показал Алексей 16 мая, – ему, князю Якову, молвил на ухо: "Пожалуй, меня не оставь", он сказал, что "я всегда рад, только больше не говори: другие-де смотрят на нас". А преж того, когда я говаривал, чтоб когда к нему приехать в гости, и он говаривал: "Пожалуй, ко мне не езди; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит"".
Князь Яков искренне любил царевича и был ему предан. Царевич Сибирский рассказывал, что посте побега Алексея "князь Яков Федорович Долгорукий так по нем плакал, что затрясся". И при этом он соблюдает сугубую осторожность в общении с полуопальным наследником. Долгорукий был человеком отнюдь не робким, и если он, один из самых видных и влиятельных вельмож, ведет себя таким образом, то это более чем что-либо свидетельствует об особости его отношений с Алексеем. Конспирация необходима там, где есть что конспирировать.
Однако близость Алексея и князя Якова Федоровича вызвана была не только и не просто личной симпатией старого сенатора к наследнику. Они сходились во взгляде на связь прошлого, настоящего и будущего России, то есть на необходимый характер реформ. В "Истории Российской" Татищева есть замечательная по выразительности сцена, где князь Яков Федорович, к неудовольствию Меншикова, объясняет царю неразрывность реформы и традиции, восхваляя внутреннюю политику царя Алексея Михайловича, ее основательность и справедливость, напоминает Петру, что истоки военной реформы тоже лежат во временах его отца, но при этом отдает должное внешнеполитическим успехам Петра. И происходит это в 1717 году, когда Алексей скрывался в Италии…
Программа Алексея – в ее истинном виде – была, скорее всего, разумным сочетанием уже достигнутых преобразований с сохранением полезной традиции, с учетом реальных возможностей и ориентацией на мирное развитие страны. И складывалась эта программа, судя по всему, под влиянием бесед с такими людьми, как князь Яков Федорович и – еще более – как князь Дмитрий Михайлович Голицын.
Голицыны занимали в планах и надеждах Алексея не меньшее место, чем Долгорукие. И князь Дмитрий Михайлович – в первую очередь.
После Кикина и князя Василия Долгорукого, которые играли в истории отречения и побега роли, так сказать, организационные, среди тех, кто влиял на царевича идеологически, князь Дмитрий Михайлович занимает в материалах розыска наиболее значительное место.
Только с двумя персонами обсуждал царевич "тягости народные", положение в стране – с князем Яковом Федоровичем и князем Дмитрием Михайловичем. Князь Дмитрий Михайлович постоянно заботился о духовном воспитании наследника. "Князь Дмитрий Голицын, – доказывал Алексей, – много книг мне из Киева приваживал по прошению моему и так, от себя; и я ему говаривал: "Где ты их берешь?" – "У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе ласковы и тебя любят"".
Князь Дмитрий Михайлович скромничал. У него самого была одна из лучших библиотек в России. Причем библиотека политическая.
"А на князь Дмитрия Михайловича имел надежду, – показал царевич позже, – что он мне был друг верный, и говаривал, что я тебе всегда верный слуга".
Князь Дмитрий Михайлович Голицын – центральная фигура этой книги и главное действующее лицо конституционного порыва 1730 года. Подробно мы будем говорить о нем в свое время. А сейчас надо запомнить, что именно убежденный сторонник ограничения самодержавия князь Голицын оказался одним из доверенных советников царевича Алексея и что Алексей был нужен Голицыну для реализации его политических планов не меньше, чем Голицын Алексею.
Теперь нам предстоит решить принципиальный вопрос – с какой целью предпринял Алексей безумный побег в Аварию и каковы были его тактические планы.
У Алексея был самый прямой выход – поступать согласно желанию отца, принимать посильное участие в государственной деятельности. Он был способен к такой работе и не раз это доказывал. Не обладая энергией, волей и талантами своего отца, он вполне мог добросовестно выполнять поручения Петра. И если бы при этом вел себя лояльно, то у Петра не было бы поводов – при всей нелюбви к сыну – подвергнуть его опале. Во всяком случае, жизни Алексея ничего не угрожало бы. Даже такой самовластный деспот, как Петр, не решился бы расправиться с наследником без всяких юридических оснований.
Алексей принципиально отринул этот выход. С середины десятых годов он совершенно сознательно перешел в оппозицию к политике яростного реформаторства, которая изнуряла и озлобляла страну. Он явно не был крупной фигурой, значительной личностью. Но он чутко уловил нарастающие в окружении царя настроения и нашел, как мы видели, поддержку.
Бежал он в Австрию с целью вполне определенной. Он, во-первых, хотел в безопасности дождаться момента, когда сможет вернуться в Россию как государь или же как регент при малолетнем брате или сыне. Это могло случиться при двух обстоятельствах – смерти Петра или бунте. Смерти Петра ожидали в недалеком будущем, и не без оснований.
Народный мятеж был куда менее реален. Гвардия и элитарные армейские полки – типа Ингерманландского – прочно подпирали власть. Но возможность мятежа в измученной армии исключить было нельзя, и эта возможность тоже учитывалась наследником. В канун открытого конфликта с отцом Алексей, пьяный, говорил своему камердинеру Ивану Афанасьеву: "…быть бунту; о тягостях народных, чая, что не стерпя, что-нибудь сделают; а к тому ж я слыхал от Сибирского (царевич Сибирский. – Я. Г.): «Как-де народ терпит тягости»" Тема «народных тягостей», как видим, была постоянной темой в разговорах царевича с доверенными лицами.
Нас не должна обманывать инфантильная интонация показаний Алексея. Тут играл роль страх, растерянность, желание казаться наивнее, чем царевич был на самом деле. Надо видеть то, что стояло за этим торопливым и сбивчивым текстом. А стояли за ним вещи вполне реальные.
Но, оказавшись в относительной безопасности, за границей, Алексей не склонен был к пассивному ожиданию. Он написал письма в Сенат и своим друзьям среди высшего духовенства, смысл коих был – "я жив и будущее за мной". Судя по настойчивым упоминаниям Сената в показаниях, царевич возлагал на это учреждение особые надежды. (Что, кстати, свидетельствует о намерении Алексея сохранить главные структуры управления.) "В сенаторах я имел надежду таким образом, чтоб когда смерть отцу моему случилась в недорослых летех братних, то б чаял я быть управителем князю Меншикову, и то б было князю Якову Долгорукову и другим, с которыми нет согласия с князем, противно", – показал царевич 16 мая.
Алексей достаточно точно представлял себе возможное развитие событий после смерти Петра и весьма трезво оценивал ситуацию. Ведущая роль Меншикова и ненависть к нему как знати, так и многих "новых людей" стали причиной падения светлейшего в 1728 году. Только роль Алексея сыграл его сын Петр. Алексей не был фантазером. Планы, сложившиеся в беседах с сильными государственными умами, выглядят здраво.