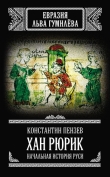Текст книги "Варяги и варяжская Русь. К итогам дискуссии по варяжскому вопросу"
Автор книги: Вячеслав Фомин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Зрела Семилетняя война, и европейские государства, зная себе цену в настоящем и свои устремления в будущем, всемерно вставали на защиту своего прошлого. И Россия не желала быть своей историей, вопреки мнению западноевропейцев, выраженному в середине XVIII в. Вольтером, «подтверждением и дополнением к истории Швеции»200. У нее была своя судьба, свое предначертание. А речь Миллера, указывала Н.Пономарева, могла быть использована в ряде стран во вред России. В Россию внимательно всматривалась Западная Европа, и отнюдь, справедливо подчеркивает исследовательница, не сочувственно201. Поэтому, Россия не могла предстать перед своими возможными будущими противниками и союзниками такой, какой ее рисовал Миллер, что полно выразил на основании отзывов академиков в своем заключении на речь Миллера Теплов: «...Автор намерение... имел представить слушателям позорище славных и великих дел российского народа... ни одного случая не показал к славе онаго, но только упомянул о том больше, что к бесславию служить может, а именно как их многократно разбивали в сражениях, где грабежем, огнем и мечем пустошили и у царей их сокровища грабили. А на последок удивления достойно, с какою неосторожностью употребил экспрессию, что скандинавы победоносным своим оружием благополучно себе всю Россию покорили (курсив издателя. – В.Ф.)»202.
Ломоносов показал несостоятельность норманской теории также профессионально, как он профессионально показал непригодность «Русской грамматики» Шлецера в том виде, в каком она была задумана. Летом 1764 г. он сказал о незнании ее автором предмета, о «сумасбродстве в произведении слов российских», подчеркнул, что в ней «кроме множества несносных погрешностей внесены досадительные россиянам мнения», и закончил свой отзыв хорошо известными словами: «Из чего заключить должно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Такое неприятие Ломоносова вызвало стремление Шлецера русские слова либо вывести из немецкого, либо дать им неблагозвучное объяснение, что породило, по верному замечанию М.О.Кояловича, «нелепые, обидные для русских филологические открытия»203: «дева» и «Dieb» (вор), нижнесаксонское «Tiffe» (сука), голландское «teef» (сука, непотребная женщина); «князь» и «Knecht» (холоп); боярин, барин и баран, дурак204. В этих словопроизводствах, проистекающих из представления немцев, что русский язык есть Knecht-sprache205, Ломоносов увидел, как и в случае с диссертацией Миллера, совершенное отсутствие науки.
Над своей «Российской грамматикой» Ломоносов трудился не менее десяти лет. Шлецер, только что научившийся читать, но еще не умевший свободно говорить по-русски, на ту же работу потратил всего четыре месяца. Поэтому «кость» он переводит как «Веіп» (нога), пишет «блита или плита», «лез» вместо «лес», «клыба» вместо «глыба», вводит в состав основного словарного фонда несуществующее слово «дарда» (в значении «копье»). Но нисколько не сомневаясь в своих способностях вообще, Шлецер и здесь остался верен себе, утверждая, что имел перед Ломоносовым «значительное преимущество», а тот на его грамматику взъелся лишь потому, что ее написал иностранец. А что им произносилось, для его последователей обретало силу высшего закона. Так, С.К.Булич говорил о неоспоримом превосходстве Шлецера над Ломоносовым в отношении широты филологического и лингвистического образования, знания языков и проницательности взгляда206. Ф.Эмин в 1767 г. по поводу якобы связи Knecht с князем хорошо сказал, что здесь нет ни близкого сходства слов, «ниже в мысли разума», и равно тому, если немецкое Konig, «у вестфальцев произносимое конюнг (курсив автора. – В.Ф.)», сопоставить с русским «конюх». Но то, что заметили Ломоносов и его современники, не желали замечать их более образованные потомки. В.Г.Белинский в приведенных примерах увидел лишь то, как Шлецер «смешно ошибался в производстве некоторых русских слов»207.
Как историк России, Ломоносов ставил перед собой задачу: «Коль великим счастием я себе почесть могу, ежели моею возможною способнос-тию древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются»208. Благородная цель, служению которой хотел бы посвятить себя каждый историк. И можно только гадать, что было бы им сделано на поприще истории, если бы она одна была его уделом. Но и того, что он сделал, занимаясь еще химий, математикой, физикой, металлургией и многими другими отраслями науки, где прославил свое имя на века, вполне достаточно, чтобы признать Ломоносова историком и без норма-нистской предвзятости взглянуть и на него и на его наследие. От чего ни в коей мере не пострадают истинные и весьма значимые заслуги немецких ученых перед русской исторической наукой (хотя, конечно, не представляется возможным принять в полной мере заключение Т.Н.Джаксон, увидевшей в трудах академиков-немцев но варяго-русскому вопросу «подлинно академическое отношение к древнейшей русской истории, основанное на изучении источников»209). Великий Эйлер в одном из писем за 1754 г. с восхищением говорил Ломоносову, что «я всегда изумлялся Вашему счастливому дарованию, выдающемуся в различных научных областях»210. Таким же дарованием, помноженным на свойственное ему трудолюбие и желание дойти до самой сути дела, обладал Ломоносов и в истории, нисколько не жертвуя при этом ни истиной и ни своей очень высокой научной репутацией.
Глава 3 АНТИНОРМАНИЗМ ИСТИННЫЙ И АНТИНОРМАНИЗМ МНИМЫЙ
Часть 1 Антинорманизм XIX века
Дискуссия между М.В.Ломоносовым и Г.Ф.Миллером надолго избавила нашу науку от норманистских идей. Ситуация изменилась в корне в начале XIX в., когда в Германии (1802-1809), а затем в России (1809-1819) вышел «Нестор» А.Л.Шлецера, где историк, качественно обновив мнения своих предшественников, придал им, с присущими ему яркостью и талантом убеждать даже в случаях отсутствия аргументов, завершенный вид. Преимущественно его глазами теперь стали смотреть на варягов ученые всей Европы, а посредством их, образованные люди Старого Света. И прежде всего, конечно, нашего Отечества, где суждение иностранцев в отношении русской истории не только всегда пользовалось особым расположением, но зачастую возносилось до неимоверных высот. Не избежала подобной участи и позиция Шлецера в варяжском вопросе, которую весьма емко выразил в 1931 г. норманист В.А.Мошин, квалифицировав ее как «ультранорманизм»1. Но гораздо в большей степени эта характеристика может быть приложена к русским последователям немецкого ученого, далеко превзошедшими его в норманизации истории Древнерусского государства и благодаря трудам которых норманская теория приобрела в отечественной историографии силу непреложной истины, отступление от которой считалось посягательством на честь науки.
Шлецер, видя в восточнославянских древностях проявление германского начала, вместе с тем не смог пройти мимо фактов, которые совершенно не вязались с его выводами. Так, он признал отсутствие влияния скандинавского языка на русский, объяснив это тем, что шведов среди восточных славян «было очень немного по соразмерности», раз из смешения этих очень разных языков «не произошло никакого нового наречия». Не смог Шлецер скрыть и своего искреннего удивления по поводу того, как новгородские словене поглотили «своих победителей: все сделается славянским (курсив автора. – В.Ф.) явление, которого и теперь еще совершенно объяснить нельзя», что славяне, «по неизвестным нам причинам, рано сделались главным народом»2. Русские исследователи не «заметили» этих слов Шлецера, но всему остальному, произнесенному им в адрес нашей истории, придали воистину исполинские размеры. В 1834 г. О.И.Сенковский, уверяя, что «история России начинается в Скандинавии...», буквально переселил последнюю в Восточную Европу. «Не трудно видеть, – говорил он, – что... вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавия, со всеми своими учреждениями, правами и преданиями поселилась на нашей земле; эта эпоха варягов есть настоящий период Славянской Скандинавии». Будучи убежденным, что характер эпохи и устройство общества были «скандинавскими, а не славянскими», автор заключал: восточные славяне утратили «свою народность», сделались «скандинавами в образе мыслей, нравах и даже занятиях», что всецело привело к общему преобразованию «духа понятий, вооружения, одежды и обычаев страны» (це преминув укорить Н.М.Карамзина, не заметившего всего этого), к образованию славянского языка из скандинавского, что сами шведы смотрели на Русь как на «новую Скандинавию», «как на продолжение Скандинавии, как на часть их отечества»3.
М.О.Коялович, квалифицировав воззрения Сенковского как «чудовищную, оскорбительную пародию» ученых мнений, доведенных им «до последних пределов нелепостей, крайне обидных и для ученых, и вообще русских», вместе с тем справедливо подчеркнул: она потому имеет значение, что вся «построена на ученых, серьезных для того времени данных, и потому вызывала к себе большое внимание»4. Тональность рассуждений Сенковского была подхвачена и усилена его единомышленниками (в том числе частью профессиональных историков, весьма авторитетной в науке и обществе), стала нормой в разговоре о находниках на Русь. В «Энциклопедическом лексиконе» Сергей Александрович Гедеонов5 в 1837 г. внушал соотечественникам, что скандинавы в Восточной Европе представляли собой господствующий род, а «туземцы» были их рабами и данниками, твердо считая при этом, что «война и дань, средства, которыми действовали норманны во всех покоренных ими землях, полагая пределы своеволию славянских дикарей, были первым шагом к образованию гражданскому», и что «воинственный гений норманнов одушевил их новою жизнью, и повел быстрыми шагами по стезе просвещения». Не было у него никаких сомнений и насчет того, что восточные славяне переняли от своих господ право родовой мести, суд Божий, «всю юридическую номенклатуру и чинопостав-ления». Вместе с тем он проводил идею, не позволявшую ни на йоту усомниться в норманстве варягов, что скандинавы легко приняли религию славян, и Перун заменил им Одина6.
В том же 1837 г. С.Сабинин, также полагая, что русский язык произошел от скандинавского, что из него взяты «имена чинов, жилищ, домашних вещей, животных», вместе г. тем утверждал, что из Скандинавии перешло «основание всего нашего древнего быта», в том числе и «обыкновение мыться в субботу», дарить детям на зубок. «Замечательно, – делился он своим открытием, – что религия в древней России была скандинавская, а не славянская». Но всего этого ему показалось крайне мало, и исследователь, излагая что-то вроде программы норманистов на будущее (а ее принципиальной линии они следуют до сих пор), выражал абсолютную уверенность в том, что «мы отыщем на многие наши обычаи и поверия удовлетворительное объяснение в исландских сагах», «а Киев (здесь и далее курсив автора. – В.Ф.) назовем скандинавским именем Каир (Кёйп), Kiob, Kjobing, Kjobstadt, т. е. местом торговли, торговым городом; что в Волосе, боге скота, узнаем мы Волда (Вольса), Водека, Вуодана, Одина; что мы откроем в именах рек Волга, Двина, Нева, Нарва, Днепр, Рось имена скандинавские, и пр.». С целью объяснить свой априорный посыл о всепроникающем воздействии скандинавов на жизнь восточных славян Сабинин прибег к другому подобному посылу: оказывается, норманны, бывшие на Руси, своей массой превосходили ее население. В соответствующем духе он предлагал рассматривать этимологию имени «славяне»: «...Я, читая в скандинавских диалектах slav, slaf, slaven, slafen, множ. slaverne, slavene, slaferne, slafene, что значит слабые, подчиненные, подручники, всегда воображаю себе: не это ли носили и мои предки...». Свои лингвистические изыскания автор замыкал весьма красноречивым вопросом: «...Рось или Русь не есть только перевод имени слава на скандинавские диалекты, ибо Ros значит в них слава?». Истиной для него была и мысль, что Велес и Перун есть скандинавские Один и Тор7.
Сторонники норманства варягов объявили скандинавскими значительное число русских слов, ставших тем самым весьма важным «козырем» в пользу их концепции ранней истории Руси, например, в рассуждениях Н.М.Карамзина8. И подбор которых, следует подчеркнуть, не-являлся делом случая, а должен был ко всему же наглядно продемонстрировать, чем восточные славяне якобы обязаны северным пришельцам (князь, боярин, дружина, дума, оружие, господь, колокол, город, гридь, купец, безмен, лодья, меч, вервь, вира, муж, мыто, обель, огнищанин, смерд, холоп, челядь, якорь и другие9) и, следовательно, какой ничтожный уровень общественного бытия своих подданных те застали. Не довольствуясь количеством подобных примеров, О.И.Сенковский во всеуслышание высказал намерение привести сотни славянских заимствований из германского10, впрочем, осмотрительно не выполнив своего обещания. Согласно все той же воле приверженцев норманизма имена русских князей, в том числе бесспорно славянские, были переделаны в скандинавские, также заняв в их системе доказательств одно из самых центральных мест. По словам Ф. Фортинского, «лингвистические доводы норманистов основаны не столько на этимологии слова варяг, сколько на объяснении из скандинавского языка имен первых наших князей и их приближенных». Известный норманист Ф.А.Браун позже также подчеркивал, что эти имена «составляют наиболее веское доказательство норманистов».
Начало этой практике, основанной на игре созвучий и метко названной Н.П.Загоскиным «филологической эквилибристикой»12, положили шведские историки XVII в., но в науке она стала обязательным руководством к действию благодаря авторитетному мнению Г.З.Байера, категорично сказавшему, что «все имена варягов в русских летописях» суть «шведского, норвежского и датского» языков. Подыскав именам князей параллели из скандинавской истории, исследователь не без сожаления признал, что не нашел ничего подобного только к имени Синеус. Но во всех остальных случаях он не испытал никаких затруднений. Так, не отрицая, что имя Святослав славянское, ученый при этом настаивал, что оно все же «с началом норманским» (Свен), а в имени Владимир увидел перевод, означающий либо «лесной надзиратель» (от немецкого «wald» -«лес», здесь Байер повторил не совсем устраивающее его мнение своего соотечественника филолога Ю.Г. Шоттелиуса, ум. 1676), либо, как полагал уже сам, первая часть этого имени когда-то означала «поле битвы». Затем А.Л.Шлецер и А.А.Куник утверждали соответственно, что Рогво-лод – «чисто скандинавское имя», а первая часть имени Святослав представляет собой готское «svinths» (крепкий, сильный)13. Сергей Александрович Гедеонов, ориентируясь прежде всего на Шлецера и Карамзина (сыгравшего, учитывая, по справедливому замечанию А.А.Хлевова, влияние его труда на читающую публику, важную роль в пропаганде и закреплении в ее среде идей норманизма14) уже без всяких исключений говорил, что имена представителей варяжской руси, звучащие в летописи, «неоспоримо норманские». Как далеко в норманизации русской истории заводили в ту пору не знавшая границ увлеченность идеей норманства варягов и вытекающее из нее неудержимое стремление выводить летописные имена только из шведских, видно хотя бы по тому факту, что известный историк Куник «с высокой долей вероятности» отнес в 1845 г. к скандинавам любимого народного героя былин Илью Муромца15.
В силу тех же причин не менее крупная фигура российской исторической науки того времени М.П.Погодин в 1859 г. характеризовал представителей высшего слоя варяго-руссов не иначе, как «удалый норманн» (Олег), как «гордая и страстная, истая норманка» (дочь Рогволода Рог-неда), как «истинный витязь в норманском духе» (Мстислав Владимирович), говорил о «норманском характере» Святослава и «норманской природе» Ярослава Мудрого. Он же ввел в научный оборот понятие «норман-ский период русской истории» (даже ставшее названием одной из его работ), обнимавшего собой историю Руси до середины XI в., и суть которого историк выразил словами: «Так удалые норманны, в продолжение двухсот лет, раскинули планы будущего государства, наметили его пределы, нарезали ему земли без циркуля, без линейки, без астролябии, с плеча, куда хватала размашистая рука...». При этом ученый убеждал, что скандинавы в рамках 862-1054 гг. «были почти совершенно отдельным племенем от славян, – они жили вместе, но не сплавлялись, не составляли одного народа... Влияние варягов на славян было более наружное – они образовали государство. ...Славяне платили дань, работали -и только, а в прочем жили по-прежнему». И лишь только в следующем периоде скандинавы «сделались славянами, приняв их язык, хотя и оставались их правительством»16.
Подобный настрой, приведший к открытию, по словам Д.И.Иловайского, «небывалого норманского периода» в нашей истории17, и глубоко поразивший российскую историческую науку, резко входил в противоречие с показаниями источников и здравым смыслом, в связи с чем вызвал протест даже со стороны норманистов. Неужели это возможно, изумлялся Н.Ламбин, чтобы скандинавы «ухитрились основать государство чисто славянское, без участия самих славян». Характеризуя состояние разработки варяжского вопроса, И.И.Первольф, прекрасный знаток истории славянских и германских народов, не скрывая усмешки, констатировал: «Все делали на Руси скандинавские норманны: они воевали, грабили, издавали законы, а те несчастные словене, кривичи, северяне, вятичи, поляне, древляне только и делали, что платили дань, умыкали себе жен, играли на гуслях, плясали и с пением ходили за плугом, если не жили совсем по-скотски». Ф.И.Успенский резонно заметил, что если могущество Киевской Руси связано со скандинавскими князьями и их скандинавскими дружинами, «то они похожи на чародеев, о которых рассказывается в сказках»18. В своих оценках того же явления антинор-манисты были более лаконичны и, вместе с тем, более конкретны. Так, Ю.И.Венелин в 1836 г. исчерпывающе определил его как «скандинаво-мания», а Степан Александрович Гедеонов в начале 60-х гг. как «ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт». В 1841 г. М.А.Максимович, говоря о взглядах современных ему норманистов на русскую историю, подчеркнул: «Это видение скандинавства руссов, теперь господствующее в нашей истории, иногда обращается почти в болезнь умозрения». А в отношении выводов О.И. Сенковского ученый сказал, что это «только миражи, призраки исторические»19.
Каким образом формировался этот «ультраскандинавский взгляд на русский исторический быт» и как в науке создавались «исторические призраки», вскрыли антинорманисты. По словам весьма наблюдательного немца Е.Классена, Г.З.Байер возводил свои построения на «голом» слове «утверждаю», желая им «придать исполинскую силу своему мнению». Н.В.Савельев-Ростиславич показал, как норманист XVIII в. Ф. Г. Штрубе де Пирмонт с целью «легчайшего онемечения Руси» превратил русско-славянского бога Перуна в скандинавского Тора, выстроив для этого ряд «Перун-Ферун-Терун-Тер-Тор». Позже Ф.Тарановский, обратившись к творческому наследию того же исследователя, так определил его систему «аргументации» в пользу якобы норманского происхождения норм Русской Правды: «Получается... заколдованный круг: национальность варягов служила предпосылкой заключения о заимствовании постановлений Русской Правды у германских народных законов, а затем «изумительное» сходство с ними Правды служило одним из доказательных средств установления национальности варягов»20.
Дерптский историк И.Г.Нейман, ведя речь о том, как в науке заставляют звучать «русские» названия днепровских порогов по-скандинавски, заключил: этот результат уже «по необходимости, – здесь он специально заострял внимание, – брать в помощь языки шведский, исландский, англо-саксонский, датский, голландский и немецкий... делается сомнительным». Н.И.Костомаров назвал еще один прием работы своих оппонентов в данном направлении: они «считают, что названия порогов написаны неверно и поправляют их». Точно таким же образом они поступали и с летописными именами". Д.И.Иловайский и Н.П.Загоскин констатировали, что норманисты исправляют «имена собственные нашей начальной летописи в сторону скандинавского происхождения их...»21. Н.В.Савельев-Ростиславич, выступая против «беззакония филологической инквизиции» норманистов, подчеркивал, что «желание сблизить саги с летописью (здесь и далее курсив автора. – В.Ф.), сказки с былью, а это неминуемо увлекло изыскателей в мир догадок, ничем не доказанных, и заставило нещадно ломать звуки на этимологической дыбе». В связи с чем говорил, что норманизм держится «на сходстве звуков часто совершенно случайном»22.
Справедливость замечаний научных противников в полной мере подтверждают сами норманисты. Так, А.Л.Шлецер предостерегал своих последователей, что «сходство в именах, страсть к словопроизводству – две плодовитейшие матери догадок, систем и глупостей». С.М.Соловьев резко критиковал М.П.Погодина именно за то, как он свое «желание» «видеть везде только одних» норманнов воплощал на деле. Во-первых, широко пропагандируя бездоказательный тезис, «что наши князья, от Рюрика до Ярослава включительно, были истые норманны...», в то время как Пясты в Польше, возникшей одновременно с Русью, действуют, отмечал Соловьев, точно также, как и Рюриковичи, хотя и не имели никакого отношения к норманнам. Во-вторых, что, «отправившись от неверной мысли об исключительной деятельности» скандинавов в нашей истории, «Погодин, естественно, старается объяснить все явления из норманского быта», тогда как они были в порядке вещей у многих европейских народов. В-третьих, что важное затруднение для него «представляло также то обстоятельство, что варяги-скандинавы кланяются славянским божествам, и вот, чтобы быть последовательным, он делает Перуна, Волоса и другие славянские божества скандинавскими. Благодаря той же последовательности Русская Правда является скандинавским законом, все нравы и обычаи русские объясняются нравами и обычаями скандинавскими»23.
О своем пути, приведшем к превращению русского Велеса в скандинавского Одина, предложив, опираясь, видимо, на опыт Штрубе де Пир-монта, несколько вариантов «перевоплощения» его имени: Один-Вольд (Воольд)тВолос; Один-Вуодан-Водек-Волд (Вольс)-Волос, простодушно говорил С.Сабинин: он шел не через источники, а «чрез умозаключение», тут же честно признавшись, что не нашел в сагах, чтобы Один назывался богом скота. Этот же исследователь делился соображениями, посредством какого «волшебного фонаря» можно без затруднений осветить древности собственного народа, и которыми руководствовался не он один; «Нужно только научиться нам исландскому языку, познакомиться с рунами, с эд-дами, с сагами, с писаниями, относящимися к ним, не более»24. Абсолютизацию подобного подхода к разработке русской истории, как известно, отверг еще Шлецер. Совершенно не приемля исландские саги в качестве ее источника, он при этом с особенной силой подчеркивал, что «все презрение падает только на тех, кто им верит»25 (эти слова, несмотря на их явный гиперкритицизм, предупреждают не только против легковерия к показаниям саг, но и против приписывания им того, чего в них нет).
Многие аргументы норманской теории, способствовавшие ее триумфу, действительно являлись лишь плодом «умозаключения» ее приверженцев и на проверку оказывались несостоятельными, что хорошо видно на примере мнимых заимствований вышеприведенных русских слов из шведского языка. Шлецер, как уже говорилось, признал, что в русском языке не заметно влияния скандинавского языка. Затем немец Г.Эверс указал, что «германских слов очень мало в русском языке». С.М.Строев в ответе О.И.Сенковскому вновь заметил, что в русском языке «не видать никаких следов влияния скандинавского».
В 1849 г. филолог И.И.Срезневский, видя в варягах скандинавов, отметил тенденциозность, в которую впадают сторонники взгляда особенного влияния скандинавов на Русь. «Уверенность, – констатировал он, – что это влияние непременно было и было сильно во всех отношениях, управляла взглядом, и позволяла подбирать доказательства часто в противность всякому здравому смыслу...». И крупнейший знаток в области языкознания, проведя тщательный анализ слов, приписываемых норманнам, показал нескандинавскую природу большинства из них и пришел к выводу, что «остается около десятка (курсив автора. – В.Ф.) слов происхождения сомнительного, или действительно германского... и если по ним одним судить о степени влияния скандинавского на наш язык, то нельзя не сознаться, что это влияние было очень слабо, почти ничтожно». Причем он подчеркнул, что, во-первых, эти слова могли перейти к нам без непосредственных связей, через соседей, и, во-вторых, словарный запас Руси того времени состоял, по крайней мере, из десяти тысяч слов26.
«Методика» работы норманистов с источниками особенно проявилась в их отношении к ПВЛ, которая сводилась к тому, что, указывал Ю.И.Венелин, «им понадобиться, то и станет говорить Нестор!!». С.А.Гедеонов, отмечая «непростительно вольное обхождение» Шлецера с летописью, заострял внимание на том, что норманская теория «принимает и отвергает» ее текст «по усмотрению». Правомерность этой оценки подтвердил крупнейший специалист в области летописания норманист М.Д. Приселков, сказав о «величайшем произволе» Шлецера в отношении летописи27. И в основе этого произвола лежала предубежденность норманистов в своей правоте, сила которой была настолько велика, что она до неузнаваемости преображала памятники, не только наполняя их соответствующим содержанием, но и в желательном для себя духе «исправляла» их тексты, в результатечего они превращались в очередной довод в пользу скандинавства варягов. Как это делалось, хорошо видно на двух характерных примерах, связанных с именами Шлецера и Карамзина, по трудам которых сверяли свой взгляд на древности Руси отечественная и европейская историческая наука. Первый из них, предлагая в целостном виде концепцию норманизма, отвел в ней соответствующее место появившемуся на страницах летописей во второй половине XV в. указанию на то, что варяжские князья – Рюрик и его братья – пришли «из немец». Ученый, сославшись на современную ему ситуацию, когда «большая часть славянских народов называет так (т. е. немцами. – В.Ф.) собственно германцев», придал известию о выходе варягов «из немец» силу аргумента в пользу того, что «варяги суть германцы (немцы)». Летописное предание, резюмировал он, позабыв происхождение призванных на Русь князей, «ничего более не знало, кроме того, что они немцы»28. «Силу доказательную имени немец» в установлении этноса варягов затем защищали широко известные в России и за рубежом ученые А.Х.Лерберг, М.П.Погодин, А.Рейц, А.А.Куник, П.Г.Бутков, А.А.Шахматов. Причем Куник убеждал, что «нельзя доказать, чтобы в древнейшие времена славянское название германцев немцы было употреблено и не к германским народам», и увязывал термин «немцы» со шведами («свейские немцы» и др.)29.
Подобные утверждения не имеют ничего общего с фактами, на которые задолго до Шлецера обратили внимание иностранцы, прежде всего шведские ученые, и работы которых он знал (ему принадлежит труд «Новейшая история учености в Швеции», состоявший из пяти частей). Так, швед Ю.Г.Спарвенфельд, бывший в Москве в 1684-1687 гг., в своем «Славянском лексиконе» слово «немчин» пояснил как «иноземец»30. Другой швед Ф.-И.Страленберг, после Полтавы много лет проведший в русском плену, объяснял в 1730 г. своему читателю (его книга была переиздана в Германии, переведена на английский, французский и испанский языки), что «под имянем немца прежде россиане почитай всех европейских народов разумели, которыя по словенски или по руски говорить не знали. Ныне же сие об однех... германах разумеется»31.
Немец Г. Эверс первым в науке опротестовал точку зрения своего учителя Шлецера. Согласившись с ним, что сейчас во всех славянских языках «немцем называют германца», он затем отметил: «Но прежде это слово имело общее значение по отношению ко всем народам, которые говорили на непонятном для словен языке». Н.М.Карамзин также подчеркивал, что «предки наши действительно разумели всех иноплеменных под именем немцев...»32.
Но, говоря так, сам Карамзин, столкнувшись со словом «немцы» в письме Ивана Грозного к шведскому королю Юхану III от 11 января 1573 г., «заставил» русского царя произнести именно то, что гак хотелось услышать историку. Грозный, заведя в октябре 1571 г. разговор о том, что Швеция Ярославу Мудрому «послушна была», через год с небольшим подчеркивал: «А что ты написал по нашему самодержьства писму о великом государи самодержце Георгии-Ярославе, и мы потому так писали, что в прежних хрониках и летописцех писано, что с великим государем самодержцем Георгием-Ярославом на многих битвах бывали варяги, а варяги – немцы (курсив мой. – В.Ф.), и коли его слушали, ино то его были, да толко мы то известили, а нам то не надобе»33. Впервые этот документ в полном соответствии с оригиналом был опубликован в 1773 г. Н.И.Новиковым34. В 1790 г. А.Л.Шлецер, также нисколько не отступая от текста послания, напечатал приведенный отрывок на немецком языке35. Но в 1821 г. норманизм Карамзина побудил его превратить варягов из «немцев» в «шведов». Вот что теперь якобы говорил царь шведскому королю: «Народ ваш искони служил моим предкам: в старых летописях упоминается о варягах, которые находились в войске самодержца Ярослава-Георгия: а варяги были шведы (курсив мой. – В.Ф.), следственно его подданные»36.
В таком виде эти слова, выдаваемые за подлинные, затем цитировали и надлежащим образом комментировали в XIX в. весьма авторитетные в России и Европе исследователи А.А.Куник и В.Томсен, используя их в качестве аргумента в пользу не только норманства варягов эпохи Киевской Руси, но и «норманистских настроений» русского общества вообще. Согласно Кунику, письмо Грозного – наглядный пример «живучести в России ХѴІ-ХѴІІ в. традиции видеть в варягах именно шведов», неоспоримое свидетельство того, что «с 16-го столетия до Петра Великого под варягами... преимущественно разумели опять живущих вблизи шведов (разрядка автора. – В.Ф.), как в эпоху основания российского государства»37. Так, благодаря Карамзину, Кунику, Томсену, работы которых были весьма широко известны, ученые и просто любители русской истории утверждались в мысли, что «еще в XVI веке носилось мнение о выходе князей из Скандинавии»38. В этой же мысли продолжают утверждаться наши современники, в том числе зарубежные. И не только посредством знакомства с наследием названных ученых. В 1995 г. финский историк А.Латвакангас, приводя цитату из письма Грозного, данную в интерпретации Карамзина, назвал ее «весьма интересной». Публикацию же Новикова он охарактеризовал лишь как «версию», при этом не ознакомив с ней читателя39.




![Книга Генезис древнерусской военной интеллигенции [К вопросу о развитии воинской этики на Руси] автора Александр Попов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-genezis-drevnerusskoy-voennoy-intelligencii-k-voprosu-o-razvitii-voinskoy-etiki-na-rusi-143485.jpg)