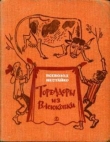Текст книги "Тореадоры из Васюковки (Повести)"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Глава XXVII
СОБЫТИЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ МОЛНИЕНОСНО. НЕУЖЕЛИ ОДИН ИЗ НЕИЗВЕСТНЫХ – ОНА? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! «ОН ХОЧЕТ УКРАСТЬ ЕЕ!» МЫ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ… АССА!
Интересная все-таки штука человек! То он едва дышит, тает, как свечка, голову поднять не может, а то вдруг (и откуда только силы берутся!) начинает крепнуть и набираться бодрости с каждым часом. И вы знаете, что я подумал? Я подумал, что, наверно, все-таки главное для выздоровления – это желание стать здоровым.
Когда ты всеми силами стремишься к одной цели – победить болезнь, – ты обязательно и очень быстро поправишься. Я в этом убедился на себе. После нашего откровенного разговора с Павлушей я сразу начал выздоравливать быстрыми темпами.
Ел я теперь, как молотильщик. По две порции.
Любовь Антоновна как-то сказала:
«Больным нужно есть главным образом то, что им хочется. Организм мудрый, он сам подсказывает, что ему требуется».
Слава богу, мне хотелось есть все, что давали.
Но один раз я хитро взглянул на деда и сказал:
– Деда, мой мудрый организм подсказывает, что ему нужно… мороженого.
Дед кашлянул и ответил:
– Кум Андрей, не бери пример со свиней. Только лихоманка отпустила, и снова хочешь? Скажи своему организму, что он не мудрый, а дурной, если такое тебе подсказывает. Совсем поправишься, тогда будешь есть.
Это еще больше усилило мое желание поскорее выздороветь. Вы же знаете, как я люблю мороженое.
На третий день после нашего с Павлушей разговора Любовь Антоновна послушала меня своим щекотным холодным ухом, ощупала мою ногу и сказала:
– Можешь понемножку выходить во двор, но очень не бегай, а то снова простудишься.
Как же это приятно вместо потолка над головой видеть бездонное голубое небо и дышать свежим ветром, который щекочет тебе кожу нежным прикосновением, и слышать, как приветливо шепчут листья на деревьях, и чувствовать под ногами твердую землю, и брести по улице без всякой цели, и улыбаться без причины, просто потому, что светит солнце, что мурлычет на завалинке кот, что хрюкает в луже свинья – что жизнь прекрасна!..
И хоть шел я, повторяю, без всякой цели, просто так, чтоб немного пройтись (так как далекие прогулки были мне еще строго-настрого запрещены), ноги сами повели меня в сторону улицы Гагарина. А мне на эту улицу докторша даже носа показывать не разрешила.
– Я знаю, все сейчас там дружно работают и тебя потянет, – сказала она. – Так вот, если я тебя там увижу, то прямо при всех возьму за ухо и поведу домой.
Я хорошо знал, что Любовь Антоновна женщина серьезная и слов на ветер не бросает. Но… я ничего не мог поделать со своими ногами. Правда, я шел не прямой дорогой, а сделал порядочный крюк. Потому что сначала должен ведь был я взглянуть на эту самую мачту возле школы, как вы думаете? А что, как там… Хоть мы с Павлушей, конечно, договорились, что он внимательно будет следить за мачтой, несколько раз в день смотреть на нее и мне докладывать. Но что, если он заработался и…
На мачте сидела сорока и легкомысленно трясла длинным хвостом. Увидев меня, она снялась и полетела. Никакого флажка не было.
Теперь я мог спокойно идти на улицу Гагарина.
Еще издали я услышал веселую музыку стройки: звонко тюкали топоры, перестукивали гулко молотки, голосисто выводила свою песню электропила, которую притащили из колхозной столярки и поставили под наскоро сбитым навесом возле электрического столба. Улица смолисто пахла свежими стружками. Все вокруг звучало и двигалось – взад-вперед сновали люди, неся доски, бревна, разный инструмент. В большинстве своем это были молодые, крепкие парни, стриженные наголо, до пояса обнаженные. И только по зеленым галифе и сапогам можно было узнать, что это солдаты. На подручных работах у них трудились наши ребята. Вон и Вася Деркач, и Степа Карафолька, и Вовка Маруня… Да и Павлуша где-то здесь, наверно.
Ремонтировали хаты, чинили сараи, ставили новые плетни и заборы.
И работалось им, видно, с радостью, весело – кто-то пел, кто-то насвистывал, кто-то шуточки отпускал, которые сразу вызывали дружный смех…
Я стал на углу за колодцем под навесом и только с завистью поглядывал на эту веселую, шумливую суету. Поглядывал и прятался за колодцем. Не хотелось, чтоб меня тут увидели: если я не могу вместе с ними, то зачем…
И вдруг услышал радостный звонкий возглас:
– Ой! Ты уж выздоровел? Поздравляю!
Позади меня стояла с ведром в руках… Гребенючка и приветливо улыбалась.
Я покраснел и нахмурился. Вот еще! Нужно же было, чтоб как раз она меня и увидела!
– Спасибо! – буркнул я и, не оглядываясь, пошел прочь.
Вечером я начал наступление на родителей.
– Во-от! – тянул я, скривившись, как среда на пятницу. – Сколько еще мучиться! Я уже совсем здоров, а мне ничего не позволяют! Так я зачахну и совсем пропаду. Я не могу больше. Ну дедуся, ну вы же у нас мудрый, ну объясните им, что я уже совсем-совсем здоров.
Родители меня долго убеждали, что я глупый, что сам не понимаю, как сильно болел, что лучше лишний день выдержать, чем потом лежать, и снова называли меня глупым, а я говорил, что они умные и поэтому должны меня понять…
Наконец маме надоело, и она сказала:
– Ну ладно! Договоримся так. Завтра последний день ты еще побудешь на карантине, а послезавтра, если все будет хорошо, можешь немножко пойти поработать, только немножко, часика полтора, не больше… И делай что-нибудь легкое, иначе ты же знаешь…
Последний день, если чего-нибудь ждешь, всегда самый длинный, самый нудный, самый тяжелый. Это все равно как последние минуты на вокзале перед отходом поезда. Уже попрощались, поцеловались, уже радио объявило: «Провожающие, проверьте, не остались ли у вас билеты отъезжающих, и освободите вагоны». Уже в который раз сказано: «Так ты смотри, осторожно! И сразу напиши, хорошо?» – а поезд стоит…
Я слонялся по двору, по безлюдным улицам и томился, томился, томился… Улицу Гагарина я обходил за версту. Только издали я слышал веселый шум строительства. Зато к школе я подходил раз десять. Меня как будто на веревке туда тянули, к той почерневшей от дождей, рассохшейся и чуть скособоченной ветрами мачте, которая торчала посреди школьного двора. Во время пионерских линеек на ней гордо и торжественно развевался флаг, а в другое время она теряла свое высокое предназначение, и мальчишки старались закинуть на ее верхушку чью-нибудь шапку. Это удавалось очень редко, но когда удавалось, то делало счастливчика в тот день знаменитым на всю школу, а мальчишкам доставляло много радости, потому что тогда устраивали необычное состязание – кто собьет шапку комком земли. Кидали по очереди, каждый три комка. Порядок при этом был «железный», и кто старался его нарушить (или кинуть больше трех раз, или без очереди), тот получал подзатыльник! Один раз мне здорово повезло: я не только закинул шапку на мачту, но и сбил ее, и шапка была не чья-нибудь, а Карафолькина. Он ею страшно гордился – белая в крапинку кепочка с шишечкой на макушке. Этот день я всегда вспоминаю как один из самых счастливых в моей жизни. Вот и теперь, глядя на мачту, я вспомнил свой прошлый триумф, и сразу стало как-то легко на сердце. И захотелось вдруг закинуть что-нибудь на мачту. Шаря вокруг глазами, я прошелся по двору, потом – за школу, туда, где был сад, на пришкольном участке.
Но, свернув за угол, я сразу забыл, за чем шел.
Внимание мое привлекли рисунки, выставленные в окне пионерской комнаты. Это была постоянно действующая выставка работ членов изокружка. Анатолий Дмитриевич выставлял лучшие рисунки своих учеников в окне пионерской комнаты, и эта выставка все время обновлялась.
Теперь все рисунки и скульптуры были новые и все посвящены тому, как спасали село от наводнения. Затопленные хаты, амфибии, нагруженные всяким скарбом, солдаты, снимающие людей с крыш, и т. д.
А один рисунок… У меня перехватило дыхание, когда я взглянул на него. На этом рисунке я увидел… себя!
Темная, почти под потолок затопленная хата, в углу икона, перед которой горит лампадка, а посреди хаты, ухватившись за провод, в воде – я…
Ну конечно, это был рисунок Павлуши. И так здорово, так точно было нарисовано, будто он сам пережил это. Вот что значит художник! Молодец! Просто молодец! Он наверняка станет художником. Есть у него способности, есть. У меня насчет этого – никаких сомнений.
И впервые я подумал об этом без зависти, а с искренней радостью.
И впервые я почувствовал, какое это прекрасное чувство – гордость за друга.
Я долго разглядывал рисунки. Там было много хороших, но с Павлушиным не мог сравниться ни один.
И молчал ведь, сатана, ни слова мне не сказал.
Вот я сейчас пойду и прямо скажу ему, что он талант, и… дам в ухо. Чтоб не задавался. Для талантов главное – не задаваться. И потому обязательно им нужно время от времени давать в ухо.
Я решительно направился на школьный двор. И вдруг стал как вкопанный. Возле мачты стояла… Гребенючка. Стояла и прицепляла к шнуру, на котором поднимают флаг, белый платочек.
Это было так непонятно, так фантастично, что я просто оторопел.
Тьфу ты! Так, значит, один из трех неизвестных – Гребенючка!
Вот тебе и на! Да почему же из трех?
Может, она одна все это и придумала! «Г.П.Г.» – Ганна Петровна Гребенюк. Но она ведь не Петровна, она Ивановна. Ведь ее отец Иван Игнатович. И почерк же совсем не ее, взрослый почерк. И по телефону говорил басистый дяденька. Она никогда в жизни так голос не подделает. И письмо ведь мне передал офицер на мотоцикле. И мне и Павлуше.
Павлуше?
А может…
Может, Павлуше вообще никто никакого письма не передавал и ничего с ним такого не было, а просто он с ней заодно.
Молчал ведь, не признавался, пока уж я первый не начал.
И «Г» – это Ганя. «П» – Павлуша, а второе «Г» – может быть, Гришка Бардадым или еще кто-нибудь.
А я-то, дурак…
Нет! Вряд ли!
Павлуша не может быть таким предателем! Тогда вообще нет правды на земле!
Нет! Пожалуй, одно только мог Павлуша: не удержаться и рассказать ей про письмо (мы с ним тогда в ссоре были). А может, она сама то, второе письмо прочитала. Она же староста кружка, собирает альбомы, а ведь то письмо было в альбоме. Точно!
Прочитала и решила подшутить. А может быть, даже захотела что-нибудь подстроить, чтобы поссорить нас. Видит, что мы помирились, и это ей покоя не дает. У-у, курноска паршивая!
Мне ужасно хотелось подскочить сейчас к ней и двинуть ей как следует. Но я сдержался. Это бы значило признать себя побежденным. Нет! Нужно что-то придумать такое, чтоб ей… Она ведь не знает, что я вижу, как она прицепляет платок. И этим можно здорово воспользоваться.
Спокойно, Ява, спокойно, дорогой! Дыши глубже и возьми себя в руки!
Гребенючка потянула за шнур, и белый платок пополз вверх, на верхушку мачты. Когда платок был уже наверху, Гребенючка воровато оглянулась вокруг и шмыгнула на улицу. Меня она, конечно, не заметила, потому что я стоял за углом школы да еще и в кустах.
Я еще несколько минут простоял вот так, не двигаясь. В голове роились беспорядочные мысли. Я никак не мог придумать, что бы такое устроить Гребенючке, как бы ее проучить.
Ишь решила шутки надо мной шутить! Ну погоди! Ты у меня запляшешь!
Первое, что нужно сделать, – немедленно снять этот белый платок. Павлуша не должен его видеть. Если он не в сговоре с Гребенючкой, то подумает, что это правдивый знак. А если в сговоре, то должен будет как-нибудь выдать себя: начнет беспокоиться, почему на мачте нет платка, и я таким образом дознаюсь.
Полминуты – и платок у меня в кармане.
Солнце повернуло уже к полудню, скоро Павлуша прибежит домой.
Я пошел ждать его у хаты.
Его почему-то долго не было. Уже отец и мать Павлуши пообедали и снова пошли на работу, уже все соседи с улицы поели и разошлись, а его все нет и нет. Я уж волноваться начал – не случилось ли что-нибудь с ним. И наконец вижу – бежит. Запыхавшийся, взъерошенный какой-то, а глаза – как у зайца, что из-под куста выскочил, так и светятся.
Кинулся ко мне и слова выговорить не может, только хекает:
– Слу-шай!.. Слу-шай!.. Слу-шай!..
– Что такое? – спрашиваю. – Горит что-нибудь или снова наводнение?
– Нет… Нет… Но… Слушай, он хочет ее украсть!
– Кто? Кого?
– Галину Сидоровну!
– Кто?!
– Лейтенант.
– Тьфу ты! Что она, военный объект, что ли? Какой лейтенант?
– Да грузин тот с усиками, с которым ты на амфибии ездил.
– Он что, сдурел?
– Не сдурел, а влюбился! И ты же знаешь, какие у них обычаи? «Кавказскую пленницу» помнишь? Понравится такому янычару дивчина, он ее хватает, связывает, на коня – и в горы!.. Понял?
– Да откуда ты взял? Расскажи толком!
– Слышал! Собственными ушами слышал! Понимаешь, начался обед, все разошлись. И я уже собирался… Как вижу, этот самый грузин возле нашей Галины Сидоровны ошивается и что-то ей нашептывает, а она отмахивается сердито и хочет уйти, а он ей дорогу преграждает. Это во дворе у Мазуренков, за хатой, там, где наполовину засохшая груша, знаешь. Ну, я спрятался на огороде в кукурузе, смотрю, что же будет. А она ему: «Ну отойди, ну отойди, я тебя прошу!» А он: «Не могу больше! Я тебя украду, понимаешь, да! Украду!» Она что-то ему сказала, я не расслышал, а он: «Сегодня в одиннадцать, после отбоя». А она как вырвется, как побежит. Он рукой только так – мах! – раздраженно и не по-нашему что-то залопотал, заругался, наверно, а глаза прямо как у волка – зеленым огнем пылают… Вот!
– Ты смотри… – пожал я плечами. – А ведь вроде такой хороший. Мальца Пашковского спас. И вообще…
– Прямо отчаянный. И видишь – дикий человек. От такого всего можно ожидать. Еще зарежет. У них у всех кинжалы, ты же знаешь.
Меня сразу охватила горячая волна решимости. После стольких дней вынужденного бездействия и скуки душа моя требовала острых ощущений и действий.
– Нужно спасать! – твердо сказал я.
– Самим? – недоверчиво посмотрел на меня Павлуша. – А осилим?
– Да чего там! Возьмем хорошенькие дубинки, а если что, поднимем такой тарарам – все село сбежится. Никуда он не денется!
– Но тебя же из дому не выпустят так поздно. Ты ведь еще больным считаешься.
– Да какой там больной? Сегодня последний день. Я, знаешь, к тебе в гости приду, а потом ты меня пойдешь проводить, и мы – фюйть!
Мне даже самому весело стало, как я здорово придумал.
Мы договорились так: Павлуша придет вечером со строительства, зайдет ко мне и пригласит в гости, а я заранее приготовлю хорошие увесистые дубинки и спрячу их в саду под забором.
Поэтому Павлуша побежал быстренько пообедать – боялся, чтобы товарищи не подумали, что он отлынивает. А я сейчас же пошел в орешник срезать дубинки.
Про Гребенючку я Павлуше так ничего и не сказал. Не хотелось портить ему настроение. Кроме того, у меня мелькнула мысль: «А ну как Гребенючка заодно с тем грузином…» Не то чтоб заодно, а просто он, возможно, ее запугал и заставил помочь. И всю эту историю с письмами придумал для того, чтобы меня и Павлушу выпроводить из села на то время, пока он будет выкрадывать Галину Сидоровну. Чтоб мы ему не мешали. И тут я подумал, что это наверняка он был тогда вечером в ее саду. И он знает, конечно, что мы с Павлушей в обиду ее не дадим… Так вот, как раз сегодня, когда он собирается выкрасть Галину Сидоровну, Гребенючка и вывесила на мачте этот условный белый флажок.
Дубинки я долго выбирал в орешнике, но все же срезал две хорошие. Обе с такими балабухами на конце, что прямо настоящие палицы.
Я был полон решимости биться до последнего. Я рвался в бой. А что? Если бы вашу любимую учительницу собирался кто-нибудь украсть, вы бы сидели сложа руки? Ну как же! Усидишь тут! Хоть она и двойки нам ставила, и из класса выгоняла… Но ведь она и ВХАТ вместе с нами создавала (Васюковский Художественный Академический театр), и в Киев на экскурсию нас возила, и пела вместе с нами, и вообще…
Вот если бы завпеда Савву Кононовича кто-нибудь украл, я бы, наверное, и пальцем не шевельнул. Или учительницу математики Ирину Самсоновну. Пожалуйста, крадите на здоровье! Еще спасибо сказал бы. Еще вязать бы помог. А Галину Сидоровну – нет! Не позволю! Головы за нее не пожалею! За обедом я съел здоровенный кусок мяса – с полкило, не меньше. А на картошку даже не взглянул. Дед только крякнул, глядя на это. Но я на дедово кряканье не обратил внимания. Что мне его кряканье, если мне силы теперь нужны. А на картошке их не наберешь, для силы мясо нужно. Это все знают.
Вечером никаких осложнений не было. Павлуша пригласил меня к себе, я пошел к нему, мы до пол-одиннадцатого играли с ним в шашки, а потом он вышел меня проводить. Мы забрали дубинки и направились к Галине Сидоровне. Зашли, конечно, не с улицы, а с той самой тропинки за огородами, по которой я тогда на велосипеде ехал.
Пробрались в сад и затаились в кустах, там, где старший лейтенант Пайчадзе от меня прятался. И как я тогда не сообразил, что это был он! На тропке ведь даже след от мотоцикла остался…
Кусты смородины, где мы сидели, были на небольшом бугре, и оттуда хорошо было видно и сад, и двор, и хату учительницы.
Мы заметили, как Галина Сидоровна два раза выходила во двор, один раз воду из миски выплеснуть, другой раз – в погреб. И что-то не видно было, чтобы она волновалась.
– Слушай, – прошептал я Павлуше, – может, ты напутал? Может быть, он сегодня красть не будет?
И только я это прошептал, как с тропинки послышалось тарахтенье мотоцикла. Мы прижались друг к другу и замерли.
Мотоцикл фыркнул и замолк, не доезжая до сада.
«Конспирация! – подумал я. – А что, и я бы так сделал».
Через некоторое время на тропинке появилась фигура старшего лейтенанта. Он двигался бесшумно, ступая мягко, как кошка. Прошел мимо нас, стал возле крайней яблони и вдруг защелкал по-соловьиному. Да так здорово, что, если бы сейчас был не август, можно было бы подумать, что это настоящий соловейко.
Скрипнули двери. Из хаты вышла Галина Сидоровна. Вот ду… Вот глупая! Чего она вылезла?! Из хаты же труднее выкрасть, а так…
Он начал ей что-то тихо, но с жаром доказывать, потом вдруг схватил за руку.
– Пусти! – рванулась она.
Ну, все! Надо спасать!
Я толкнул Павлушу, мы выскочили из кустов и кинулись к Пайчадзе. Разом, как по команде, взмахнули палками.
Кунь! Кунь!
Я с одной стороны, Павлуша – с другой, как какие-нибудь молотильщики на току цепами, по голове его, по спине! Он сразу охнул, сник, выпустил руку Галины Сидоровны и, словно дерево на лесозаготовках, рухнул.
– Тикайте! – закричал я изо всех сил.
Но…
Но тут случилось невероятное.
Вместо того чтобы спасаться, она кинулась к лейтенанту, упала перед ним на колени и, обхватив руками, отчаянно закричала:
– Реваз! Любимый! Что с тобой? Ты жив?!
Я не видел в темноте, разинул ли Павлуша рот от удивления, но у меня нижняя челюсть так и отвалилась.
И тут старший лейтенант, все еще лежа на земле, вдруг прижал нашу Галину Сидоровну к груди и воскликнул счастливым голосом:
– Галя! Я живой! Я никогда не был такой живой, как сейчас! Ты сказала «любимый»! Я – любимый?! Вай! Как хорошо!
Она отшатнулась от него, а он разом подскочил с земли и, как вихрь, пустился танцевать лезгинку, отставляя в сторону руки и выкрикивая:
– Асса!.. Асса!.. Вай! Как хорошо! Асса!
Я не раз видел, как радуются люди, но чтоб так, не видел никогда, честное слово.
Потом он подлетел к нам, сгреб нас в объятия и начал целовать:
– Хлопцы! Дорогие! Как вы мне помогли! Спасибо! Спасибо вам!
Потом так же внезапно отпустил нас и стал серьезный.
– Хлопцы! – сказал он как-то хрипло, приглушенно. – Хлопцы! Я люблю вашу учительницу! Люблю, да, и хочу, чтоб она вышла за меня замуж. А она… Она говорит, что это… непедагогично! Понимаете, любовь – непедагогична, а?.. Значит, ваши мамы не должны были выходить за ваших пап, да, потому что это непедагогично, а? У-у! – Он шутя сделал угрожающее движение в сторону Галины Сидоровны, потом нежно положил ей руку на плечо. – Ну, теперь они уже всё знают, да. Скрывать уже нечего. И тут уж я не виноват. Завтра, да, пишу родственникам. Все!
Галина Сидоровна стояла, опустив голову, и молчала. Я подумал, каково ей, нашей учительнице, которая всю жизнь делала нам замечания, слушать все это при нас. Нужно было что-то сказать, чтобы спасти ее из этого положения, но в голове было пусто, как у нищего в кармане, и я не мог ничего придумать.
И тут Павлуша встал на цыпочки, вглядываясь в лицо Пайчадзе, и сказал:
– Простите нас, пожалуйста, но… у вас вон там кровь на лбу.
– Где? Где? – встрепенулась Галина Сидоровна. – Ой, действительно! Нужно сейчас же перевязать!
Молодец Павлуша!
– Нате, нате вот! – кинулся я, выхватывая из кармана тот самый белый платочек, который снял с мачты.
Галина Сидоровна, не раздумывая, схватила его.
– Идем быстрей в хату. Тут ничего не видно. Нужно промыть, зеленкой смазать.
Мы с Павлушей нерешительно топтались на месте, не зная, идти ли нам тоже в хату, или остаться на дворе, или совсем убираться отсюда.
Но Пайчадзе подтолкнул нас в спину:
– Идем, идем, хлопцы! Идем!
В хате Галина Сидоровна засуетилась, разыскивая зеленку. Она бегала из кухни в комнату, из комнаты в кухню, хлопала дверцами шкафа и буфета, что-то у нее летело из рук, звякало, падало, разливалось, рассыпалось, и никак она не могла найти эту зеленку.
Старший лейтенант смотрел на нее растроганно-влюбленными, сияющими глазами.
А мы смотрели на него.
На коротко стриженной голове его, будто рожки у молодого чертика, выпирали две здоровенные шишки, а из-под волос на лбу стекала тоненькая струйка крови.
Мы смотрели на него виновато и с раскаянием.
Найдя наконец зеленку, Галина Сидоровна взялась перевязывать Пайчадзе.
И, глядя, как бережно, с какой нежностью промывала она ему ваткой шишки и какое при этом блаженство было написано на его лице, я подумал: «Ну до чего же эти учителя все-таки странные люди! Они думают, что мы дети, что мы ничего не замечаем. Ха! Вы спросите Павлушу про Гребенючку! А я, думаете, Вальку из Киева не вспоминаю? Ого-го! Мы очень даже все хорошо понимаем. Прекрасно!»
Жаль только лейтенанта…
А крепкая у него все-таки голова. Если бы мне вот так долбанули раза два по кумполу, то он, наверно, треснул бы как арбуз.
– Простите, пожалуйста… Пожалуйста… простите, – виновато пролепетали мы.
– Да что вы, хлопцы! – радостно улыбнулся Пайчадзе. – Это самые счастливые минуты, да, в моей жизни. И это сделали вы, да!
– Мы думали, что вы хотите украсть… – пробурчал я.
– И решили спасать… – пробурчал Павлуша.
– Спасать?! А? Спасать? Ха-ха-ха! – загрохотал на всю хату лейтенант. – Слушай, Галя! Слышишь, какие у тебя геройские питомцы, да! Вай, молодцы! Вай! Ты права, им нельзя ссориться, да, ни за что нельзя ссориться! И вы никогда не будете ссориться, правда? Ваша дружба, да, будет всегда крепкой, как гранит того дота! Вы на всю жизнь запомните, да, тот дот! И вы, конечно, не сердитесь на нас за эту тайну, да? «Г.П.Г.» Герасименко. Пайчадзе. Гребенюк. Но все, что вы сегодня прочитали там, святая правда.
Павлуша вытаращился на меня:
– Г-где… что прочитали?
Я пожал плечами.
– Как! Разве вы сегодня не были у дота? – теперь уже удивленно проговорил старший лейтенант.
Он глянул на Галину Сидоровну. Та растерянно захлопала глазами.
– А… а этот платочек? – Галина Сидоровна подняла руку с платочком, который я ей дал. – Это ведь… это ведь… тот самый, я же вижу. Мой платочек, который я дала Гане. Ой, мальчики…
Павлуша вопросительно взглянул на меня. Я опустил голову:
– Это я… снял. Он даже не знает. Я случайно увидел, как она прицепляла. Я думал, что она как-нибудь узнала и хочет посмеяться. Поссорить нас снова.
– Да что ты! Что ты! – воскликнул старший лейтенант. – Скажешь еще – поссорить! Совсем наоборот! Это ведь она все придумала, чтоб помирить вас. Помирить, понимаешь! Она замечательная девчонка!
Павлуша покраснел и опустил глаза.
И я вдруг вспомнил, как обрызгал Гребенючку грязью, а она сказала, что это грузовик и что сама виновата…
И я тоже покраснел и опустил глаза.
Боже мой! Неужто я такой болван, что все время думал про нее бог знает что, а она, оказывается, совсем не такая?! Что ж тогда она должна про меня думать? Она же наверняка считает, что я самый настоящий болван.
И выходит, что это правда! И никто этого так не знает, как я сам!