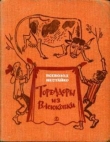Текст книги "Тореадоры из Васюковки (Повести)"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Глава IV
ПЛЯЖ. КАРУСЕЛИ. УТОПЛЕННИК. НЕЗНАКОМЕЦ ИЗ ТРИНАДЦАТОЙ КВАРТИРЫ
И вот мы бежим по лестнице из «Городка развлечений» вниз к набережной. Хорошая лестница. Только слишком длинная. Хоть и вниз бежишь, а все равно запыхиваешься.
– Чего бежать? Не успеем, что ли? – говорю, а сам думаю: «Нужно силы для прыжка беречь. Кто знает, как оно там будет? Все-таки первый раз!»
Сбавили мы скорость. Пошли шагом.
Внизу не то ворота, не то беседка – не разберешь. И на ней огромная колонна с какой-то штуковиной на верхушке.
– Постой, – говорит Ява. – Тут что-то написано.
Ява любит читать всякие исторические и мемориальные надписи. Подходим. К стене прикреплена мраморная дощечка:
ПАМЯТНИК
В ЗНАК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КИЕВУ МАГДЕБУРГСКОГО ПРАВА
Сооружен в 1802 году
Архитектор А. И. МЕЛЕНСКИЙ.
Вот никогда бы не подумал, что это памятник! Ведь памятник – это или конный или пеший, но всегда какой-нибудь герой… полководец или гений. А тут какое-то «Магдебургское право»! Ну и ну!..
Надпись на мемориальной доске была не единственной. Кроме нее, еще было много надписей. Но уже от руки и значительно более позднего происхождения. Все «Магдебургское право» было густо исписано довольно-таки однотипными формулами: «Коля + Оля = любовь», «Вася + Тася = любовь», «Юра + Нюра = любовь» и т. д.
А один какой-то намалевал во-о-от такими буквищами свою формулу, аж метра на три от земли: «Жека + Лёха = любовь». Наверно, ему пришлось принести для этого из дому стремянку. Ведь не могло же у него быть такое длинное тело! По-человечески его, должно быть, звали Алеша, а ее Женя; писал он по-русски и не знал, дурачок, что по-украински «леха» – «свинья». И вышло, что он сам себя обозвал свиньей.
То, что никто из них не имел пятерки по чистописанию, было сразу видно – таких кривулей они навыводили. И еще было ясно, что друг друга они, может, и любили, но больше не любили никого, потому что так испоганили памятник – смотреть тошно.
– И зачем только их грамоте учили! – с чувством сказал Ява.
«Смотри ты, какой правильный! А не ты ли, дорогой Явочка, писал мелом на сарае за школой разные лозунги против завуча Саввы Кононовича?» – подумал я. Но сказать не сказал. Ведь и сам я был грешен: писал на заборе всякие глупости. А ведь это вон как нехорошо. Больше не буду!
Исполненные благородных чувств, мы направились к пешеходному мосту, что ведет на Труханов остров. По мосту непрерывным потоком шли люди. Куда ж это они? Там ведь и так ни стать, ни сесть… Ох, не иначе, как раздавят там кого-нибудь сегодня. Ох, не обойдется сегодня без жертв!
Жертвы… Чем ближе мы подходим к парашютной вышке, тем сильнее шевелится в моей груди что-то паршивое-препаршивое, скользкое и холодное. Высока все-таки, холера!.. Это тебе не ива, с которой мы в речку ныряем. Если не раскроется парашют, то только – ляп! – и квакнешь…
Интересно, бывает так, что не раскрывается парашют на парашютной вышке?.. Бывают ли там несчастные случаи? И жертвы…
Мы перешли мост, свернули влево, к вышке. Интересно, о чем сейчас думает Ява? Как-то очень уж бодро он идет, чересчур уж бодро. Так серьезные люди не ходят в первый раз с парашютом прыгать.
Приглядываюсь я к парашютной вышке. Что-то не видно, чтобы кто-то с нее прыгал. Может, уже сегодня была какая-то жертва… А мы, два дурака, идем…
Умные люди вон в пинг-понг играют, в настольный теннис – совсем безопасная игра, полностью гарантирует жизнь. Стоит двадцать столов, и белые пластмассовые шарики так и скачут по ним, как пузыри во время дождя…
А вот и парашютная вышка. Ты смотри – нет ничего. И парашюта не видно. А канат, на котором он должен висеть, заброшен куда-то наверх.
Недалеко от вышки сидел под деревом какой-то полуголый пожилой дяденька в парусиновых брюках. Уже то, что он был не в трусах, а в брюках, заставило меня подумать, что это кто-то из администрации.
Я подошел и спросил:
– Скажите, пожалуйста, а вышка разве не работает?
Дяденька взглянул на меня и хмыкнул:
– Чего ж не работает? Работает. Только видишь – нет парашюта. Кто-то украл, говорят. А без парашюта с нее прыгать опасно. А впрочем, попробуйте, хлопцы. Я вижу, вы такие герои, что вам и парашют не нужен.
Мы поняли, что дяденька шутит. Ну конечно же, не работает вышка, не работает… Ур-ра!
– Вот жалость, – сказал я.
Рядом с вышкой была карусель. Я сначала подумал – карусель как карусель, обычная. А потом присмотрелся – э, нет, не совсем обычная. На высоком железном столбе огромное колесо, а к тому колесу на длинных цепях сиденья подвешены. Крутится колесо, и сиденья крутятся, в сторону отклоняясь, – вроде того, как консервную банку на проволоке над головой раскручивать.
Глянул я на Яву:
– Давай?
– Давай.
Выскребли мы последние копейки. Заплатили. Сели. Поехали! Сперва потихоньку-потихоньку. Потом все быстрее, быстрее…
– Ого-го-го-го-о!.. – кричу я.
Ну и лихая карусель! Совсем ты как птица летишь по воздуху, как будто и не держит тебя ничто… Ух-ух-ух!..
– Др-р-р-р!.. – Это опять я. Рокот мотора изображаю. Будто лечу на сверхзвуковом истребителе. – Та-та-та-та-та-та-та!.. – из пулемета стреляю по Яве.
Ява оборачивается и тоже:
– Та-та-та-та-та!..
– Иду на таран! – кричу, подлетаю к Яве – шарах его сзади! – и он отлетает от меня. А потом подлетает – шарах меня! – и я отлетаю…
И-их!.. Вот карусель! Ну и карусель! И никаких тебе несчастных случаев! Никаких жертв! Цепь такая, что вола выдержит.
Вот так бы летал и летал… Целый день бы летал…
А тут вдруг тише… И еще тише… И совсем – стоп!
– Приехали! Вылезайте!
– Тю! Так мало?
– Если хотите еще, пожалуйста – платите деньги и карусельтесь сколько вам влезет.
Де-е-ньги! Где же нам взять эти деньги, если они вот тут, в животе! И зачем мы столько мороженого слопали! Могли бы ведь и меньше на две-три порции! Как раз бы на карусель. А теперь из-за этого паршивого мороженого приходится отказаться от такого для меня необходимого, такого летческого развлечения.
Эх, дурак я, дурак! Ну, у Явы ухо, ему нужно! А я чего? Чего я-то? Вот бы мне и сэкономить. Пусть бы Ява один ел. Мороженого и в Васюковке сколько хочешь. А такую карусель когда еще поставят? Я уж к тому времени и вырасту…
Ява, видя мое настроение, сочувственно вздыхает и говорит:
– Идем хоть искупаемся…
– А! – машу я рукой. – Что мне купаться! Что я, в Киев купаться приехал? Я дома во-о как накупаться могу… Да и где тут. Среди людей, как в лесу, заблудишься. До воды не доберешься. Да у берега уж и воды не осталось – одни люди…
Но это я только так сказал, чтобы досаду на чем-то сорвать. Быть на киевском пляже и не искупаться мог только какой-нибудь хворый или ненормальный. Особенно в такую жарищу. И вот стали мы пробиваться к воде.
Я не могу себе точно представить, что такое миллион человек. Но уж если представлять, то, пожалуй, нужно вспомнить киевский пляж. По-моему, там было не меньше! Кто не верит, пусть проверит.
Это было похоже на какой-то гигантский базар. Только что все голые и не торгуют. Никогда я не видел столько голых людей сразу. Ну, приходилось видеть одного, двух, трех… Ну, два-три десятка – в бане. А тут миллион голых! Даже не верится, что такое бывает.
Древние люди, которые адское пекло выдумали, были просто без всякой фантазии. Разве ж у них пекло?! Вот киевский пляж в жаркий выходной день – вот это пекло! Уж тут и вправду пекутся и жарятся на солнце. Половина людей лежит нагишом молча, без движения, закрыв глаза, как мертвые. Лишь по тому, как колышутся их животы, можно понять, что они еще живы, еще дышат. Другая половина непрерывно что-то ест – жует, глотает, чавкает, пьет молоко из треугольных пакетов, пиво и лимонад из бутылок.
Кажется, что эта половина пришла на пляж специально, чтобы поесть. И только небольшая частица людей барахтается в воде. Но и этой небольшой частицы достаточно, чтобы вытеснить телами половину воды из Днепра. Еще одна незначительная частица все время куда-то идет. Идет, переступая через тела, наступая на чьи-то ноги, руки, головы и другие места. Но и этой незначительной частицы достаточно, чтобы создать впечатление вокзальной толкучки. А вон – хоп! хоп! хоп! – под деревьями волейбол. Стоят в кружок и лупят по мячу. И ведь нет, чтобы нормально играть, а всё стараются так, чтобы кому-нибудь в голову угодить. Разноцветные мячи не столько в воздухе летают, сколько по песку катаются, через людей перескакивая. Такой уж это пляжный волейбол.
А вон «геркулесы» ходят, важничая, то и дело напружинивая мышцы и грудь колесом выставляя. И у каждого на руке номерок на резинке от гардероба, будто все «геркулесы» кем-то пронумерованы.
– Здорово, Гарик!
– Привет, Шурик!
– Чао, Марик!
Эти «геркулесы» друг с другом здороваются, не останавливаясь и не поворачивая головы, чтобы не утратить стройность фигуры. И все эти пронумерованные марики, гарики и шурики, похожие своей важностью на индюков, отличались от остальных людей тем, что были разрисованы татуировками. Татуировки были у них где хочешь – на руках, на груди, на ногах и даже на спине. И что только не было выколото! И корабли, и орлы, и звери, и женщины, и кинжалы, и разные мудрые изречения, например: «Смерть за измену» или что-нибудь в этом роде. Это во-первых. А во-вторых, у всех что-нибудь висело на шее. Какая-нибудь цепочка, а на ней или подковка, или бляха, или какая-нибудь женская брошка, или ключ, или даже… крестик. И чуднó было видеть этот крестик на груди, где выколот пиратский корабль, кинжал да еще и «Смерть за измену». Ясно, что этот крестик ничего общего с богом не имел, что это просто мода.
«Чего доброго, у них еще и поповская ряса в моду войдет, – подумал я. – И будут ходить тогда киевские гарики в поповских рясах по Крещатику…»
А вон какой дядька чудной. Там, где у людей волосы (на голове, например), у него лысина, а там, где у всех гладко (на спине, например), у него густая рыжая шерсть, как у медведя. А он лежит, загорает. Вот чудак! Ну как же ему загореть? Солнце ведь к телу сквозь этот мех не пробьется!
А вон старикан какой! Из воды выскочил и ну гимнастику делать: и приседает, и на руках от земли отжимается, и подпрыгивает, как хлопчик. Сам худущий, сверху лысина, а по бокам головы длинные волосы до самых плеч. И улыбается во весь рот, подмаргивая кому-то. Ну и дед!.. Ух! Вы гляньте только, что там делается! Старая бабуся, седая и сморщенная, в теннис, или, как его, в бадминтон ракеткой вымахивает. Так вымахивает, аж в глазах рябит. Ого-го! Интересно было бы посмотреть на нашу бабку Триндичку с такой ракеткой. Все село бы сбежалось. А тут никто и внимания не обращает.
Интересные старики и старушки в Киеве. Какие-то ребячливые. Будто старые дети. А молодые парни наоборот. Вон идут двое. Ну, лет по двадцать, не больше. И оба с бородами. Чудеса!
А вон какая-то тетя спит под деревом. Завернулась с головой в одеяло и храпит. И чего она на пляж пришла, непонятно. Дома под одеялом лучше выспаться можно.
А сколько детей! Сколько детей на пляже! Только и слышишь:
– Сема, выйди из воды! Выйди из воды, Сема!
– Галочка, не заплывай! Плыви назад!
– Саша, где твои тапочки? Где твои тапочки, я спрашиваю!
– Алик, сними мокрые трусы.
– Толя, отдай ему мяч. Толя! Это ж не твой мяч, это его мяч.
– Яша, за такую вредность ты больше купаться не будешь. Не будешь… за вредность.
– Фаня, ты опять насыпала песку в мои туфли? А ну-ка высыпь сейчас же!
– Деточка, ну съешь яичко! Одно только яичко! – говорит толстая тетя в полосатом купальнике, протягивая облупленное яйцо щекастому здоровяку лет двенадцати.
Тот воротит нос и морщится – не хочет.
– Деточка, ну съешь, прошу тебя! – умоляет тетя.
А из воды восторженно верещит худенький, как воробей, мальчишка лет шести:
– Мамо, вода! Мамо, Днипро! Мамо, я купаюсь! Мамо, вода! – как будто он никогда в жизни воды не видел и не купался никогда.
Мы подошли к самой воде и начали выбирать место, где можно положить вещи. Между прочим, глядя на Днепр, который кишел людьми, я подумал: «Вот если б кто-нибудь тонул, а мы бы его спасли! Лучше бы, конечно, чтобы какой-нибудь ребенок – легче спасать…»
Это была наша постоянная, пока еще не осуществленная мечта – кого-нибудь спасти и вообще стать героями. Особенно хорошо бы вот так, при всех, чтоб видели… Чего бы вон тому шустрому пискуну не забулькать, например… Мы бы его в миг – раз! – и будь здоров. И в «Вечернем Киеве» на следующий день заголовок: «Юные герои из Васюковки».
– Из «Вечернего Киева» как раз интересовались вчера… – услышал я вдруг веселый голос. И вздрогнул: уж не подслушал ли кто-нибудь мои мысли?
Нет, это просто разговаривали двое мужчин. Один, невысокий, круглолицый, стоял по колено в воде. Другой, широкоплечий, с крючковатым носом, стоял на песке у самой воды. Он был уже одет (возможно, шел домой), но еще не обулся – ботинки держал в руке.
– Все расспрашивали про роль царя, – продолжал круглолицый. – Нет, отвечаю, нечего еще говорить. Как будет готово, тогда и приходите.
– Правильно, – поддержал горбоносый. – Никогда не нужно рассказывать заранее. Я терпеть не могу, когда вот так делятся творческими планами, обещают, берут обязательства, а потом… пшик! – и ничего нет. Ну, ни пуха ни пера! Я побегу, а то уж и так на радио запаздываю… Бывай! Привет Галинке. Я забегу на днях… Дом я помню… А квартира, если не ошибаюсь, тринадцатая? Так?
– Так-так! Тринадцатая! Заходи обязательно! Бывай! – радостно улыбаясь, крикнул круглолицый, а когда горбоносый отошел, негромко, но так, что мы слышали, буркнул: – К черту!
Мы с Явой переглянулись и заулыбались. Мы знали, что когда говорят «ни пуха ни пера», нужно посылать к черту, но чтобы это делал взрослый, в первый раз слышали.
Круглолицый артист сделал торопливо несколько шагов, собираясь нырнуть, и вдруг остановился, вскинув руки:
– Ух ты! Часы забыл снять! – Обернулся, увидел нас: – Хлопчики, будьте добры, положите вон там, на серые брюки, чтобы мне не возвращаться, – и протянул часы.
Я стоял ближе к нему, я и взял. А артист сразу – бух в воду! И поплыл кролем, вспенивая воду ногами, как моторная лодка. Здорово плавает… Несколько секунд мы смотрели, как он плывет. И вдруг где-то слева раздался вопль:
– Утонул! Утонул!.. Утопленника вытащили!
– Где? Где? – так и подскочили мы.
И кинулись туда, куда уже бежали люди.
А что? Если бы при вас закричали «утонул», вы бы разве стояли на месте? Тем более, если вы только что мечтали кого-нибудь спасти! Да и к тому же еще учтите, что вы никогда не видали настоящего живого утопленника…. То есть не живого, конечно… а вообще… ну, одним словом, утопленника.
– Где? Где? Где? – шныряли мы среди людей, стараясь что-нибудь увидеть.
Но люди стояли плотно, и никакого утопленника не было видно.
Тогда мы бросились на четвереньки – и между ногами, между ногами, как щенята… Наконец увидели. На песке лежал навзничь кто-то огромный и длинный, а на нем верхом сидел худенький и остроносый, уже немолодой человек с кустиком седоватых волос на груди. И делал искусственное дыхание. Раз! Два! Раз! Два! Методом Силивестрова.
– Теперь дайте мне, – сказал загорелый крепыш-спасатель, который только что подплыл на своей лодке. Видно, ему было очень неловко из-за того, что не он вытаскивал утопленника, а самый обыкновенный человек, да еще и такой неказистый…
Мы пригляделись к утопленнику. Это наверняка был один из тех самых гариков-мариков, потому что на шее у него висела на цепочке подкова, а на руке было выколото сердце, пробитое стрелой, и под ним изречение: «С юных лет счастья нет».
Дважды сменялись остроносый со спасателем, а утопленник все не оживал. В толпе гомонили:
– Такой молодой…
– Вот беда!
– Да как же это случилось?!
– Говорят, заплыл за буек, а там его то ли судорога схватила, то ли еще что…
– Ох уж этот Днепр, сколько он жизней уносит!
И вдруг утопленник открыл глаза. В толпе возбужденно загудели.
Утопленник поднял голову, обвел людей мутным взглядом и оперся на локти. Остроносый, который как раз делал ему искусственное дыхание и сидел на нем, втянул носом воздух, поморщился и воскликнул:
– Так он же пьяный!
Спасатель тоже наклонился к утопленнику:
– Ну точно! Разит, как из бочки!
– Ах ты черт!
– Ну и сукин сын!
– Нализался – и в воду…
– В такую жарищу пить – гробовое дело!
– Вот тебе и судорога…
– Такой молодой! – слышалось вокруг.
Остроносый, все еще сидя на воскресшем пьяном «утопленнике», смотрел-смотрел на него, а потом поднял руку и – хлоп! хлоп! – ему по морде, аж зазвенело.
– Правильно!
– Так его!
– Чтоб знал, как пить! Как людей нервировать!
– Думали, несчастная жертва, а он…
– Еще ему! Еще!
– Добавить!
Настроение у толпы сразу изменилось, напряжение спало.
Остроносый резко поднялся, перешагнул через «утопленника» и пошел прочь. Толпа расступилась перед ним, давая дорогу.
– Ничего, мы его в вытрезвитель отвезем, там с ним поговорят, – бодро сказал спасатель, беря «утопленника» под мышки и ведя к лодке. – Ты бы хоть спасибо сказал человеку, который тебя вытащил!
– Хоть бы фамилию узнал!
– Думаешь, легко было ему такого бугая из воды тащить! – кричали вслед «утопленнику». Но тот только глуповато таращил глаза – видно, еще не очухался. Лодка отчалила, все стали расходиться.
– Ой! Нужно ведь часы положить! – спохватился я, только теперь обнаружив, что все еще держу их в руке. Кинулись мы с Явой назад. Туда-сюда… А где же серые брюки? Нет их. Может, не тут, может, левее?.. И там нет… Что такое? Дядя, где вы? Мелькают перед глазами сотни лиц – и всё незнакомые. Кажется, не тут… Дальше… Ой, нет!.. По-моему, назад… Нет, нет, вперед… Нет, я тебе говорю – назад… А может, правда, вперед? Бегаем мы взад и вперед, не можем найти ни места того, ни артиста, ни серых его брюк… Да и как же его найдешь, если всюду и песок одинаковый, и люди одинаково голые, никаких особых примет!
Ох, и зачем нам нужен был этот пьяный «утопленник»?! Что теперь будет?!
– А ну, Ява, давай в воду! Может, тот артист еще плавает.
Разделся Ява – бултых в реку.
А я на берегу. Далеко отбегать не решаюсь, чтоб хоть Яву не потерять. Но все время ищу – людям в лица заглядываю…
Через полчаса вылезает Ява из воды. Отдувается устало:
– Нету…
– Может, он… утопился? – растерянно говорю я.
– А брюки? Брюк же нет… А поплыл он без брюк… – уверяет меня Ява. – Да и плавает он так, что море тебе переплывет и не утонет.
– Что же делать?
– А я знаю?
Такая досада меня взяла – хоть плачь. Хороший, симпатичный человек дал мне часы. «Будь, говорит, другом, положи на мои брюки, чтоб мне не вылезать». А я… друг называется! Забрал часы и – фить! – ищи ветра в поле.
– Ява, ведь получается, что я стянул эти часы, – сказал я, скривившись.
Ява пожал плечами.
Никогда в жизни я не был так себе противен, как сейчас. Конечно, бывало с нами всякое… Трясли мы иногда дикую грушу у соседки бабы Насти, у Кнышихи. Так там этих груш бывало столько, что они все равно гнили в траве неубранными. Да и баба Настя такая скряга, такая вредина была, что от нее вся наша улица стонала. И потому трясли мы эту грушу не столько из-за паршивеньких дичков, сколько в знак протеста против жадности ее хозяйки.
А то еще, когда был маленьким, стащил у тети пирожок с маком. Так ведь это же у родной тети, и какой-то там пирожок… А то у чужого человека, и не пирожок, а часы, дорогую вещь…
А мы-то собирались воров ловить! Как же ловить, если сами… воры!
Мне хотелось встать и со слезами в голосе крикнуть на весь пляж: «Товарищи милиционеры! Берите меня за шкирку и ведите в отделение. Я вор! Я украл часы у хорошего человека, который поверил в мою честность. Арестуйте меня, товарищи милиционеры!»
Но я не встал и не крикнул. Потому что не было, на мое счастье, поблизости ни одного милиционера. А может, и был, да только голый. А разве узнаешь милиционера, если он голый! Да и вообще, голый милиционер – это не милиционер. Никакого трепета перед голым милиционером не испытываешь. Вот, скажем, товарищ Валигура, милиционер, который живет у нас в селе. Его, например, местный пьяница Бурмило признает только тогда, когда тот одет по всей форме. А когда, бывает, возится милиционер у себя в огороде без фуражки и без кителя, в одних галифе, и в это время позовут его люди утихомирить Бурмила, и Валигура придет в чем был, то Бурмило на него и смотреть не хочет, только злится:
«Кто еще такой? Тьфу! Не знаю тебя! Уходи отсюдова! Пшел! Тьфу!»
Но стоит только Валигуре надеть милицейский китель и фуражку, как Бурмило сразу становится смирным, как овца, и говорит: «Извините, гражданин начальник», и идет домой спать.
Нет, голый милиционер – это не милиционер…
– Знаешь что? – сказал Ява. – Так мы артиста все равно не найдем.
– Так что – в милицию? – перебил я его, чувствуя холодок под сердцем.
– Угу! – хмыкнул Ява. – Нас там как раз дожидаются. Иди! Будь добр! И передай привет подбитому милиционеру.
– Так что же теперь? – спросил я, чуть не плача.
– Мы как сюда пришли? По мосту. А назад люди идут? Тоже по мосту. Другой дороги нет. Так вот, сядем у моста и будем ждать. Или мы его увидим, или он нас. А с пляжа он еще не ушел. Точно! Куда он без часов пойдет?
«Ну что ж, – подумал я. – Может, и правду говорит Ява. Лучше, наверно, возле моста сидеть, чем, высунув язык, бегать по пляжу». Сели мы возле перил; Ява – с правой стороны, я – с левой. Сидим. Уж солнце на закат повернуло. Потянулись люди с пляжа домой. Плотной стеной, почти впритирку друг к другу идут и идут… Аж глазам больно… И голова кругом идет. Разве заметишь кого-нибудь в такой толпе? Одна надежда, что нас заметят.
И такой у меня несчастный вид был, что какая-то женщина внезапно нагнулась ко мне, проговорив: «Бедный ребенок», и неожиданно сунула в руку три копейки. Меня всего так и передернуло – она решила, что я побираюсь. Опомнился я – женщины уж и след простыл. Так и остался я с тремя копейками… До чего я дошел, просто беда!.. Хорошо, хоть Ява не знает: из-за людей нам друг друга не видно. Вскочил тут же и теперь уже стоя смотрел, а руки за спину спрятал, чтоб снова, не дай бог, не пожертвовали.
Стемнело уже. Людей все меньше и меньше становится. А артиста нет.
Урчит у меня в животе от голода. Мы ведь, кроме мороженого, ничего не ели. Подошел ко мне Ява:
– Ну и олухи мы с тобой! Что мы тут стоим? Он артист? Артист. Так пойдем завтра по театрам и найдем его. Тем более, мы знаем, что он царя играет.
Вот! И как я сам до этого не додумался? Ну Ява! Ну и молодец! Варит у него котелок все-таки! Башковитый хлопец! Ну конечно, пойдем завтра по театрам (в Киеве каких-нибудь пять-шесть театров) и найдем нашего артиста, и отдадим ему часы, и расскажем все, как было, про утопленника и про все остальное.
Как хорошо становится жить на свете, когда найден выход из безвыходного положения!
– Ну давай хоть рассмотрим хорошенько, что за часы, – сказал Ява.
Стали мы под фонарем (уже и фонари зажгли!), давай разглядывать.
Хорошенькие часики! Круглые и плоские, как пятачок. На черном циферблате вместо цифр черточки золотые. И стрелки золотые. И этих стрелок не две, а целых три. Третья, длинная и тонкая, как волос, по всему циферблату бегает – секунды отмеряет. Красивые часики. Мы таких еще и не видели.
– А ну, – говорит Ява, – примерь.
– Не хочу.
– Чего там! Раз ты все равно как вроде бы украл их, то хоть примерь, хоть поноси немного. Завтра уж не придется.
– Не хочу я чужие часы носить.
– Ишь какой гордый – без хлеба на воде и от хлеба отказывается… Ну, раз ты такой гордый, давай я поношу.
И он взял у меня часы, и надел на руку, и сразу стал на пять лет старше. Даже лицо у него стало строже и серьезнее. Он шел и гордо нес руку с часами, отставив ее в сторону, прямую и негнущуюся, как палка, и все искоса поглядывал на нее. Иногда он сгибал ее в локте и подносил к глазам – смотрел, который час. А меня не замечал и не говорил ни слова, будто меня и на свете не было.
И стало мне горько и досадно, что сам я не надел часы. Часы ведь, можно сказать, «мои», я муки душевные за них принял… А носит их Ява, да еще и бахвалится!
Когда мы прошли всю набережную и очутились у моста имени Патона, я наконец не выдержал и сказал:
– Хватит! Снимай! А то еще… испортишь, а мне отвечать.
Вздохнувши, Ява неохотно снял часы и снова стал на пять лет моложе и такой же несолидный, как и был.
Я спрятал часы в карман и только тогда успокоился. Потом вспомнил:
– Я же забыл тебе сказать… на мосту мне какая-то тетка три копейки дала.
– Да? – встрепенулся Ява. – Так чего же мы пешком идем! Надо было на трамвае ехать. А то я уже еле ноги тащу.
– Так это же милостыня, балда! Кто же на милостыню в трамвае ездит!.. Тетка мне милостыню подала, понимаешь, думала, что я нищий.
– Вот как! Интересно! – взял наконец в толк Ява. – И что же ты с ними делать будешь?
– Так вот я и не знаю…
Действительно, положение было дурацким. Взять себе? Ни за что!.. Выкинуть? Деньгами только господа капиталисты швыряются. Думали мы с Явой, думали и, наконец, придумали – отдать настоящему нищему, как только встретим…[7]7
Эти три копейки до сих пор лежат у меня дома, – все никак настоящего нищего не встречу… (Примеч. автора.)
[Закрыть]
– А с часами-то как интересно вышло! – с жаром сказал Ява, и в глазах у него вспыхнул охотничий блеск. – Ведь здорово! Прямо как преступника искать! Между прочим, очень важно, что мы знаем, где он живет. В тринадцатой квартире…
– Ужасно важно! – хмыкнул я. – Ты знаешь, сколько в Киеве тринадцатых квартир? Чтоб обойти их все, нам жизни не хватит.
– И все равно интересно… – не сдавался Ява. – И похоже как ловить воров. Только тут наоборот… Наоборот, понимаешь… Воры ловят потерпевшего, чтобы отдать ему то, что украли. Кино! Скажи?
– Будет теперь нам кино, увидишь, что нам тетка скажет. Она, наверно, уж голову потеряла от волнения…
…Тетка нам ничего не сказала. Она лежала молча на тахте с компрессом на голове. Нам сказал дядя… Он сказал:
– Если бы вы, шалопуты, были мои сыновья, я бы сейчас вам по одному месту так надавал, что вы в штаны бы завтра не влезли. А поскольку я не имею права этого делать, то прямо скажу: еще хоть раз такое повторится, я немедленно покупаю вам билеты и в тот же день отправляю в Васюковку. Из-за вас вдовцом оставаться не хочу. Тетка чуть не умерла от волнения. Вон видите, лежит с головной болью…
Мы стояли опустив голову и что-то лепетали про то, как были в кино, а потом катались на «чертовом колесе», а потом… были в гостях у одной знакомой девочки (Валька Малиновская, честное слово, вот и адрес, можете проверить!) и как нас там хорошо принимали, и угощали, и усадили смотреть телевизор, и не хотели отпускать, и… мы больше не будем!
Потом мы выпили одного чаю («В гостях же во-о ка-ак наелись!») и голодные легли спать.
…Мы лежим и не можем заснуть.
На меня находит приступ запоздалого раскаяния. Совесть точит меня, как червь дерево.
– Ведь как все паршиво выходит! – с горечью шепчу я. – Хотим стать героями, а только и делаем, что врем да обманываем. И только за один день! Артиста обманули и, можно сказать, обокрали, милицию с ног сбили, трешку прокутили, тете наврали, дяде наврали, даже… милостыню получили. Неужели для того, чтобы стать героем, нужно так много врать и столько нечестных поступков совершить? Если так, то весь этот героизм ничего не стоит! Какой-то брехуновский героизм. А настоящие герои – это прежде всего честные люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Кристо, капитан Немо, Катигорошко, Покрышкин… Никогда они не врали. А мы брехуны и жулики…
Ява вздыхает в знак согласия.
– Конечно, – говорит он. – Что-то мы совсем заврались и… вообще… давай больше не будем.
– Конечно, давай, – говорю, – только нужно что-то придумать, что нас бы сдерживало. Давай дадим клятву (может, даже кровью), что больше не будем врать. И условимся: если не можешь или не хочешь сказать правду, молчи; как бы ни выпытывали, как бы ни домогались – молчи, и все.
– Хорошо, – кивает Ява. – Только кровью мы уже клялись – это не помогает. Давай так: если все-таки соврал, не удержался, тогда… тогда другой дает ему три щелчка в лоб. Причем немедленно и где бы ни случилось: на улице, в школе, на уроке или даже в президиуме собрания. И не имеешь права увертываться или отбиваться. Ни в коем случае. Святой закон! За первое вранье – три щелчка, за второе – шесть, за третье – двенадцать, и так далее. Сила! И волю будем закалять… А это для героизма знаешь как нужно!
Ява обязательно должен придумать что-нибудь интересное. И на этот раз я подозревал, что не так ему щелчками от вранья вылечиться захотелось, как чтобы интересно было. Но я не стал спорить – лишь бы результат был хороший.
На этом и порешили.
И, чувствуя себя уже почти на сто процентов честными, мы спокойно заснули.