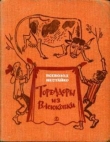Текст книги "Тореадоры из Васюковки (Повести)"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Глава XXV
ВСЕ! КОНЕЦ! ДАРЮ ВЕЛОСИПЕД. «ЗАГАЗА ЧЕГТОВА!» Я ВЫЗДОРАВЛИВАЮ
Проснувшись, я увидел, что возле кровати на стуле сидит Иришка и читает журнал «Барвинок».
В хате было солнечно, прямо глаза слепило, часы на стене показывали без четверти десять, и я понял, что это утро.
Иришка сразу отложила журнал и вскочила со стула:
– Ой, бгатишка, милый!.. Сейчас будешь завтгакать.
Она у нас не выговаривает букву «р».
В один миг Иришка поставила передо мной на стуле молоко, яичницу, творог и хлеб с маслом.
Я догадался, что в хате никого нет, все на работе, и ей поручено приглядывать за мной.
– Ну пожалуйста, милый бгатишка, ешь! – сказала она сладким голосом.
Я насторожился.
А уж когда она в третий раз сказала «милый бгатишка» («Милый бгатишка, спегва пгоглоти таблетку»), это меня уже совсем встревожило.
«Милый бгатишка!» Она никогда меня так не называла. Обычно она говорила «загаза чегтова», «так тебе и надо»… И вдруг – «милый бгатишка»!..
Плохи, выходит, мои дела. Может, и совсем безнадежны. Может, я уже и не встану. Потому-то все такие нежные со мной: и отец, и мама, и дед… И все время успокаивают – выздоровеешь, выздоровеешь. А я…
Вон сплю все время. Значит, нет в организме сил, энергии для жизни. Вот так засну и не проснусь больше. Голову даже поднять от подушки не могу. Поднимусь, сяду на кровати, а голова кругом идет, даже мутит…
Я взглянул на творог, на яичницу и вспомнил слова деда Саливона, которые он любил повторять: «Как без пищи быть силище. Живется, пока естся и пьется. На пищу налегай, и будешь, как бугай».
– Иришка, дай еще кусок хлеба с маслом, – сказал я тихим, глухим голосом.
– Что? Да ты же еще этого не съел!
– Жалко? – с горьким упреком взглянул я на нее. – Может, я… Может…
– Да что ты, что ты! Возьми! – Она побежала на кухню, откромсала от буханки огромную краюху, намазала маслом в палец толщиной и положила на стул. Прыснула и побежала за печь смеяться.
Я вздохнул. Ничего, ничего! Смотри, чтобы плакать не пришлось, когда меня… когда меня уже не будет…
Яичницу с первым куском хлеба я умял довольно быстро.
А вот тарелка творога, щедро политого сметаной, и краюха хлеба, принесенная по моей просьбе Иришкой, пошли туго. Полтарелки я еще так-сяк съел, а дальше начал давиться. Набивая полный рот творога и хлеба, я жевал-пережевывал эту жвачку по нескольку минут и никак не мог проглотить. Жевал, как какой-нибудь старый вол.
Уж я и молоком запивал, и резко запрокидывал голову назад, как это делает обычно мама, глотая таблетки, но только напрасно – не глоталось. «Ну, все! – с ужасом подумал я. – Уже и есть не могу. Организм пищу не принимает. Все! Конец! Крышка!»
Я бессильно откинулся на подушку.
Лежал и прислушивался, как внутри у меня что-то булькало: бурчало и перевивалось. Это гуляет в пустом животе одинокая яичница в окружении творога и молока, думал я. Гуляет, не имея возможности спасти слабеющий организм.
О! Кольнуло в боку!.. И нога занемела, наверно, кровь туда уже не доходит… И левая рука какая-то бессильная и вялая. Да ведь там же сердце близко! Видно, сердце уже отказывается работать…
О! Уже тяжело дышать! Прерывистое какое-то дыхание. И пальцы на руках посинели, видно, отмирают… Эх, жаль – нет Павлуши. Хоть бы с ним попрощаться. Не успею, наверно…
Из-за печи выглянул лукавый Иришкин глаз. Она смеялась. Она и не представляла, как мне худо. Она думала, что я придуриваюсь.
Нужно ее как-то разуверить, что это не шутки, что мне на самом деле плохо, что, может, это последние мои минуты… Я не мог умирать под ее хихиканье.
– Иришка, – чуть слышно проговорил я, – иди сюда.
Она вышла из-за печи.
– Иришка, – вздохнул я и смолк.
Она подошла поближе. Личико ее стало немножко серьезнее.
– Иришка, – вздохнул я во второй раз и снова смолк. Я должен был сказать в этот момент что-то значительное, что-то возвышенное и великое, что говорят только перед смертью. – Иришка, – сказал я наконец тихо и торжественно, – возьмешь себе мой велосипед… Я дарю тебе его…
И закрыл глаза.
– Ой! – взвизгнула она радостно. – Ой! Пгавда?! Ой! Сегьезно? Ой, бгатишка! Какой ты хогоший! Ой! Дай я тебя поцелую!
И ее губки мазнули меня по щеке возле носа. Я отвернулся к стене, потому как чувствовал, что вот-вот заплачу.
Мы с Иришкой чаще всего ссорились как раз из-за моего велосипеда. Она хотела на нем кататься, а я не давал. Я считал, что она еще сопливая, чтобы кататься на взрослом велосипеде, – только в первый класс пошла в этом году. Она и до педалей еще даже не доставала. Но все же умудрялась ездить – просовывала правую ногу сквозь раму и, извиваясь червяком, стоя крутила педали. Эта ее находчивость только раздражала меня. Такое уродливое катание, на мой взгляд, было просто издевательством над велосипедом.
И вообще, кому хочется, чтобы на его велосипеде кто-то катался! Это всегда неприятно. Велосипед – это что-то очень личное, близкое, заветное. Это, по-моему, ближе, чем рубашка, штаны да что хочешь…
И теперь, подарив велосипед Иришке, я почувствовал, что мои счеты с жизнью почти что окончены.
Я слышал, как она, забыв от счастья про мою болезнь, уже вытаскивала Вороного из сеней во двор. И он жалобно дребезжал и звенел. Эти звуки разрывали на части мое умирающее сердце. Так в последний раз печально ржет верный конь, навеки прощаясь с казаком…
Я вытянулся, как мертвец, сложил на животе руки и обреченно уставился в потолок.
Я ждал прихода смерти.
Часы на стене неумолимо отбивали минуты.
Но неожиданно вместо смерти пришла доктор Любовь Антоновна. Хлопнув дверью, она зашла в хату и быстрым шагом приблизилась к моей кровати.
Положила руку мне на лоб, потом взяла пульс.
И все это – не говоря ни слова, молча, сосредоточенно, строго.
Я замер в безнадежном ожидании.
Окончив щупать пульс, она подняла мне рубаху, склонилась и приложила маленькое холодное ухо к моей груди. Она всегда выслушивала больных прямо так, ухом, без всяких медицинских причиндалов.
И, только выслушав меня, она сказала наконец весело:
– Молодец, козаче! Все хорошо! Скоро будешь здоров. – И хлопнула меня ладонью по животу.
– Ну да! Хорошо! – буркнул я. – Вон уже и есть не могу. Организм не принимает. И голова кружится, подняться нет сил.
– Что? – Она удивленно взглянула на тарелки, что стояли на стуле. – А это кто завтракал?
– Да я же… видите… – вздохнул я.
– Ну, вижу. И яичницу, вижу, принял твой организм, и творогу полтарелки, и молока. Что ж ты хочешь? После такой температуры это даже многовато сразу. Запрещаю тебе есть по стольку! А голова кружится от долгого лежания. Нужно вставать понемножку, раз температуры нет. Разрешаю тебе сегодня встать минут на десять – пятнадцать и походить по комнате. Только не больше… «Организм не принимает»! – Она усмехнулась. – Эх ты, герой!
Я насупил брови и отвернулся.
Не очень-то я ей верил. Она доктор и должна успокаивать больных. Такая у нее работа. Ей за это деньги платят.
И все-таки после того, как она ушла, я почувствовал себя легче – перестало колоть в боку, и нога отошла, и руку отпустило. А сердце забилось живее.
Смерть пока что отступила.
Мне даже показалось, что я услышал, как она, загремев костями, побежала-покатилась куда-то прочь по дороге… Или, может, это загремел, упав вместе с Иришкой, мой велосипед?..
Мой?
Велосипед?
Какой же он мой?
Нет у меня больше велосипеда!
Нету!
Подарил!
Балда!
Да я ведь… я ведь… думал, что умираю.
«Подожди-подожди! Чего уж ты разволновался? Может, еще умрешь и не будешь балдой», – шепнул мне насмешливо внутренний голос.
«Тьфу, провались ты! – ругнул я его. – Лучше быть живым дураком, чем…»
Ну и что? Ну и подарил! Подумаешь! Родной сестренке подарил. Пусть себе катается на здоровье, милая, дорогая, се…
Во дворе снова что-то грохнуло и задребезжало.
Черт! Чего же она, растрепа, падает! Так ведь все спицы повыбивать можно!
Ну и пусть выбивает. Ее велосипед – может совсем его разбить. Чего тебе теперь беспокоиться? Тебе теперь не нужно беспокоиться.
Павлушка, значит, будет на велосипеде, Вася Деркач на велосипеде, Коля Кагарлицкий на велосипеде, Степа Карафолька, воображала, на велосипеде, – короче говоря, все, абсолютно все на велосипедах, а я – пешкодралом. На своих двоих.
М-да…
Тогда уж лучше умереть! Что ж за жизнь без велосипеда! Комедия! Смех!
Эх! Какой это был велосипед! «Украина». С багажником, с фарой, с ручным тормозом. А скорость какая! Ветер, а не велосипед!.. Был!
Во дворе снова задребезжало.
Доламывает!
Сердце мое разорвалось на части. «Разрешаю тебе сегодня встать на десять-пятнадцать минут».
Я поднялся и сел на кровати.
Встать! Хоть взглянуть на него в последний раз! Вот гляну, а потом уж… лягу и умру.
Я встал и, качаясь, заковылял к окну.
Иришка, высунув от старания язык, выгибаясь, кружила по двору. На лбу у нее светилась здоровенная шишка, на щеке царапина, коленка разбита. Но глаза сияли счастьем. И, видно, это счастье ослепляло ее и она ничего не видела. Во всяком случае, дубовый комель, на котором мы рубили дрова, она точно не замечала, потому что перла прямо на него. Я не успел даже рот раскрыть, как она задела за комель и…
Вот тут уж я рот раскрыл. Я не мог его не раскрыть.
Душа моя, которая еще держалась в теле, не выдержала.
Велосипед встал на дыбы и со всего маху грохнулся на землю, задребезжав всеми своими деталями.
– Ах ты!.. Чтоб тебя!.. Ты что делаешь?! – отчаянно закричал я.
Пусть я умру, но даже перед смертью я не могу спокойно смотреть, как погибает мой Вороной!
Лежа под колесом, Иришка растерянно хлопала глазами. Потом сразу насупила брови и молча начала выбираться из-под него.
Встала, подняла велосипед, смерила меня презрительным взглядом и с обидой прокартавила:
– Думаешь, я тебе повегила, что ты подагил? Я знала, что ты нагочно… загаза чегтова!.. – И, шмыгнув носом, отвернулась.
Я разинул рот и… улыбнулся. «Загаза чегтова…»
Солнце засияло в небе, запели птички и зацвели-запахли под окном розы.
Жизнь возвратилась ко мне.
Сомнений не было – я не умру. Раз меня опять ругают «загазой».
Дорогая Иришка, милая моя сестричка, я теперь всегда буду давать тебе велосипед – когда только захочешь! Честное слово!
Глава XXVI
СНОВА ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ. ТЫ МНЕ ДРУГ? «НИЧЕГО НЕ РАЗБЕРЕШЬ», – ГОВОРИТ ПАВЛУША
Пока мне было очень плохо, я не чувствовал, как идет время. Оно как будто не существовало.
А как только мне чуть полегчало, я сразу почувствовал, до чего же все-таки муторно болеть. Я никогда не думал, что часы могут быть такими долгими, а день – таким бесконечным. Раньше мне его всегда не хватало. Не успеешь, бывало, что-нибудь затеять, начать, как уже и вечер. А теперь до этого вечера была целая вечность. Она без конца и края тянулась, тянулась, тянулась, вытягивая из меня жилы. Этого вечера просто невозможно было дождаться. А ради вечера я только и жил на свете. Вечером приходил Павлуша. Правда, он забегал и утром и в обед, но это всего на несколько минут. А вечером он приходил часа на два, а то и на три и сидел до тех пор, пока я не замечал, что он уже клюет носом, и тогда я гнал его спать. Он очень уставал, Павлуша. И не только он, все уставали. Все село работало на улице Гагарина, приводя ее в порядок после страшного погрома, который учинила стихия за одну ночь. Отстраивали хаты, расчищали дворы, заново ставили снесенные заборы, чинили поломанные хлева и амбары, раскапывали погреба. Наравне со взрослыми работали и школьники, начиная с седьмого класса. Да и младшие не сидели сложа руки – каждый что-нибудь делал в меру своих сил и возможностей. Потому что рук-то этих, конечно, не хватало. Пора была горячая, уборка урожая – и фрукты и овощи… Хорошо, что хоть жатву закончить до дождей успели. Все работали с утра до вечера. Все. А я лежал себе паном – пил какао, ел гоголь-моголь и разные вкусные финтифлюшки, которые по ночам пекла мама для укрепления моего больного организма. Пил, ел и читал всякие приключенческие книжки.
А ребята трудились и ели самый обычный хлеб с салом.
И я им завидовал. Завидовал отчаянно!
Я ненавидел какао, гоголь-моголь и вкусные финтифлюшки.
Я бы променял все эти лакомства на кусок хлеба с салом в перерыве между работой.
Мой дед частенько называл меня «всемирным лодырем». Но если бы он знал, как мне, «всемирному лодырю», хотелось сейчас работать! Я бы не отказался от самой грязной, самой противной, самой тяжелой работы. Только бы со всеми, только бы там, только бы не лежать бревном в кровати.
Только теперь я понял одну вещь. Чем страшна болезнь? Не тем, что где-то что-то болит. Нет! Болезнь страшна прежде всего бессилием, бездеятельностью, неподвижностью.
И я понял, почему люди прежде всего желают друг другу здоровья, почему говорят, что здоровье – всему голова…
Как я страдал от своей бездеятельности! Вы себе даже не представляете. Когда никого не было в хате, я зарывался в подушку и просто выл, как какая-нибудь голодная собака.
Один Павлуша по-настоящему понимал меня и все время старался развлечь, успокоить. Но это ему плохо удавалось. Я был, конечно, благодарен ему за сочувствие, но одни слова не могли мне помочь. Какие там слова, если я сам чувствовал, что нет еще сил! Похожу немножко по хате – и в пот бросает, голова кружится, лечь тянет.
Казалось бы, и нога с каждым днем все меньше болит, и температуры нет, а вместо того чтобы выздоравливать, я чего-то снова расклеился. Стал думать, что никогда уже не буду здоровым, и упал духом. Потерял аппетит, плохо ел, не хотелось ни читать, ни радио слушать. Лежал с безразличным видом, уставившись в потолок. И никто этого не видел, потому что с утра до вечера никого не было дома, а Иришка, дорогая моя сестренка, которой поручено было присматривать за мной, дома не задерживалась. Да я ее и не винил, я и сам, когда она болела, не очень-то сидел возле ее кровати. С утра, подавши мне завтрак, она, как щенок, смотрела на меня и покорно спрашивала:
– Явочка, я немножечко… можно?
Я вздыхал и кивал головой. И она, громыхая, тащила велосипед из сеней во двор. И только я ее и видел потом до самого обеда. Она торопилась, пока я болею, накататься вволю. Она чувствовала, что, когда я выздоровею, не очень-то она покатается.
И если раньше она каталась во дворе, то теперь выезжала за ворота и старалась убраться с глаз долой, чтоб не слышать моих упреков за то, что не так ездит. А мне уже даже и это было все равно. Я и на велосипед махнул рукой.
Иногда вместе с Павлушей забегали ребята, но они были так поглощены своим делом, так им было не до меня, что это приносило мало радости.
Два раза заходила Галина Сидоровна, только мне почему-то было стыдно перед ней, что я лежу беспомощный, жалкий, и я все время с нетерпением ждал, когда же она уйдет. Плохо мне было, ох, как плохо!
Сегодня я почему-то особенно сильно чувствовал себя несчастным и одиноким. Может быть, потому, что сегодняшний день был на редкость хороший – солнечный, ясный, в небе ни облачка. И Иришка, вытаскивая из сеней велосипед, распевала во все горло:
В путь, в путь, в путь.
А для тебя, родная,
Есть почта полевая…
Вороной мой продребезжал по двору и, дзынькнув уже за воротами, пустился во весь дух, унося куда-то мою неугомонную сестру.
Я зарылся в подушку и завыл.
И вдруг услышал, как что-то стукнуло об пол.
Я поднял голову. На полу возле кровати лежал камушек. К нему была привязана красной ленточкой какая-то бумажка. Я удивился и поднял. Развязал ленточку, развернул бумажку. И у меня дыхание так и перехватило – я сразу узнал тот самый почерк: четкий, с наклоном в левую сторону и каждая буковка отдельно… От волнения эти буковки запрыгали у меня перед глазами, и прошло несколько секунд, пока я смог прочитать написанное.
Дорогой друг!
Нам все известно, что случилось с тобой в последнее время.
Мы довольны твоим поведением. Ты вел себя как настоящий солдат. Нам очень приятно, что мы в тебе не ошиблись. Теперь мы еще больше уверены, что то секретное задание, которое мы должны поручить тебе, ты выполнишь с честью.
Стихийное бедствие и метеорологические условия делают невозможным проведение намеченной операции сейчас. Операция откладывается. Надеемся, что к тому времени ты выздоровеешь и нам не придется искать другую кандидатуру. Намеченная операция секретная. Имеет большое военное и государственное значение. Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса УССР.
Это письмо нужно немедленно сжечь.
Напоминаем: условный сигнал – белый флажок на мачте возле школы. В день, когда появится флажок, нужно прибыть к доту в Волчий лес ровно в девятнадцать ноль-ноль. В расщелине над амбразурой будут инструкции.
Желаем скорейшего выздоровления.
Г. П. Г.
Когда я дочитал до конца, пульс у меня был, наверно, ударов двести в минуту. В висках так и бухало.
Они! Снова они! Трое неизвестных!
Как раз сегодня я их вспоминал. А до этого не то чтоб забыл, нет. Просто события той страшной ночи, а потом и моя болезнь как-то отодвинули мысли о них, заглушили интерес, и все это вспоминалось так, как будто было не со мной. Как будто я прочел об этом в какой-то книге или видел в кино.
И чем дальше, тем чаще я думал, что все это, наверно, не серьезно, а чья-нибудь шутка, только непонятно, чья и для чего.
Уж сколько раз я решался поговорить обо всей этой истории с Павлушей, но каждый раз в последнюю минуту что-то мешало: или Павлуша поднимался, чтобы уйти, или кто-нибудь заходил в хату, или у самого мелькала мысль: «А что, если это и вправду военная тайна?» И момент проходил, а я так и не заговаривал. К тому же меня смущало, почему молчит Павлуша. Я раза два пытался выведать, куда это он ехал тогда по «глеканке», но он от ответа уклонялся. В первый раз он как-то ловко перевел разговор на другое, а во второй, когда я ему прямо сказал, что видел, как он выехал к вечеру из села и махнул в сторону леса, он невинно захлопал глазами: «Что-то не помню. Может, в Дедовщину… Не помню…» – и так он это искренне, правдиво сказал, что если бы я сам не видел его тогда собственными глазами, то поверил бы.
И вот: «Разглашение тайны карается по статье 253 Уголовного кодекса УССР».
Теперь ясно, почему молчит Павлуша.
Да… но как же я узнаю, когда появится флажок на вышке, если я лежу?
Нет, я должен сегодня же поговорить с Павлушей. В конце концов друг он мне или нет? Если уж на то пошло, я готов вместе с ним отвечать по этой 253-й статье. И в тюрьме сидеть вместе с ним (только чтоб в одной камере). А почему обязательно сидеть? Если б я какому-нибудь врагу разгласил, тогда другое дело, а то ведь другу. Да и что разгласил? Я еще и не могу ничего разглашать. Я еще и сам не знаю, в чем состоит эта государственная и военная тайна. Может, Павлуша знает, так пусть мне разгласит. А если не разгласит, то он мне, выходит, и не друг. Интересно, разгласил он Гребенючке или нет? Если ей разгласил, а мне не хочет, тогда все, между нами все кончено.
Если я и так не мог всегда дождаться прихода Павлуши, то можете себе представить, с каким нетерпением ждал я его сейчас!
И, заслышав во дворе его голос, я даже подскочил на кровати. Он обычно еще во дворе выкрикивал во весь голос: «Ява-а! Э-эй!» – давая знать, что он идет.
На этот раз Павлуша вбежал в хату запыхавшийся, раскрасневшийся и уже с порога начал взволнованно:
– Старик! Только что погреб Пашков откапывали. Не веришь? Откопали кастрюлю, а там вареники с вишней. Попробовали – свеженькие, будто вчера сварены. А больше недели прошло. Ты скажи! Полезные ископаемые – вареники с вишней! Допотопные вареники с вишней! Га? Сила! Главное – как вода туда не попала? Наверно, землей сразу присыпало, а крышка плотная и… Только малость сверху подмочены, а внизу совсем нормальные! Я пять штук умял. Вкуснота! Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?
– Да нет, – мотнул я головой. Я решил не откладывать, так как в любую минуту может прийти Иришка. – Павлуша, – я пристально посмотрел ему в глаза, – ты мне друг? Скажи честно.
– Ты что? Друг, конечно.
– Скажи, а ты мог бы… сесть вместе со мной в тюрьму?
– Да ты что!.. – Он растерянно заулыбался. – Ты что, сельмаг обокрал?
– Нет, скажи серьезно: мог бы?
Он нахмурил брови.
– Мог бы! Ты же знаешь…
– Ну, тогда на, читай! – И я протянул ему письмо.
Пока он читал, я не сводил с него глаз. Он сначала побледнел, потом покраснел, потом начал сокрушенно качать головой. Дочитав, он поднял на меня глаза и вздохнул:
– Так… «Г. П. Г.» Значит, и тебе… Ничего не понимаю…
– А тебе, выходит, тоже? И молчал…
Павлуша виновато пожал плечами:
– Ну когда же я мог сказать? Раньше – сам знаешь… А потом ты заболел, тебе же нельзя волноваться, так что…
– Нельзя волноваться? Мне очень даже можно волноваться! Мне даже нужно волноваться! Мне нельзя лежать, как бревно какое-нибудь, потому что я так не выдержу… А ну, рассказывай! – Я резко сел на кровати, щеки у меня горели. Я и вправду почувствовал какой-то внезапный прилив сил, бодрости и энергии.
– Ну что… Ну, иду я как-то по улице, вдруг навстречу мне офицер на мотоцикле. Остановился. «Павлуша, – спрашивает, – Завгородний?» – и протягивает конверт. И как газанет – только я его и видел. В шлеме, в очках, лица не разглядишь.
– Точно!
– Ну, развернул я письмо. «Дорогой друг… секретное задание… нужно прийти в Волчий лес к доту… в амбразуре инструкция».
– В расщелине над амбразурой.
– Точно.
– А в котором часу?
– В двадцать ноль-ноль.
– А мне в девятнадцать.
– Значит, они не хотели, чтобы мы встретились. Ну, и ты был?
– А как же. Только давай сперва ты.
– Ну, значит, подъехал я к доту. Только туда, а меня – цап за шкирку! Солдат Митя Иванов, знаешь? «Куда, – говорит, – опять лезешь? Совсем сдурел, что ли?» Ну, теперь-то я понимаю, что это ты передо мной прорывался, а тогда я страшно удивился, почему это он говорит «опять». Ну, да не это меня больше всего удивило, а то, что я никак до амбразуры добраться не мог. Сами писали: «Приди», – и сами же часового поставили, не пускают. Кстати, на дороге и мотоцикл стоял, а в кустах, кроме Мити Иванова, еще кто-то был. Уж не тот ли, который мне письмо передавал? Я его не видел, но голос слышал. Поэтому я даже психанул. Чего, думаю, голову морочат! «Ах, так! – крикнул я громко. – Не пускаете, тогда я домой пошел. Слышите, домой!» И тут из кустов в ответ: «Правильно!» Ну, думаю, раз так – будьте здоровы! Сел на велосипед и поехал…
– Так что – и всё? Больше ничего не было?
– Да подожди! На следующий день пошел я рисовать. Как раз занятие кружка было. Открыл свой альбом, а там… письмо. Снова Г.П.Г. «Операция переносится… не волнуйся… Следи за мачтой возле школы… Когда появится белый флажок – приходи в этот день в Волчий лес к доту…»
– И снова в двадцать ноль-ноль?
– Ага! Ты знаешь, меня аж в жар бросило. Альбомы наши хранятся в школе, домой мы их не берем. После каждого занятия староста собирает, и Анатолий Дмитриевич запирает их в шкаф. Как могло там очутиться письмо, хоть убей, не знаю. Не иначе, как кто-то ночью влез в школу, подобрал ключи к шкафу и подложил. Но ведь школа летом на замке, и баба Маруся там всегда ночует, а она, ты же знаешь, какая – муха у нее не пролетит. Просто не знаю.
– Ну, это все ничего не значит. Если нужно, так и бабу Марусю усыпят, и ключ любой подберут… Это не трудно.
– Ну, а у тебя-то что?
– Ну, а у меня… – И я подробно рассказал Павлуше про все, что приключилось со мной: и про письмо, и про «экскурсию» по военному лагерю, и про разговор по телефону.
– Ну, так что ж все это может значить, как ты думаешь? – спросил Павлуша, когда я кончил.
– Я, конечно, точно не знаю, но думаю, что, наверно, это связано с военным дедом. Я уж думал: может, что-нибудь у них там сломалось, в какой-нибудь пушке или в ракете, куда взрослый пролезть никак не может, и нужен мальчишка.
– Кто знает, может быть… – нахмурил брови Павлуша. – А почему ж тогда и тебе и мне? И в разное время?
– Откуда я знаю… – пожал я плечами. – Должно быть кто-нибудь из нас основной, а кто-то дублер. Знаешь, ведь и у космонавтов всегда дублеры, и правильно, в таких делах…
– Могло быть, – вздохнул Павлуша. – Выходит, ты основной, а я дублер.
– Почему это?
– Ну, ты же на час раньше назначен.
– Ну и что! Это ничего не значит! Может, как раз ты-то и основной! Я почему-то думаю, что основной ты! – убеждал я его, хотя в душе думал, что основной все-таки я, потому что и вправду, зачем это дублеру назначать на час раньше, чем основному? Так и есть, я основной! Но показывать, что я так думаю, было бы нехорошо, нескромно. А Павлуша ведь, помните, сказал, что я люблю скромничать…
– А теперь, после моей болезни, ты уж наверняка будешь основным! – сказал я просто для того, чтобы его успокоить.
И вдруг я понял всерьез, что сказал. И прямо похолодел. Ведь правда! Какой же я основной после такой болезни? Это меня нужно успокаивать, а не его. Немедленно нужно выздороветь! Немедленно, а то и в дублеры не возьмут!
Я беспокойно заворочался на кровати. Нет! Нет! Я все же чувствую себя лучше. Намного лучше. Вот и сила в руках появилась. Могу уже подтянуться, взявшись за спинку кровати. А позавчера ведь не мог совсем. Ничего, ничего! Все будет в порядке… Если ничто не помешает.
– А ты кому-нибудь говорил про это? – Я внимательно посмотрел на Павлушу.
– Конечно, нет.
– И ей не говорил? – Я не хотел называть ее имени, но Павлуша понял.
– Да ты что?! – Он покраснел.
И я почему-то подумал, что он, наверно, все-таки не знает, что это я обрызгал Гребенючку грязью с ног до головы (она не сказала), и вдруг вспомнил таинственную фигуру в саду у Галины Сидоровны в тот вечер. Я же ничего еще не говорил Павлуше про того человека.
– Слушай, – и тут же начал рассказывать.
Когда я кончил, он только пожал плечами:
– Бог знает что творится… Сам черт ногу сломит. Ничего не разберешь…