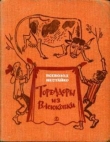Текст книги "Тореадоры из Васюковки (Повести)"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА II
ЗА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ. КТО ТАКИЕ КНЫШИ
Я живу за четыре хаты от Явы. И через минуту мы уже переводим дух в нашем саду. Сидим под вишней возле высоченного дощатого забора, который отделяет наш сад от соседнего. Сидим и печалимся, что такая досадная неудача постигла нас с этим самым метро. Впрочем, долго печалиться мы не умеем.
– Айда на великую китайскую… – говорит Ява.
– Айда, – говорю я.
И мы начинаем карабкаться на забор.
Эту высоченную трёхметровую ограду соорудил наш сосед Кныш. Мы с Явой прозвали забор великой китайской стеной. Лишь в одном месте можно подняться на него – там, где прислонилась к нему наша старая вишня. Тут, почти на самом верху, проковыряли мы в заборе две дырочки и часто наблюдаем сквозь них, что делается на вражеской территории. Вы, может быть, думаете, что мы просто такие нескромные и невоспитанные – к чужим людям заглядываем. Совсем нет. Ничего не просто. Вы же не знаете, что это за люди. Разве хорошие нормальные люди от соседей такими стенами отгораживаются? И из-за чего? Как раз на меже росла у Кныша груша и протянула одну ветку в наш сад. И с той ветки груши иногда падали к нам. Мы, конечно, их все отдавали, но порой свинья (разве ей втолкуешь, где чья собственность) какую-нибудь падалицу невзначай и слопает – не уследишь же. Так из-за той поганой падалицы и соорудил Кныш великую китайскую стену. А груша, как назло, взяла и засохла.
Кнышиха была широкоплечая, хоть и не толстая, но какая-то квадратная. Глаза маленькие, как дырочки в пуговицах, а нос, или, как говорил тракторист Грыць Кучеренко, «румпель», огромнейший и похожий на топор. Если бы сам не видел, я никогда бы не поверил, что у женщины может быть такой здоровенный нос.
У Кныша, наоборот, нос был маленький. Зато волосатый был Кныш страшно. Руки, ноги, плечи, грудь, спина – всё-всё было покрыто густыми рыжими волосами, жёсткими, как проволока. Даже в ушах были волосы, которые торчали будто пакля (мы удивлялись, как доходили до Кныша звуки, не запутываясь в этой пакле). И из носу торчали, и на переносице росли, и даже на кончике носа.
Кроме того, Кныш был ещё и какой-то мокрый – словно сырая стенка в погребе. Руки всегда мокрые, шея мокрая, лоб мокрый. Как-то он взял меня за плечо своей мокрой и холодной, как у мертвеца, рукой. Я даже передёрнулся весь. Бр-р! И ещё – когда Кныш смеялся, нос у него дёргался и кожа на лбу дёргалась (не морщилась, а именно дёргалась). И это было очень неприятно. Хотелось отвернуться и не смотреть.
Жили Кныши вдвоём, детей у них не было. И родственников, по-моему, тоже.
В колхозе ни Кныш, ни Кнышиха почти не работали. Он считал себя инвалидом, потому что на животе с правой стороны был у него шрам, который он часто показывал, всегда повторяя при этом страшную историю своего ранения на фронте. Но говорили, что это неправда: никакое это не ранение, а просто аппендицит, который ему вырезали задолго до войны, когда он ещё был мальчишкой.
Кнышиха тоже считалась очень больной. Болезнь у неё была неизлечимая и очень загадочная. Она шёпотом рассказывала о ней соседкам, закатывая при этом глаза и приговаривая: «Я ж такая страдалица, такая страдалица».
Впрочем, эта неизлечимая болезнь не мешала ей каждый день таскать на базар тяжеленные корзины, а на праздники выпивать бутылку денатурчика. «Денатурчик» – так ласкательно называли Кныши страшный синий спирт-денатурат, на бутылке которого нарисован череп с костями и написано: «Пить нельзя. Яд». Кныши не обращали внимания на ту надпись. Они что-то там такое делали с денатурчиком и потом пили его. Кныш был в этом деле тонким специалистом. Он говорил:
– Житомирский денатурчик – то действительно гадость, отрава. А вот черниговский… это, я вам скажу, здоровье! Украинский женьшень! Пей – и до ста лет проживёшь.
И Кнышиха и особенно Кныш любили выпить. Кныш выпивал почти каждый день. А на праздники, то есть на Новый год, на рождество, на Первое мая, на светлое воскресенье, на пасху, на День физкультурника, на храм и т. д. (Кныши не пропускали ни одного ни церковного, ни нашего, советского, праздника), они выпивали семейно, вдвоём.
В такой день с утра Кнышиха выходила за ворота и крестилась на телевизионную антенну, которая стояла на крыше сельского клуба.
Потом Кнышиха возвращалась к себе во двор, где стоял под вишней уже накрытый стол, и начинался праздничный завтрак. Через какой-то час из-за великой китайской стены уже слышалось:
Ах, зачем эта ночччь
Так была хороша-а-а —
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа…
Это пели гнусавыми голосами пьяные Кныши. После чарки их всегда тянуло на песню. Пели они долго, часа два или три. Пели и украинские народные, и русские песни, и песни советских композиторов.
А потом до самого вечера Кныши в два голоса оглушительно, с перебоями храпели в саду, словно за забором работали два трактора.
Праздновали Кныши всегда только вдвоём. Никогда к себе не приглашали. К ним никто не ходил, и они ни к кому. Очень были скупые и боялись, чтобы кто-нибудь не увидел, что у них дома есть. На людях всё время прибеднялись.
– Да я же гол как сокол! – говорил Кныш. – С хлеба на воду перебиваемся. Чтоб я бога не видел! Даже на зиму ничего не запасли…
Зато Кнышиха каждое утро, отправляясь на базар, сгибалась под тяжестью двух огромных мешков. В них стояли корзины, бутыли с молоком. Корова у Кнышихи была одна из лучших в селе.
Я однажды слышал, как женщины говорили:
– Ох же и молоко у той коровы! Ох же и молоко! Ну как смалец! Хоть ножом режь.
– Эге. Так что ж ты хочешь, она ведь её хлебом кормит. Каждый день тянет из города мешок. А в том мешке, думаешь, что? Булки! Батоны по двадцать две копейки штука. Корми я свою Лыску так, она тебе сметаной доиться будет.
– Ну да! А на базаре, я видела, продаёт молоко жидкое-жидкое, аж синее. Наполовину разбавляет, не меньше.
– И куда только милиция смотрит.
– Милиции не до Кнышихи. Милиция бандитов ловит.
– А Кнышиха не бандит разве? Настоящий тебе бандит.
Короче, происходило за великой китайской стеной что-то не то, что-то подозрительное. Мы с Явой это уже давно заметили.
Однажды мы слышали, как Кныш таинственно сказал Кнышихе:
– Скоро будут у нас большие перемены… Как я тебе говорил. Сведения точные.
А то как-то вечером, когда уже стемнело, приезжали к ним какие-то два верзилы на мотоцикле с коляской, нагрузили что-то в коляску и сразу же уехали. И потом ещё дважды приезжали, и опять-таки вечером.
А однажды возле чайной Кныш, изрядно уже подвыпивший, кричал на всю улицу:
– Не боюсь я вашего Шапки… Какой он Шапка! Штаны он, а не Шапка. И не председатель-голова, а это самое… Он у меня вот здесь. – Кныш показал кулак. – Я уже написал куда следует. Скоро вашему Шапке дадут по ш-шапке… Фить – и нету… Ги-ги-ик!
Иван Иванович Шапка, председатель нашего колхоза, был очень хороший хозяин, и все у нас очень его любили. Все, кроме бездельников, лодырей и пьяниц, которым он спуску не давал. И Кныш все время писал на Шапку жалобы и заявления, куда только можно. Причём писал всегда так, чтобы люди видели. Открывал ворота, выносил на двор стол, садился и, как школяр, склонив набок голову и высунув язык, царапал что-то на бумаге.
– Опять пишет какую-то собаку, – насмешливо говорил дед Варава.
Жалобы Кныша, конечно, вреда председателю никакого не приносили.
Но у людей тёмных вызывали к Кнышу уважение и даже боязнь – раз человек пишет, значит, силу имеет. Когда-то, говорят, Кныша из-за этих заявлений даже разумные люди боялись. Это делало его в наших глазах ещё более таинственным и загадочным.
И уж совсем мы сбились с толку после одного случайно услышанного нами разговора…
Дело было в Киеве, куда мы всем классом ездили на экскурсию во время зимних каникул.
Как-то раз, когда наши направились на концерт в филармонию, мы с Явой «на минуточку» отстали, чтобы сбегать посмотреть на «чёртово колесо». (Хотя оно зимой и не работает, но всё равно интересно.)
Побежали, покрутились возле «чёртова колеса» (жаль, что не работает!), собрались идти назад, смотрим – а на скамейке сидит Кныш с каким-то незнакомым человеком. Сидит спиной к нам – нас не видит. Но зато мы его сразу узнали. И удивились, конечно. Что он тут делает? В Киеве, возле «чёртова колеса»… Остановились. Слышим такой разговор.
– Четвертак, не меньше, – говорит Кныш.
– Двадцатку, больше не могу, – говорит человек.
– Да вы знаете, как я рискую! Думаете, хочется в тюрьме сидеть? Четвертак, не меньше.
– Ну хорошо, не по-вашему, не по-моему – двадцать три.
– Только четвертак. Не могу меньше. Не могу!
Тут они вдруг умолкли: по аллее шёл милиционер. Кныш и незнакомый человек вскочили и исчезли.
С тех пор этот подозрительный разговор не давал нам покоя.
– И что бы это могло значить? – говорил Ява, медленно прищуривая левый глаз.
– Ага, что? – говорил я, прищуривая правый.
– Слушай, – прищурил Ява оба глаза, – а может, Кныш шпион? И это он нашу родину продавал?
– Что-то очень дешево. Двадцать пять рублей за родину?..
– А откуда ты знаешь, что рублей? Может, тысяч, а то и миллионов.
– Ну да? – недоверчиво сказал я.
– Вот тебе и «ну да». Нужно за ним следить.
– Нужно, – согласился я.
И мы начали следить. Регулярно. Почти каждый день.
Однако наши наблюдения пока что никаких результатов не давали. Кныш возился по хозяйству, кормил свиней, чистил коровник, ремонтировал сарай и ничего шпионского, к сожалению, не делал. Честно говоря, мне уже начали надоедать эти наблюдения. И вот я уже дал слово, что лезу на великую китайскую стену в последний раз.
Ничего интересного мы опять не увидели. Кныш копался на огороде. Кнышихи не видно – то ли в хате, то ли совсем нет дома. Поглядев минут пять, мы уже собирались слезать, когда вдруг из хаты вышла Кнышиха и сказала:
– А ну поди-ка глянь на улицу, нет ли кого, и калитку запри. А то ещё увидят эти злыдни…
Мы сразу навострили уши.
Кныш выглянул на улицу, осмотрелся, потом запер калитку и пошёл вместе с Кнышихой в хату.
– Слыхал? Видал? – взволнованно шепнул Ява.
Я не знал, что ответить.
– Надо как-то подглядеть, что они будут в хате делать, – заявил Ява. – Может, шпионские деньги в наволочку зашивать будут или по рации передавать что-нибудь…
– Давай перелезем через забор, а потом на орех, который возле хаты, с него через окно всё будет видно, – шепчу я.
– Айда.
Мы не стали терять время и через какую-то минуту уже сидели в густых ветках ореха и вглядывались через окно в хату Кнышей. В хате было темновато, и мы не сразу разобрали, что там происходит. Наконец увидели, что Кныш и Кнышиха сидят за столом с ложками в руках и что-то едят. Мы хорошенько присмотрелись и удивлённо глянули друг на друга. Кныши ели… торт. Обыкновенный бисквитный торт с кремовыми и шоколадными розами и вензелями. Ели торт ложками, как кашу.
– Ну всё, продал! – неожиданно прошептал Ява.
– Что продал? – не понял я.
– Родину продал, иуда! Раз торты ложками уминают, значит всё! – Ява сказал так решительно и убеждённо, словно торт был неоспоримым доказательством Кнышовой измены.
Мы были так взволнованы, что даже не заметили, как Кныш вышел из хаты. Увидели его лишь тогда, когда он уже стоял на крыльце и скручивал цигарку. От неожиданности я вздрогнул, и ветка подо мной треснула. Кныш заметил нас.
– А вы что тут делаете?! Ах вы ворюги! Ах вы щенята! По чужим деревьям лазите, стервецы! Вот я вас сейчас! Я вам ноги из штанов повыдёргиваю за такое дело! А ну слазьте, злодюги!
Он стоял под деревом и так размахивал руками, что казалось, от этого поднялся ветер. Слезть – это означало верную гибель. И мы стали карабкаться вверх.
Кныш продолжал бушевать внизу.
– Дядя, детей любить надо, – вдруг жалобно сказал Ява.
– Да-да, нас надо любить, – поддакнул я, со страхом прислушиваясь, как трещит подо мною ветка.
– Все советские люди любят детей, – продолжал Ява. – Об этом и учительница говорила, и во всех газетах написано.
Кныш совсем рассвирепел:
– Я вас полюблю! Я вас так полюблю, что опухнете! Вы разве дети? Бандиты вы, а не дети! Убивать надо таких детей!
И тогда Ява сказал:
– Дядя, а вы знаете, мы вас в Киеве видели. Как вы в парке с каким-то дядей торговались…
И Кныш вдруг умолк. Сразу. Так, как будто бы выключили радио. Потом что-то такое невнятно пробурчал, что мы и не разобрали, и снова умолк. Вид у него был обалделый.
Кнышиха, которая на крики своего мужа вышла из хаты и стояла на крыльце, тоже какое-то время смотрела растерянно. А потом набросилась на Кныша:
– Ну, чего ты прицепился к детям? Чего? Ишь как напугались, бедняжечки, лица на них нет…
– Да я разве что? – уже совсем другим тоном забормотал Кныш. – Я разве бить, я только постращать хотел, чтоб по деревьям не лазили.
– Не бойтесь, мальчики. Слазьте и идите себе, идите, идите, – ласково проговорила Кнышиха.
Нас не надо было долго упрашивать. Вмиг мы слезли с ореха, прошмыгнули мимо Кнышей и выскочили на улицу.
– Ну, что ты скажешь? – спросил Ява.
Ты смотри! Как он перепугался, когда ты сказал! Умолк, словно язык проглотил. Значит, дело серьёзное.
– А я тебе что говорил!
– И Кнышиха сразу как всё перекрутила, чтоб замять… От змеюка!
– Короче, за ними надо следить – это факт! Надо их разоблачить! Во что бы то ни стало, любой ценой! Не жалея сил! Надо теперь всю жизнь посвятить этому!
Впрочем, полностью посвятить себя разоблачению Кныша мы сейчас, к сожалению, не могли. Через два часа в школу (мы учимся во второй смене), а за уроки мы ещё не садились.
Разом вздохнув, мы поплелись ко мне учить уроки.
ГЛАВА III
«ДЕТИ ЗА САЖЕЙ»
Сегодня контрольный диктант. Галина Сидоровна задала повторить правописание суффиксов. Это и на экзамене будет.
– Провались они пропадом, эти суффиксы, вместе с префиксами и самой грамматикой! И вообще она не нужна! Не всё равно, как писать – грамотно или неграмотно. Лишь бы понятно было, – раздражённо говорит Ява.
Но это всё разговорчики. От них легче не становится. Я раскрываю учебник и начинаю читать:
– «Если основа слова заканчивается на дэ, тэ, зэ, сэ, жэ, то для образования существительных, обозначающих названия людей по их профессии, занятиям, употребляется суффикс „чик“, а не „щик“. „Щик“ во всех остальных случаях. Примеры: переводчик, переплётчик, извозчик, разносчик, перебежчик. Но – обойщик, стекольщик».
Закрываю учебник и говорю Яве:
– А ну повтори!
Ява смотрит в небо и начинает:
– Суффикс «чик», а не «щик», который обозначает профессию, пишется после дэ, тэ… зэ… зэ… – И по глазам видно, что мысли его где-то далеко-далеко, в лесу или на реке, среди шумливых камышей, где плещется рыба и крякает в зарослях дикая утка. – Зэ…зэ… дэ, тэ… зэ… тьфу! – Ява не выдерживает: – А ну давай ты!
Я тоже закатываю глаза и начинаю бубнить:
– Суффикс «чик», а не «щик» пишется, когда основа оканчивается на зэ, дэ, тэ, сэ… сэ… сэ… – Дальше этого почему-то не идёт.
Я начинаю сначала, но опять не выходит. Тогда я чуть приоткрываю учебник (палец мой предусмотрительно заложен на нужной странице) и пытаюсь заглянуть.
Но Ява не даёт:
– Нет, нет, не подглядывай. Ты на память.
На память у меня не получается. Раскрываем учебник и снова читаем. Пока читаем – всё в голове. Закроем – как ветром выдуло.
– Вот заноза! – сердится Ява. – Каких-то пять букв – и никак не запомнишь. Когда пишется «щик», легко – во всех остальных случаях, хотя таких случаев миллион. А тут всего пять буквочек, после которых «чик», – и хоть ты тресни… Слушай, знаешь что – давай придумаем на эти пять букв слово. Слово большое – его сразу видно, а буквочки, как букашки, маленькие, разве их запомнишь.
Мне эта идея понравилась, и мы начинаем сочинять слово.
– «Же-ле-зо», – говорит Ява.
Прекрасное слово, но «л» мешает (никому оно не нужно), и нету «д», «т», «с» – большей половины букв.
– «Ди-вер-сант», – говорю я.
– Замечательное слово, ещё лучше, чем «железо», но куда ты денешь «в», «р», «н», и как ты вместо них вставишь «ж» и «з»?
Мучились мы долго. Какие только слова не брали! И «дот» и «динамит», и «желток», и «зонтик», и даже «дизентерия». Все они были неподходящие.
– «Же-же… жест»… – задумчиво тяну я.
– А зэ и дэ куда прикажешь всунуть?
– «До-о-лжность», – бормочет Ява.
– Зэ нету в твоей «должности». И лы здесь, и ны. Не проходит такая «должность».
– А ну её в болото! – сердится Ява.
– «Бо-ло-то», – бормочу я. – Тьфу! Так и с ума сойти можно!
– Слушай, – раздражённо говорит Ява, – а кто сказал, что обязательно нужно только одно слово? А если два коротеньких? А ну, какие там буквы? Дэ, тэ, зэ, сэ, жэ… Значит, так… Дэ, тэ… дэ, тэ… Ну, так о чем разговор? Дэ, тэ – это «дети». Ясно. Дальше что там? Зэ, сэ, жэ… сэ… сэ… жэ. «Са… жа»… «Са-жа»… «Дети», «сажа»… Остается зэ… зэ… за… «Дети за сажей». Всё… Готово.
– Что – готово? Ерунда какая-то! «Дети за сажей»… Никакого смысла!
– А какого тебе ещё смысла? Что ты – стихи сочиняешь, что ли? Тебе правило надо запомнить. Чтоб знать, что после чего пишется. А он – смысл, смысл!.. «Дети за сажей». Я, например, уже запомнил. «Дети за сажей» – «чик», всё остальное – «щик». Здорово! Почти как стихи.
– А вообще ничего, запомнить можно, – согласился я.
– Не «ничего», а просто здорово! – радовался Ява. – Вот если бы на все правила такое попридумывать! Сразу отличниками можно стать. Ну мы и молодцы! Гении!
Никогда мы не шли на диктант в таком весёлом настроении. Пели: «Нам не страшен серый волк…»
– Чего это вы распелись? Наверное, забыли, что сегодня контрольная? – спросила нас возле школы Ганя Гребенюк, наша одноклассница.
– Ничего мы, Гребенючка, не забыли, – ответили мы. И снова запели: – «Нам не страшен серый волк…»
Когда мы вошли в класс, то заметили, что все очень волнуются. Особенно наш первый отличник Стёпа Карафолька. Он сидел за партой белый как сметана и дрожал.
Лучше сроду не получать пятёрок, чем так портить здоровье.
В класс вошла Галина Сидоровна.
Все положили перед собой чистые листы бумаги, взяли ручки и вытянули шеи, как гусаки, – приготовились.
Галина Сидоровна начала диктовать:
– «Старый извозчик привёз в штаб белогвардейского перебежчика».
Я вмиг представил себе старого извозчика, похожего на деда Саливона, такого же добродушно-лукавого и беззубого, который везёт на пролётке в штаб растерянного, похожего на Карафольку, белогвардейского перебежчика.
«Хороший диктант, – подумал я, – очень даже лёгкий и понятный».
– «Старый… извозчик…» – чётко, по словам, диктовала Галина Сидоровна, прохаживаясь между партами.
Высунув язык и склонив голову набок, мы старательно скрипели перьями.
– «…извозчик…»
Я на секунду замер.
«О! „Дети за сажей“… точно! Так что же после этих „детей“? „Чик“ или „щик“? „Чик“ или „щик“?»
Этого я не помнил, хоть убей. Слышалось «шик», безусловное, стопроцентное «щик», а не «чик».
– «…привёз… в штаб…» – продолжала диктовать Галина Сидоровна.
Больше думать было некогда, и я аккуратно вывел: «извощик».
«Перебежчика» я за компанию (раз уж они ехали на одной пролётке) тоже написал через «щ»…
– Ну как? – спросил меня Ява после диктанта.
– Порядок, – уверенно сказал я. – А у тебя?
– Будь здоров! – подмигнул Ява.
Мы чувствовали себя именинниками.
На следующий день Галина Сидоровна вернула диктанты.
– Гребенюк – четыре, – называла она отметки. – Карафолька – пять. Ну, а Завгородний (это я то есть) – три с минусом. Рень (это Ява) – два!
Нас будто кто мокрой тряпкой по шее шлёпнул.
– Допелись! – хмыкнула Гребенючка.
Я показал ей кулак.
– А с тобой, Рень, я просто не знаю, что делать, – вздохнула Галина Сидоровна. – Через две недели экзамен, а ты ровно ничего не знаешь. Ведь суффиксы – это материал первой четверти.
Мы возвращались из школы мрачные и молчаливые. Вот тебе и «дети за сажей»! Мне было неудобно перед Явой за свою тройку с минусом. Словно я провинился перед ним. Вместе же учили, вместе придумывали этих дурацких «детей». А какие-то пол-отметки – и уже нет единства. Эх! Лучше бы и я получил двойку!
– Хочешь, я пойду и скажу, чтоб она и мне поставила двойку? Что это нечестно, что мы одинаково знаем.
– Вот ненормальный! Думаешь, я переживаю? Двойка! Плевать! Мне вообще почему-то всегда больше везло на диктантах, чем Яве.
То ли он был такой невнимательный, то ли ещё что-то, диктанты для него всегда кончались плохо. Устно он ещё мог иногда ответить грамматику на тройку, а пару раз бывало, что и на четвёрку. А в диктантах – двойка за двойкой. И я знал, что Ява очень переживает свои неудачи. Но он был гордый.
– Может, засядем за повторение? – несмело предлагаю я.
– Засаживайся, если тебе нужно, – не глядя на меня, говорит Ява, – а мне оно ни к чему.
– Да оно же знаешь как!.. Всё-таки экзамен, – осторожно начинаю я. – А что, если и на экзамене двойка! Могут же не перевести.
– Что-о?.. Эх, ты! Ничего ты не понимаешь… Думаешь, это так легко! У них же свой план по пятёркам и даже по тройкам. А за каждую двойку знаешь какие неприятности! От них же знаешь как требуют эти самые… как его… инстанции. Я слышал, Галина Сидоровна моей маме жаловалась. Так что не бойся – тройку как-нибудь поставят. К тому же моя мама депутат. Это тоже что-нибудь да значит.
– Ну, раз так, тогда, конечно…
Явина уверенность передалась мне, и настроение у меня сразу исправилось.
Утром мы уже забыли и думать про диктант, про грамматику, про экзамены и возились на реке возле старой полузатопленной плоскодонки. Мы решили сделать из неё подводную лодку. Конечно, это была опять Явина идея.
– Воду вычерпать, дырки заткнуть, просмолить, верх забить досками. Тут перископ. Вот здесь люк. На дно балласт, – озабоченно говорил Ява.
– А двигатель?
– На вёслах будет. Нам же не надо, чтоб очень быстроходная. Лишь бы подводная.
– А дышать как?
– Через перископ.
– А на поверхность как всплывать?
– Балласт выбросим и всплывём.
– А если водой зальёт и затопит?
– Ты что – плавать не умеешь? Вот ещё!