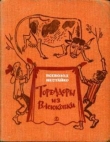Текст книги "Тореадоры из Васюковки (Повести)"
Автор книги: Всеволод Нестайко
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Глава XX
ПОДВИГ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ПАЙЧАДЗЕ. НЕОЖИДАННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ПАВЛУШИ
Странно было видеть хаты, по окна затопленные водой. Они походили на какую-то необычную флотилию белых кораблей, которая плыла не среди камыша и тростника, а между огромных диковинных кустов, сплошь усеянных желтыми, белыми, красными плодами (так странно выглядели кроны деревьев полузатонувших садов). Урожай фруктов в этом году выдался богатый, и в садах теперь был самый настоящий компот – вода тяжело колыхалась, перемешивая сбитые плоды.
Всюду на хатах, на сараях, на хлевах, на ригах теснились люди. Все скаты крыш были заставлены разным домашним добром. Очень чуднó выглядели там чья-нибудь швейная машина, велосипед или зеркало. А вода несла какие-то обломки, поломанные доски, всякий хлам – тряпки, корзины, ведра…
Завидев нас, люди начали махать с крыш руками, подзывая к себе.
Но старший лейтенант Пайчадзе закричал:
– Не волнуйтесь, сейчас вас снимут! Сейчас вас снимут, да! Не волнуйтесь!
Конечно, мы не могли остановиться здесь. Мы направлялись к крайней хате, туда, где самая большая вода, где всего труднее.
Но вдруг хаты за две до крайней мы услышали душераздирающий женский крик:
– Ой! Спасите! Ой, быстрее! Малец в хате на печи! Ой, потонет! Ой, спасите!
Это была хата Пашко, где жил тот самый гундосый третьеклассник Петя, который раздвигал занавес во время представления «Ревизора», когда с таким треском провалились когда-то я – Бобчинский и Павлуша – Добчинский.
Петина мать была не обычная мама, а мать-героиня. У нее было одиннадцать детей. Четверо уже взрослых, а остальные – мелюзга. И вот эта мелюзга сидела теперь на крыше вокруг матери, как птенчики в гнезде.
Уже потом Пащиха рассказывала, что ее мужа и старших детей в ту ночь как раз не было дома – поехали в Киев устраивать в техникум среднего сына. И бедной матери пришлось одной спасать детей от наводнения. И, закрутившись, не успела она вынести пятилетнего Алешку, который с перепугу забился на печь. А вода уж и окна залила.
– Ой, спасите! Ой, пропадет малец! Ой, люди добрые!
Старший лейтенант Пайчадзе не колебался ни секунды.
– Поворачивай тачку к ее хате, да! – приказал он водителю.
И через несколько мгновений мы были уже возле Пашков.
– Ой, ломайте хату! Ой, что хотите делайте, спасите мне только сына! Ой, люди добрые! – голосила, надрываясь, Пащиха.
Пайчадзе сбросил сапоги и одним махом вскочил на борт машины.
– Прожектор в окно! – скомандовал он – и бултых в воду.
В тот же миг яркий свет выхватил из темноты стену Пашковой хаты, где едва выглядывало над водой верхнее стекло окна. Возле него появилась голова Пайчадзе. Нырнула в воду и тут же появилась обратно. Видно было, что он вышибает ногами окно. Но вот над водой мелькнули босые ноги – старший лейтенант снова нырнул.
Есть такое выражение «время остановилось». Я раньше не очень его понимал. Но, оказывается, и правда бывают минуты, когда не ощущаешь, сколько прошло времени – секунда или час. Как будто выключаются у тебя где-то внутри часы и перестают тикать. И сам ты будто уже не дышишь, и сердце твое не бьется. И так страшно. И пусто. И ничего в тебе нет, кроме жуткого ожидания.
Но вот… снова затикало! Из воды у окна вынырнули две головы – Пайчадзе и Алешкина, живая, перхающая. Это была такая радость, что я закричал. И мать закричала, и вся ее малышня, и солдаты на «тачке». Их руки мигом подхватили Алешку из воды и передали на крышу – матери. И Пайчадзе подхватили солдатские руки и втянули на бронетранспортер. Все это случилось так быстро и так просто, что не о чем вроде бы и рассказывать.
Прижимая к себе мокрого Алешку, целуя его, мать не успела даже поблагодарить старшего лейтенанта. Мы уже отплывали. Пайчадзе только крикнул:
– Вас сейчас снимут!
И правда, уже подплывала другая машина.
До меня сразу дошел железный закон армии: приказ есть приказ. Выполнить его – первая обязанность солдата. Вот Пайчадзе только что совершил подвиг: рискуя жизнью, спас ребенка, вон у него даже кровь на руках и на лице – порезался, видно, стеклами в окне; но он сейчас не думает об этом – он спешит выполнить приказ, спешит к крайней хате. И он как будто даже чувствует себя виноватым, что из-за сложившейся обстановки вынужден был задерживаться для подвига, и всячески старается наверстать потерянное время.
Я с восхищением смотрел на Пайчадзе, который по-мальчишески прыгал на одной ноге, вытрясая воду из уха. И только теперь я рассмотрел его как следует. Он был совсем молодой, хоть и с усиками. И уши у него оттопырены, как у Павлуши. И вообще, как ни странно, он чем-то напоминал мне Павлушу. И я подумал: «А где сейчас Павлуша? Что он делает?» И внезапно вздрогнул – я увидел его. Слушайте, это было просто невероятно! Но я уже давно заметил: стоит, например, встретить на улице кого-нибудь похожего на вашего друга или знакомого и подумать о нем, как обязательно встретишь и его самого. Со мной уже много раз так бывало… И я не знаю, почему, но это – закон.
И когда я увидел Павлушу, я вздрогнул от неожиданности, но почти не удивился. Так как где-то в глубине души уже предчувствовал, что увижу его.
В первое мгновение я увидел только лодку, которая плыла навстречу нам от густых прибрежных ив. И только потом разглядел фигурку человека. Он стоя греб в лодке. И я сразу узнал Павлушу. Я узнал бы его даже без прожектора, в темноте, по силуэту… На дне лодки лежала хорошо знакомая мне красная надувная резиновая лодочка, которую подарил Павлуше в прошлом году киевский дядя. Хорошенькая одноместная, которая не тонула, как бы ее ни опрокидывали. Она вызывала зависть у всех наших ребят. Ясно – Павлуша добрался на своей надувной до ив, где привязывались лодки всего села, нашел там лодку, которую чудом не снесло и не потопило, и теперь плывет спасать людей. Вот молодец! Ну и молодчина! Удалой все-таки парень! Что бы он там про меня ни думал, что бы ни говорил, но объективно… Молодец! Молодец, ничего не скажешь!
А я?.. Эх, я… Катаюсь себе на амфибии, где никакой опасности, ее даже атомная бомба не потопит. Тоже мне геройство!..
Мы как раз подплывали к крайней хате. Вернее к двум постройкам, стоявшим в одном дворе. Это была усадьба бабки Мокрины. Одна постройка была старой, покосившейся хатой под соломенной крышей, другая – новым недостроенным кирпичным домом, у которого не было еще крыши, только белели одни свежеотесанные стропила.
На старой хате верхом на стрехе, обхватив руками трубу, сидела бабка Мокрина. А с чердака недостроенного дома смотрели, держась за стропила, две ее дородные немолодые уже, но незамужние дочки. Между ними как ни в чем не бывало стояла пятнистая рыжая корова.
Раздвигая кроны знаменитых бабкиных яблонь, мы заплыли во двор и, развернувшись, стали так, что носом уперлись в стену хаты, а кормой пришвартовались к каменному дому.
– Коровушку, коровушку сначала! Коровушку, люди добрые! – закричала бабка Мокрина.
Водитель навел прожектор на каменный дом, и все мы подались к корме – и Пайчадзе, и солдаты, и я. От чердака до машины было метра полтора, не больше, но корова – не кошка, прыгать не умеет, и за шкирку ее не возьмешь, чтобы ссадить вниз.
– А как вы ее туда затащили? – спросил Пайчадзе бабкиных дочек.
– Да по сходням же, по сходням, – пробасила одна.
– Куда-то их смыло, – пробасила другая.
Сходни – это такие доски с прибитыми к ним поперечными планками, по которым, как по лестнице, поднимаются на стройках рабочие, когда еще лестниц нет.
– Придется на веревках, товарищ старший лейтенант, – проговорил один из солдат, и только теперь я с удивлением узнал моего знакомого Митю Иванова. Фу ты! Вот ведь! Сколько ехали вместе, а я и не заметил, что это он. Правда, было темно, да и молчали они всю дорогу, не до разговорчиков… А вон и друг его, здоровяк Пидгайко. Ну как нарочно!
– Да, придется на веревках! Да! – согласился Пайчадзе. – Айда!
Один за другим солдаты начали карабкаться на чердак. Я сунулся было за ними, но Пайчадзе схватил меня за руку:
– Сиди, сиди! Мы уж как-нибудь сами, да! Будешь мешать только…
Кровь кинулась мне в лицо. Мальцом меня считает, оберегает, чтоб чего-нибудь, не дай бог, не случилось. И Павлуша ведь, должно быть, слышал. Вон темнеет его лодка у стены хаты – подплыл, смотрит: никогда же не видел амфибий – так близко и в деле.
Замычала встревоженно корова – солдаты уже обвязывали ее веревками.
– Осторожненько! Осторожненько! – завопила на стрехе бабка Мокрина.
– Да не гавкайте, мама! – раздраженно крикнула какая-то из дочек.
– Без вас обойдется! Сидите себе тишком! – добавила другая. – Покою от вас нет!
– Вот видите, люди добрые, какие у меня дети! – заохала бабка Мокрина. – Родную мать в грош не ставят!
И внезапно голос ее набрал силу, в нем зазвучал металл:
– Вот господь бог и наслал кару на землю за то, что дети ко мне плохо относятся!.. Потоп! Потоп! Разверзлись хляби небесные. Потоп! Вот видите, видите!
«Что-то бабка явно перехватила, – подумал я. – Если бы даже и существовал бог на свете, не стал бы он из-за одной бабки и ее семейных передряг расходовать столько пороху и энергии. Уж очень неэкономно. Обошелся бы чем-нибудь более скромным. А то чего ж это столько людей должны страдать из-за одной бабки».
– Да цыцте вы, мама, чтоб вам пусто было!.. И так весело, а тут еще вы тявкаете! – снова закричали дочки.
Бабка Мокрина замолкла, всхлипывая и постанывая.
И мне стало жаль ее. Свиньи все-таки у нее дети. Чтоб вот так разговаривать с матерью, какая бы она ни была! Да разве можно? Если бы я своей такое сказал, я б, наверно, язык себе отрезал!
Может, эта бабка потому и в бога верит, что у нее такие дети…
– И пожалеть и защитить некому… – продолжала стонать бабка Мокрина и вдруг вскрикнула: – Ой лишенько! Ой, забыла! Забыла! За иконой… О господи!
И она тихонько завыла, шмыгая носом, как маленький ребенок.
Никто на ее вопль не обратил внимания.
На чердаке было шумно – кряхтение, топот, возня. То и дело слышались крики: «Сюда!», «Давай», «Тяни!», «Держи!», «Пускай!» Обвязанную веревками корову никак не могли выпихнуть с чердака…
– Пропало!.. Пропало!.. О господи! – в отчаянии повторяла бабка Мокрина.
Глава XXI
Я НЫРЯЮ В ЗАТОПЛЕННУЮ ХАТУ… ЛОВУШКА. ОДИН НА ОДИН С БОГОМ. В БЕЗВЫХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
На это я решился внезапно. Но одним махом, как старший лейтенант Пайчадзе, вскочить на борт машины не смог – мне было высоковато. Подпрыгнув, я повис на животе, перегибаясь через борт, потом перекинул ногу, на миг повис на руках уже на той стороне и неслышно соскользнул в воду. Несколько движений – и я уже возле окна. Икона должна быть вот тут вот, в уголке, сразу за окном вправо. Нащупаю. Только бы стекло высадить так, чтоб не порезаться.
Хата была затоплена почти по самую стреху, и окна, собственно говоря, я не видел, только верх резного наличника выступал над водой. Подплыв, схватился за этот наличник и сунул руку в воду, ощупывая. Рука свободно прошла в окно: стекла уже были выбиты. Все в порядке. Я повернул голову в сторону лодки. Эх, жаль, что Павлуша, кажется, не видит. Ну ничего, он увидит, когда я вынырну и буду передавать бабке Мокрине то, из-за чего она плачет. Увидит!
Я слегка подался вверх, хватил полной грудью воздуха и нырнул.
Проплывая в окно, я зацепился за что-то ногой и уже думал, что застрял. Что есть сил дернул ногу – отпустило. Гребнул руками и вынырнул уже в хате. Раскрыл глаза и сразу увидел в углу икону. Да, так сразу и увидел, потому что перед ней горела лампадка… Мне сперва даже не показалось это странным. Я сделал два-три движения и остановился возле иконы. Сунул за нее руку и нащупал какой-то продолговатый небольшой сверточек. Выхватил – и назад к окну. Нырнул, но тут же ударился обо что-то головой, руки наткнулись на какую-то преграду. Я стал торопливо нащупывать руками проход. В окне что-то застряло. Мне не хватило воздуху, и я вынырнул. Снова нырнул и снова не мог пробиться. Вынырнув, попробовал нащупать и оттолкнуть ногой то, что мешало. Я колотил что есть силы, но напрасно. Окно завалило чем-то большим и тяжеленным. То ли я это сдвинул ногой, когда зацепился, то ли водой прибило, неизвестно. Я рванулся в приоткрытые двери сеней к наружным – они оказались запертыми. Мало того: я нащупал, что они были еще и подперты изнутри какими-то колодами, – должно быть, бабка Мокрина думала спастись так от воды… Я поплыл назад в хату. Другое окно было загорожено шкафом: то ли вода его сюда подвинула, то ли опять-таки сама бабка – неизвестно. Больше окон не было. Хата у бабки Мокрины старая, в два окна, тесная и неудобная. Потому-то дочки и построили каменный дом – для себя.
Мокрая одежда тянула книзу, трудно было держаться на воде, видно, давала себя знать еще и усталость от велосипедной гонки. Я вцепился в электрический провод, на котором в центре хаты висела лампочка. Дышать было трудно.
И вдруг я осознал весь ужас своего положения. Я висел на электропроводе почти под самым потолком в затопленной хате, а вода все прибывала. В трепетном свете лампадки я видел, как плещется она о стены. Вот уже вода, задевая, качает лампадку. И только теперь я заметил, как непостижимо странно выглядит эта лампадка перед иконой в углу. Как не потухла в буйстве стихии эта маленькая капелька света? Просто удивительно!.. А может… Может, и вправду, чудо? Может… Тут я впервые пригляделся к иконе и увидел… бога. Он взирал на меня из угла большими круглыми черными глазами – спокойно и строго. Казалось, он стоит в воде по грудь и вода шевелится, плещется возле него оттого, что он дышит.
Это было так страшно, что я почувствовал, как у меня волосы встают дыбом.
Вспомнился поп Гога, его таинственные слова: «Темна вода во облацех…», которые я никак не мог понять, хоть явно чувствовал в них осуждение и укор. Пришла на ум и бабка Мокрина с ее проклятиями… Темна вода… Вода… Вот она – вода…
«Неужели все-таки есть на свете бог и это он меня карает? – с ужасом подумал я. – И сейчас мне придет конец. Потому что никто ведь не знает, что я нырнул сюда. Они возились там с этой коровой, и никто не видел. Сейчас вода поднимется до потолка, зальет всю хату, я захлебнусь, и все…»
Но я не хочу умирать! Не хочу! Я хочу жить! Хочу кататься на велосипеде, играть в футбол, есть мороженое «крем-брюле». Я рванулся к окну и нырнул. И отчаянно, изо всех сил заработал руками, стараясь пробиться через окно. Я возился под водой до тех пор, пока не почувствовал, что еще мгновение – и я захлебнусь. Тогда я вынырнул. Открыв глаза, я успел еще увидеть, как в последний раз мигнул и погас огонь лампадки. Видно, ныряя, я поднял легкие волны, и они сделали свое дело. Сплошная непроницаемая тьма окружила меня. Я барахтался в воде, как слепой котенок. Сил оставалось все меньше и меньше. Я начал глотать воду и захлебываться. Невыразимый страх охватил меня. Неужели конец?! Не хочу! Не хочу! Не хо…о…о!.. Я закричал. И сам услышал, каким сдавленным и бессильным был мой крик. Так кричат сквозь сон, когда спящего душат кошмары. А может, это и вправду только кошмар, может, это все мне снится? И я сейчас проснусь, увижу солнце, которое светит в окно, и услышу…
Глава XXII
«ДАВАЯ РУКУ!» Я СНОВА С НИМ. ЧТО БЫЛО ЗА ИКОНОЙ
– Ява! Ява! Ява! Где ты? Ява!
Это был голос… Павлуши.
Я не сразу сообразил, что это наяву, что это мне не мерещится. Но тут же я увидел тоненькую полоску света. То светился остаток воздуха над водой в сенных дверях. Ой! Там же в сенях в потолке ход на чердак! Как же я раньше не раскумекал! Из последних сил, глотая воду и захлебываясь, я рванулся туда.
Свет фонаря ослепил меня, и я ничего не видел. Только слышал Павлушин голос:
– Давай руку! Давай руку!
Я с трудом поднял над водой руку и почувствовал, как ее цепко схватила рука друга. И только теперь я смог отдышаться. Я дышал, как паровоз. Как еще может дышать человек, которого только что вытащили из воды? Я хватал воздух целыми кубометрами, жадно, ненасытно, глотал и не мог наглотаться.
Павлуша молчал. Он только крепко стиснул мою руку. А я стиснул его. И более крепкого, более горячего рукопожатия еще не бывало в моей жизни.
Когда я немного отдышался и глаза привыкли к свету, я огляделся вокруг. Лестницы на чердак не было – видно, снесло водой или бабка куда-то затащила. Да уж, сам бы я тут не выбрался ни за что. Павлуша начал меня понемногу подтягивать вверх. Но я так обессилел, что не мог вскарабкаться и все время сползал в воду.
– Ничего, ничего, сейчас… Все будет хорошо! Еще немного! Вот так! О! О! Ох! – успокаивал меня Павлуша, кряхтя от натуги.
И ему пришлось здорово помучиться, пока я не оторвался наконец от воды и не перевалился, как куль, на чердак.
Некоторое время мы лежали рядом, отдуваясь. Потом я положил руку ему на плечо и сказал, запинаясь:
– Спасибо, с-старик!.. Я уже думал, что конец… Вот влопался…
– А я вижу, что ты нырнул… Потом гляжу – нет тебя… Мало ли что, думаю… и – на чердак… – Павлуша на минуту примолк. – Знаешь, я как увидел, что ты нырнул, страшно стало… Я как раз про тебя подумал – где ты… А ты тут… Я тебя искал, знаешь… Думал, вот бы вместе за лодкой… А ты здесь…
Я засмеялся. Наверно, ему странно было, что я засмеялся. Потому что ничего смешного он не сказал. Но я засмеялся. От радости. Он искал меня! Слышите? Дружок-то мой верный. Как же я мог думать, что мы навсегда поссорились? Как? Да разве могу я поссориться с ним навсегда! Да ведь это ж Павлуша! Павлуша!
Нет, ему не стало странно, что я засмеялся. Потому что вдруг он и сам засмеялся. Он все понял.
Мы лежали и смеялись.
И хотя мокрые штаны и рубашка противно облепили тело и страшно холодили, мне стало так тепло, так хорошо, как, кажется, еще никогда не бывало.
Как хорошо жить на свете, если тебя спас от смерти твой самый лучший друг!
Эх, Павлуша, Павлуша! Какой же ты молодчина! Все тебе прощаю: и твою измену, и рисование, и твои обидные слова, и то, что Гребенючку защищал, когда я ей комком по юбке влепил, и то, что ты не дальтоник… Прощаю! Это все не твоя вина. Это все она… Ну, не буду! Не буду! Даже в мыслях не буду! Пусть она хоть сбесится, твоя Гребенючка! Хоть целуйся с ней, я в твою сторону даже и не гляну. Отвернусь. Главное для меня – что ты такой мировой парень! И нет у меня в целом мире лучшего друга. Я бы даже поцеловал тебя сейчас, да не умею. Не целуются ребята друг с другом, не принято. Это только взрослые мужчины, когда они друзья, целуются.
Понимаешь ли ты все, что я думаю? Да, наверняка понимаешь. Я по смеху твоему чувствую, даже по тому, как ты дышишь. Я ведь тебя так знаю, как никто на свете, как мать родная не знает.
Наконец мы перестали смеяться, и Павлуша сказал:
– А ты все-таки молодец… Я не знаю, решился бы вот так нырнуть в окно… Это ведь погибнуть – девяносто шансов из ста. Да стоило ли еще? Что она могла там, за иконой, прятать? Ну деньги… Ну облигации трехпроцентные… Да чтоб они сгорели! Из-за них голову класть? Да черт с ними!!!
Ух ты! Я ведь совсем забыл про тот продолговатый сверточек. Торопливо хватаюсь за свой карман. Есть! Когда я держался за лампочку, то сунул его в задний карман штанов да еще на пуговицу застегнул, чтоб не выскользнул. Не мог же я его бросить, раз из-за него сюда полез. А в руке он мне мешал.
Ой-ой! Если там облигации или деньги, то, может быть, из них уже каша в воде получилась. А ну, посмотрим! Отстегнув пуговицу и оттопырив карман, я осторожно вытащил сверток.
– Да ты что – все же достал? – удивленно воскликнул Павлуша.
Он-то был уверен, что я не достал, и успокаивал меня: «Черт с ним! Да чтоб они сгорели!» А тут смотри-ка… Мне так приятно было видеть его удивление, что даже кровь в голову ударила. Уж только из-за этого стоило нырять и испытать все эти передряги. Лучшей похвалы, чем Павлушино удивление, для меня и не могло быть.
Но показать, что мне приятно, я постеснялся и только махнул рукой: да, мол, что уж тут такого?
– А ну, посвети фонариком, – попросил я Павлушу и начал осторожно разворачивать сверток – газету, в которую было что-то завернуто. Мокрая старая газета не столько разворачивалась, сколько отпадала мягкими невесомыми клочьями. Наконец газета то ли развернулась, то ли распалась, и мы увидели свернутые трубкой какие-то листки бумаги, исписанные карандашом. Я склонился пониже и прочитал на сгибе: «…снова в бой. Береги дочурок наших и себя. Целую. Михайло…»
Я поднял глаза на Павлушу. Павлуша тоже успел прочитать и покачал головой.
Это были письма. Фронтовые солдатские треугольники от мужа бабки Мокрины, который погиб, освобождая Прагу, в День Победы, девятого мая сорок пятого года. Сколько прошло времени, а в селе до сих пор частенько вспоминают про эту необычную, такую нефортунную, как говорит мой дед, гибель Михайлы Деркача. Рассказывали, что это был большой остряк, веселый, добрый человек. И страстный садовник. Он-то и насадил перед войной этот большой сад, так и не отведав его плодов. А теперь некоторые деревья даже посохли от старости…
И то, что я чуть не утонул, спасая фронтовые письма дяди Михайлы, что рядом со мной солдаты спасали людей, скотину и добро, наполнило меня таким чувством, будто я тоже принадлежу к армии, будто принимаю участие в настоящей военной операции и сделал сейчас что-то похожее на то, что было на фронте, что-то такое, что достойно бойца. И гордость и радость захлестнули мое сердце.
И я уже ни капли не жалел, что нырял за этими письмами. Только подумал: «Береги дочурок наших…», а они вон что: «Не гавкайте, мама». И стало мне еще пуще жаль эту старую, несчастную Мокрину, которая сидела теперь верхом на стрехе и плакала, думая, что письма ее мужа погибли… Наверно, вспоминает его и ругает себя за то, что забыла про них…
И стало мне жаль, что она верила в бога, считая, что он такой хороший и справедливый, а он, вишь ты, больше других ее как раз за что-то и покарал – сильнее всех затопил, прямо под самую стреху, а безбожников, атеистов, вроде деда Саливона, например, даже не зацепил… Ну где же тут справедливость?
И еще я подумал, что Павлуша оказался сильнее бога. Потому что спас меня, а бог бы не спас. Всегда надейся не на бога, а на друга.
Хорошо, что дядя Михайло карандашом писал свои письма. Если бы чернилами, расползлись бы, а так высохнет – и всё.
– Идем, сразу ей отдадим, – сказал я.
Мы поднялись на ноги.
– Я вот тут, через слуховое окно, влез, – рассказывал Павлуша. – Но по мокрой крыше вверх не взберешься.
Павлуша навел фонарь, освещая забитые барахлом, затянутые паутиной углы чердака. Вот! За печной трубой стояла лесенка (так вот она где!), а вверху в соломенной крыше зияла дыра, через которую, должно быть, и вылезла бабка Мокрина.
– Ты давай лезь, а я посвечу, – сказал Павлуша.
– Нет, давай вместе, – ответил я. Мне не хотелось разлучаться с ним даже на минуту.
– Ну, давай, – он не стал спорить. – Только лезь первый. Ты же будешь отдавать.
И мы полезли.
Я первый.
Он за мной, освещая дорогу фонариком.
Я, наверно, так неожиданно вынырнул перед бабкой Мокриной из этой дырки, что она испуганно отшатнулась и быстро-быстро закрестилась, приговаривая: «Свят! Свят! Свят!» Ей, наверно, показалось, что это какая-то нечистая сила.
– Это я, бабуся, не бойтесь, – проговорил я и протянул ей письма. – Возьмите!
Она не сразу рассмотрела, что я ей даю, и не сразу взяла. Только пощупав рукой, поняла, что это такое, и, схватив, поднесла к глазам.
– О господи! Господи! – промолвила она отчаянно и заплакала. – Ой, сынку! Ой, как же ты? Господи!..
И так жалобно, так горестно она это сказала, что у меня у самого перехватило в горле. И я не мог ничего ответить.
Да и не пришлось. Потому что совсем близко позади меня послышался голос:
– Сейчас, бабушка, сейчас…
Я обернулся. На крышу поднимался по приставленной из машины лестнице Митя Иванов. Корова была уже на амфибии, бабкины дочки тоже.
Рассвело. Дождь прекратился. На затопленные хаты и деревья ложился туман. В его белой пелене все выглядело еще необычнее.
Я вдруг почувствовал, что замерз, почувствовал, как закоченели ноги в мокрых штанах, как застыли, задубенели руки. От холода даже в груди ломило. Я чувствовал, что если сейчас как-нибудь не согреюсь, то будет плохо.
Да там ведь, в машине, мой ватник. Надеть, надеть его быстрее! Но… как же Павлуша? Что, если я полезу в машину за ватником, а она двинется… Уже ведь, кажется, всё забрали, вот только бабку Мокрину снимут и поедут. А Павлуша ведь на лодке, он лодку не бросит. И машина переполнена. Кроме коровы, подсвинка и кур, вон еще сколько узлов, чемоданов, ящиков всяких…
Митя Иванов, осторожно поддерживая бабку Мокрину, уже помогал ей спуститься по лестнице в бронетранспортер.
– А где пацан, а? Пацан где? – послышался вдруг внизу встревоженный голос старшего лейтенанта Пайчадзе.
Я должен был подать голос.
– Да тут я! – лязгая зубами, как мог веселее откликнулся я. – Вы езжайте, езжайте! Я на лодке, с Павлушей!
Я уж потом сообразил, что этим самым отрезаю себе путь к ватнику, и кто знает, как я теперь смогу согреться. «Да там наверняка ватник и не найдешь за теми узлами», – успокаивал я себя. И чтоб уж не было никаких сомнений и колебаний, сразу сунулся вниз – назад на чердак. Павлуша, который терпеливо стоял на лесенке ниже меня и все слышал, но ничего не видел, кроме моих мокрых штанов, не успел двинуться вниз, и я чуть не сел ему на голову. Но он даже слова мне не сказал и, не подав виду, стал тут же спускаться.