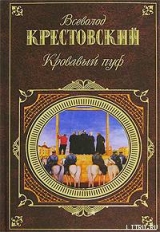
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 49 страниц)
XV. На что оказалась способною Сусанна
В зале между тем продолжалась игра. Сусанна нехотя, медлительно разделась, нехотя легла в постель, нехотя принялась за книжку. Но вскоре строки стали двоиться, пестрить, рябить и сплываться в глазах, книжка неслышно выпала из руки на одеяло – Сусанна заснула.
Сон ее был не совсем-то покоен. Раза два просыпалась она, широко раскрывала сонные глаза, осматривалась вокруг – все одна… мужа нет еще. "Ах Боже мой! что это они там!.. Надо бы сходить посмотреть", думает она, но сон морит, сладко смыкает веки, оковывает волю – и она снова засыпает.
Когда в третий раз проснулась Сусанна, свеча совсем уж оплыла и догорела, сквозь занавеску пробивался свет утра, а мужа все еще не было.
Крайне встревоженная и даже раздосадованная последним обстоятельством, она наскоро вдела в туфли босые ножки, торопливо накинула на плечи шлафрок и пошла в залу.
Там, к удивлению ее, никого уже не было. Один только раскрытый стол, разбросанные карты, мелки и щетки да распитая бутылка свидетельствовали о недавней игре.
Сусанна подумала, что муж ушел из дому вместе с Слопчицьким, и заглянула в переднюю: шинель висела на своем обычном месте и пальто тоже.
Она разбудила человека.
– Барин ушел куда?
– Никак нет… Они дома.
– Где же он?
– Не знаю-с… Я хотел раздеть их, – они сказали, что сами, и прошли в кабинет.
"Милый! – подумала Сусанна. "Это он не хотел меня потревожить".
Она подошла к двери кабинета и взялась за ручку – дверь оказалась запертою на замок.
Она заглянула в скважину – заперто изнутри и ключ в замке оставлен.
"Странно!.. зачем ему вдруг пришла охота запираться?" подумалось ей.
В эту минуту в кабинете послышались шаги, тихие, осторожные, с явным намерением скрыть малейший шелест, но Сусанна очень хорошо их слышала.
– Анзельм!.. Ты не спишь?.. Отвори мне! – сказала она, снова потрогав ручку.
В кабинете никто не откликнулся и шаги тотчас же окончательно притихли.
– Анзельм! Ты слышишь?.. Отвори мне… Это я! – повторила Сусанна.
И снова ни отклика, ни звука.
Это ее встревожило. В сердце кольнуло предчувствие чего-то недоброго.
– Анзельм! Отвори мне сейчас, говорю тебе! – настойчиво и громко заговорила она, с силою дергая дверную ручку, так что если б Анзельм даже спал глубоким сном, то не мог бы не проснуться от стука и шума.
Опять ни отклика и звука, словно бы в кабинете и нет никого.
– Анзельм! Я буду кричать… Я стану ломиться, созову людей, если ты сейчас же не отворишь! – нервно и со слезами в голосе закричала испуганная Сусанна.
– Ступай и ложись… Я сейчас приду к тебе… – тихо ответил Бейгуш из-за запертой двери.
– Отвори мне, говорю тебе!.. Я не уйду отсюда, пока ты не отворишь!
И она с новой силой стала дергать за ручку.
– Анзельм!.. Анзельм! – раздавались под дверью ее громкие истерически-рыдающие крики.
Ключ щелкнул в замке, и Сусанна в тот же миг стремительно растворила себе двери.
Пред нею стоял муж – бледный, с взъерошенными волосами, с явным расстройством в омраченном лице.
Сусанна зорким оком окинула мужа и комнату: на столе лежал револьвер, кучка пороху с двумя-тремя пулями на листе белой бумаги и недописанное письмо.
– Анзельм… что это значит? – оторопело проговорила она, переводя беглые, взволнованные взоры с лица своего мужа на все эти предметы, прежде всего кинувшиеся ей в глаза.
Тот не отвечал и, отвернувшись от жены, мрачно прошелся по комнате.
Сусанна быстрым движением схватила со стола револьвер и сунула его в карман шлафрока, а потом рассыпала на пол весь порох с листа бумаги и взялась за письмо.
Бейгуш, в величайшем изнеможении как бы уставши и видеть, и понимать что вокруг него происходит, погрузился в кресло и, положив на стол руки, опустил на них отяжелелую голову.
Сусанна жадными, тревожными глазами забегала по строчкам его писания.
"Милая и неоцененная моя Сусанна! Прощай! Прощай навеки и не кляни, а прости своего несчастного мужа. Я не стою тебя – я сознаю это – и потому не должен, не имею более права жить на свете. Мне остается только одно: пустить себе в лоб пулю, что я и исполню сейчас же. Боже мой! Если б ты знала, как я несчастен и как я люблю тебя – тебя, моя добрая, красивая, нежная!.. Чего бы не дал я теперь за новую возможность наслаждаться с тобою и жизнью, и счастьем!.. А жизнь только что стала так весело и приветно улыбаться нам обоим, сулила столько счастья, столько радостей и блаженства взаимной любви!.. и увы! всему конец теперь!.. Будь проклят тот час, когда дьявол подтолкнул меня сесть за зеленый стол! Теперь в расплату за все… я отдаю ему свою душу. Но ты, моя чистая, прекрасная голубица, после того как труп мой, лишенный христианского погребения и зашитый в рогожу, будет брошен в яму на собачьем кладбище, вместе со всякой падалью, – ты не прокляни меня, но прости и помолись, как добрый ангел, за мою погибшую душу!.. Шутя сев играть, я проиграл Тадеушу сорок тысяч. Карточный долг для каждого порядочного человека есть долг священный, а я – увы!.. я нищий! Я ничего не имею кроме моих эполет, которые не хочу покрывать позором: я не хочу, чтобы кто-либо мог указать на меня пальцем как на несостоятельного игрока. Я сделал подлость, позволив себе увлечься до такой цифры, тогда как сам не имел возможности уплатить, и за эту подлость должен быть наказан. Мне не остается ничего более, как умереть. И чем скорей, тем лучше. Прощай же, моя несравненная, моя…"
На этом месте письмо прерывалось.
Сусанна громко рыдала, читая эти строки, а Бейгуш все сидел неподвижно, положив на руки свою голову и, казалось, ничего не видел и не слышал.
Она подбежала к нему и обвила его шею.
– Анзельм!.. Безумный ты!.. Милый… Да подыми же голову!.. И тебе не стыдно? не совестно? Разве мое состояние не твое?.. Я твоя и все твое!.. все! все! Бери все у меня! – в страстном и нежном порыве говорила она, стараясь поднять его голову. – Анзельм! Да откликнись же! Взгляни!.. Ах, да не пугай же ты меня!.. Господи! что это с ним!
И она зарыдала, припав к плечу его.
Он поднял голову и ласково провел рукой по волосам жены.
– Полно, Сусанна… полно, милая! тихо, но безнадежно-грустно проговорил он. – Что сделано, того не поправишь!.. Успокойся же…
– Нет, поправишь! поправишь! – с новой силой убеждения воскликнула она, оживленная этими знаками пробуждения и участия к ней, – поправишь, мой милый! Сейчас же поедем в банк, вынем сорок тысяч – и ты отвези их!.. И о чем убиваться!?.. Боже мой, ну не все ли равно?.. Ну, раз проиграл, в другой уж не будешь!.. Ну, и полно же, Анзя мой! ну, прояснись! ну, улыбнись мне, солнышко мое!.. Ну же?.. ну?..
И она, смеясь и улыбаясь сквозь слезы, с нежностью старалась заглянуть ему в отуманенные глаза, как бы выжидая ответной улыбки, но он грустно и отрицательно покачал головою.
– Нет, Сусанна… благодарю тебя, но… я никогда не возьму твоих денег!.. Ты, может быть, потом раскаешься в этом добром порыве… Как знать!.. Ты можешь разлюбить меня, разойтись со мной… да и мало ли что!..
– Разлюбить тебя!.. Тебя-то?.. Разойтись с тобой! – воскликнула она, порывисто отклонясь от него. – Сумасшедший ты!.. Что это ты бредишь!.. Нет, уж раз что ты мой, так уж мой навсегда!.. Я покаюсь!.. Ха, ха, ха!.. Я покаюсь, что спасла тебя от смерти для самой же себя! – Нет, ты нынче решительно с ума сошел, мой милый. Вот тебе мой сказ: вынь из банка деньги и отвези ему. Я тебе велю это… Я тебе приказываю. – Слышишь.
– Ребенок!.. добрый ребенок! И всю жизнь ты будешь ребенком! – грустно усмехнулся он. – Все отдать за одну ночь подлого увлечения!.. Все твое состояние!.. Нет, не хочу, Сусанна!
– А я хочу!.. И во-первых, вовсе не все состояние: у нас остается около десяти тысяч. Ну, что ж? – мы еще молоды, ты будешь служить, я трудиться, – проживем как-нибудь!
"Глупая, но добрая бабенка!" не без чувства подумал в душе Бейгуш и поцеловал Сусанну.
– Так что же?.. Берешь ты эти деньги?.. Они твои… Ну, если так не хочешь – я дарю тебе их!.. Можешь делать с ними что угодно! Мне, кроме тебя, ничего не нужно. Они твои, говорю тебе!
– Эй, покаешься! – еще раз предостерег ее Бейгуш, но уже видимо проясненный и успокоившийся.
– Ну, уж покаюсь ли, нет ли – это мое дело! – порешила она, – только я от своего слова не отступлюсь!
Обрадованный муж крепко сжал ее в объятиях и зацеловал бесчисленными поцелуями.
Сусанне только этого и нужно было. Она верила в светлое будущее, верила в возможность прожить хорошо и счастливо без копейки, то есть вернее сказать, едва ли понимала она, что значит жизнь без копейки, с вечным трудом и заботой. Доселе испытывать этого ей еще не доводилось, и потому взгляд ее на жизнь был и легок, и поверхностен. С ее расплывающейся добротой, с ее распущенною беспечностью ей нужна была только ласка человека, которого она любила в дашгую минуту.
"А как видно, порядочный таки дурак был этот восточный кузен", подумал про себя Бейгуш. "Ведь уж давным-давно мог бы обобрать ее, как липку!"
– Ну, моя спасительница! Спасибо тебе! – говорил он вслух. – Ты просто мой добрый гений, мое провидение! Пятью бы минутами позднее – и всему конец.
– Но уж вперед такой глупости не будет… Нет? не будет? Поклянись мне! поклянись всем, что тебе всего дороже на свете! – горячо приступила она к мужу, не выпуская его из объятий. – А уж этот проклятый пистолетишко! Уж погоди ж ты: я его так теперь упрячу, что уж никогда не найти тебе!.. Не-ет, уж это кончено!
В то же самое утро молодые супруги вынули из банка сорок тысяч.
XVI. Чего никак не мог предвидеть пан грабя
– Итак, поздравляю! в тебе есть положительный драматический талант! – весело похвалил пан грабя пана Анзельма, наслаждаясь тонким обедом в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо. – И что ж ты теперь сделаешь с этими деньгами?
– Очень просто: придется переложить их на свое имя, – поведал пану Тадеушу пан Анзельм.
– Благоразумно! аппробую! – еще раз похвалил Тадеуш.
Это было на другой день после только что описанной истории. Бейгуш свято держал свое слово: пан грабя получил пять процентов и тонкий обед по собственному заказу.
– И так-таки сразу сама предложила? – продолжал он.
– Предложила, подарила, умолила, заставила взять; все, что ты хочешь, – подтвердил поручик.
– Ага!.. Теперь, душа моя, видишь, какой я вообще тонкий знаток женского сердца? – похвалился грабя.
– Вижу, и отдаю полную справедливость!
– Но этого мало: я еще к тому и великодушный друг! Другой за такую науку слупил с тебя не пять процентов; но я и этим доволен. Я доволен в особенности тем, что, оказав маленькую услугу тебе, как доброму другу, вместе с тем оказал услугу и нашему делу. Теперь у тебя, по крайней мере, руки развязаны, а то что бы ты стал делать в решительную минуту?!.. Нам, брат, нужны теперь средства, и ох как нужны! – с серьезным вздохом подтвердил Слопчицький. – Фундуш народовый и народова офяра – это все прекрасно, но на всякий случай не мешает эдак, знаешь, ощущать в своем кармане свой собственный капитал. Скрывать от самих себя нечего: дело, во всяком разе, очень рисковое!
– Это так, – согласился Бейгуш, – но знаешь ли, была минута, когда я серьезно готов был отступиться от нашего плана и отказаться от денег и от всего!
– Э! это уж не хорошо!.. Не одобряю! – заметил грабя, качая головой. – Тогда бы ты, значит, лишил меня удовольствия скушать с тобою этот обед. За что же так?.. Это уж было бы не по-приятельски!
– Но я бы тебя поставил на мое место! Веришь ли, она так искренно, так свято и бескорыстно предложила мне эти деньги, что мне просто стало совестно. – За что я, думаю себе, так жестоко обманываю ее?.. Ах, друг мой, если б она была немножко поумнее и если б помене меня любила, все это было бы гораздо легче сделать!
– Но ведь и теперь, сколько я вижу, не особенно трудно, – заметил Слопчицький.
– Что говорить про то! – подхватил Бейгуш, – но мне-то самому, мне моей совести трудно – пойми ты это!
– А, вот оно в чем дело! – насмешливо, но серьезно улыбнулся Тадеуш. – Ну, брат, берегись! Ты, я вижу, москалиться начинаешь!.. Эдак, пожалуй, когда они опять станут нас грабить и резать, тебе тоже совестно сделается, и ты будешь просить у них прощенья за их же преступления?
– Это совсем другое, – возразил Бейгуш! – Те наши враги, и мы их ненавидим; но это моя жена, которая меня любит.
– А ты ее любишь? – все тем же насмешливым, но серьезным тоном спросил Слопчицький.
– Она жена моя, – уклончиво ответил Анзельм.
– А к какой нации имеет честь принадлежать ваша супруга? И чего ради в сущности женились вы на ней?
– Это все так; это все я очень хорошо знаю, – согласился Бейгуш, – но, друг мой, ей-Богу, я не ожидал столько самоотвержения!
– По глупости, прости за откровенность. Самоотвержение по глупости! Такая ему и цена!
– Нет, по любви! – не без самохвальной горделивости возразил поручик.
– Ну, и по любви!.. Не в последний раз! На твой век хватит еще женской любви, с избытком! Ну, и ты тоже люби ее за это, пока любится, – надоедите же когда-нибудь друг другу. Но позволь спросить без обиняков: кого ты больше любишь – Польшу или Сусанну?
– Об этом не может быть даже и вопроса! – с достоинством промолвил поручик.
– А не может быть вопроса, значит не может быть и сомнений и колебаний, значит нет и выбора, – порешил пан грабя.
– Пусть так, но все же… – раздумчиво проговорил Бейгуш, – все же какой-то бес смущает меня… шепчет мне, что это…
– Ну?.. Что же именно "это"? – выжидательно глядя на состольника пытающим взглядом, спросил Слопчицький.
– Что это не хорошо! – с тяжелым вздохом, но решительно докончил Бейгуш.
– Мало того, что не хорошо, пусть будет это даже подлость и преступление! Допускаю; пусть так! – говорил Тадеуш, сдвинув свои брови. – Но подлость против заклятого, потомственного врага не есть подлость! Преступление против москаля не есть преступление! Это есть законная, святая месть! Это есть подвиг.
– Но ведь тут женщина!.. любящая женщина! – защищался Бейгуш, и в тоне его дрогнуло даже что-то похожее на внутреннее страдание.
– Эта женщина не полька.
– Не все ль равно?!
– Нет, не все! – горячо вступился Тадеуш. – Если б это была полька, – о, да! такой поступок против нее был бы величайшей низостью. Но любовь москевки я не признаю любовью! Жабы любить не могут и их любить невозможно! Если полька выходит замуж за москаля, – это горько, но это я еще понимаю; она может на пользу родине влиять на мужа, парализовать его вредную деятельность, может детей своих воспитать честно, сделать из них добрых поляков. Но много ль честных поляков женятся на москевках? – Это редкие исключения. И если уж поляк допустил себя до подобной женитьбы, то разве ради каких-нибудь особых и важных целей, а иначе это подлость, измена своим, измена родине, для которой и он, и все его потомство погибли навсегда и безвозвратно! А если ты недоглядел за собою, если ты полюбил без расчета, так не будь же тряпкой и постарайся вырвать из себя это чувство, потому что оно марает, оно позорит тебя!
Анзельм молчал нахмурясь и медленно тянул вино из уемистого стакана.
Слопчицький поглядел на него, улыбнулся и, хлопнув его по плечу, переменил свой горячий, фанатически-суровый тон на прежнюю приятельски-веселую и насмешливо-беззаботную ноту.
– Эх, дружище, – заговорил он, чокаясь о край стакана своего приятеля, – кажется, ведь оба мы с тобой воспитывались когда-то в Вильне у превелебных отцов миссионаржей[99]99
Отцы миссионеры были прямыми преемниками и наследниками отцов иезуитов. В их руках до 1863 года, главнейшим образом, сосредоточивалось воспитание юношества в Польше и в Западной России. В Варшаве им принадлежал богатый монастырь Св. Креста – один из важнейших приютов повстанской организации.
[Закрыть] и хоть были они – между нами будь сказано – скоты препорядочные, но я их уважаю! Во-первых, жить умели, во-вторых, пить умели, а в-третьих, все-таки были добрыми, если не лучшими патриотами, и то что они в меня насадили, то во мне крепко живет, и никаким московским вдовушкам, ни графиням, ни княгиням, ни циновницам, ни танцовщицам этих корней из меня не вырвать! А ты, как видно, забываешь менторские назидания… Это не хорошо, дружище!.. Встряхнись!
Бейгуш вернулся домой с обеда не в веселом расположении духа. Он много выпил, но вино не дало ни хмелю, ни облегчения: оно только болезненно-тяжело подействовало ему на организм и принесло еще более мрачное настроение.
Сусанна, по обыкновению, встретила его любовно и беззаботно. Со вчерашнего утра ни тени упрека, ни тени сожаления о беспутно утраченных деньгах не встретил он в этой женщине. Она была с ним как и всегда, словно бы ничего такого и не случилось, словно жизнь и не должна теперь ни на волос измениться; напротив, Сусанна как будто стала еще теплее и мягче, еще любовнее с ним, оттого что для нее была ужасна мысль потерять его навеки. Она не сознавала, но чувствовала, что с той минуты, как спасла его от смерти и сохранила для самой себя, он стал ей еще милее и дороже. Странное дело, – но то что в первое время их близких отношений было для нее не более как прихотью, капризом, новым развлечением от надоевшего кузена, то с течением времени, и особенно после свадьбы, стало для нее дорогим и заветным. Это уже было свое, родное. Каприз и прихоть незаметно перешли в чувство любви, в отрадное ощущение над собою более разумной, более крепкой воли и силы.
Заметив, что муж не совсем-то здоров, Сусанна, без воркотни, без неудовольствия, уложила его в постель и почти всю ночь, как добрая сиделка, нежно, кротко и терпеливо ухаживала за ним, охраняла его покой, предупреждала малейший взгляд, малейшее желание.
Все это минутами еще более кололо и щемило душу Бейгуша. Давешние убеждения и доводы пана грабе разбивались об это простое даже мало сознающее себя чувство любви и безграничной привязанности, которое таким ярким огнем горело для Анзельма в сердце Сусанны. Но чем ясней делалось в нем сознание этого простого и столь глубокого чувства, тем хуже и темней на душе становилось ему, тем гнуснее представлялась недавняя комедия с деньгами…
"О, как же я подл и низок перед нею!" посылал он ссбе мысленные упреки.
И после этого каждый новый знак участия и внимания жены, как капля растопленного свинца, жег и колюче пронизывал его душу. В эти минуты в нем, быть может помимо собственной его воли, но одною только неотразимою силою жизненного факта, совершался внутренний переворот: из грязи падения, оправдываемого принципом народной, исторической вражды, вырастало хорошее, честное чувство уважения, любви и благодарности. Москевка уж не существовала: перед его нравственным взором стояла теперь женщина, которая была его женой.
XVII. Ардальон с ореолом мученика
Полоярова подержали-подержали да и выпустили. Да и что ж более оставалось с ним делать, как не выпустить? Не держать же человека за одну только глупость его! Впрочем, арест был вменен ему в наказание.
Полояров снова очутился на свободе.
Но теперь уж это был не прежний Полояров, а рафинированный.
Это был Полояров-мученик, Полояров, "пострадавший за убеждения".
Как гордо нес он теперь свою голову! Какую усиленную, сосредоточенную мрачность старался сообщить своему взору! С какою таинственностью подавал при встрече руку своим знакомым!
– Ардальон Михайлыч… Батенька!.. Что с вами? – вопрошают его знакомые, – вы, говорят, арестованы были?
– Был-с, – с какою-то таинственною, озлобленною и в то же время торжествующей мрачностью лаконически подтверждает Полояров.
– За что и как? Расскажите пожалуйста!
– Так-с. У нас эти вещи очень просто совершаются.
– Но однако? Как же и за что?
– По доносу-с.
– Кто же донес-то? Неизвестно?
– Нет-с, известно. Нашлись добрые людишки… Ну, да ведь и мы тоже не лыком шиты! Что-нибудь да смекаем! Один учителишко есть тут… Устинов некто, так это вот они-с изволят сами похвальными делами заниматься.
– Какой мерзавец! – качая головой, восклицает соболезнующий знакомый и старается запечатлеть в своей памяти имя "учителишки Устинова", для того, во-первых, чтобы самому знать на случай какой-нибудь возможной встречи с ним, что этот, мол, барин шпион, и потому поосторожнее, а во-вторых, чтобы и других предупредить, да и вообще не забыть бы имени при рассказах о том, кто и что были причиной мученичества "нашего Ардальона Михайловича".
– Но тут и не один Устинов, тут и другие есть! – многозначительно продолжает Полояров, видимо желая показать, что теперь, после мучений, ему ой-ой-ой как много кое-чего известно!
– Кто же другие? Надо всех знать! Чем больше знать их, тем безопаснее! – горячо наступает на мученика вопрошающий знакомец.
– Есть тут… из наших, из своих же, такие подлецы! – как бы нехотя замечал Полояров.
– Но кто ж? кто?.. Чего скрывать! К позорному столбу их! В «Колокол»! Имена их отпечатать! Пускай же все знают!
– Да следовало бы!.. Вы ведь, кажись, знакомы с господином Фрумкиным?
– Да, я кое-где с ним встречался. А что?
– Да так… Коли знакомы, так раззнакомьтесь и вообще держитесь при нем поосторожней! Это вам мой добрый, приятельский совет; потому, что за охота потерпеть из-за какого-нибудь подлеца, из-за Иуды!..
Знакомец крайне удивлен, однако же и это сообщение принимает к сведению.
– Фрумкин!.. Скажите! Кто бы мог ожидать!.. Мне он казался таким порядочным человеком…
– Н-да-с! Все они порядочные до поры до времени!
– Но на основании чего же вы так думаете про него?
– Ну, батенька! это долгая история повествовать-то вам! Да и наскучило уж мне!.. Одним словом, поверьте: если я говорю так, то уж, значит, есть серьезные основания! Я на ветер говорить не стану… Я ведь сам-с, на своей шкуре перенес все это! – энергически уверяет Ардальон Полояров.
– Ну, а как там-то?.. – любопытно вопрошает знакомец. – Как держали-то вас? как обращались?..
– Хм!.. Как держали! – сквозь стиснутые зубы бормочет Полояров и тотчас же устраивает себе озлобленно-мрачную физиономию. – Могу сказать, хорошо держали!
– Нет, в самом деле, хорошо?
– Н-да-с, не дурно! Селедками, например, кормили и пить не давали… в нетопленой комнате по трое суток сидеть заставляли… спать не давали. Чуть ты заснешь, сейчас тебя уж будят: "пожалуйте к допросу!" А допросы все, надо вам сказать, все ночью у них происходят. Ну-с, спросят о чем-нибудь и отпустят. Ты только что прилег, опять будят: "еще к допросу пожалуйте!" И вот так-то все время-с!
Знакомец в ужасе и с соболезнованием качает головою.
– Н-да-с!.. Инквизиция! Утонченная, рафинированная инквизиция-с! – восклицает Ардальон. – И знаете ли, я вам скажу, надо иметь слишком твердый характер, слишком большой запасец силы воли, чтобы не пасть духом и не сделаться подлецом при такой инквизиции… Тут-с, батенька мой, вот уж именно что гражданское мужество нужно!.. Н-да-с!.. Но уж зато же, могу сказать, и закалился же я теперь!.. Теперь они могут делать со мной все, что угодно, ни шиша им от меня не добиться.
– Но как же они вас выпустили? – недоумевает удивляющийся знакомец.
– Да так вот и выпустили! Что ж такое! – разводит руками Полояров. – Подержали-с, да и выпустили, потому убедились, что со мной ничего не поделаешь. Я и сам, впрочем, не понимаю, как это они решились! Но это что! Нет-с, я вам лучше скажу-с! Они меня подкупить хотели.
– Как подкупить?!
– Да так-с. Очень просто. Предлагали мне отличнейшее место, карьеру и прочее… Единовременно целый капитал предлагали! Пятнадцать тысяч рублей!.. Предлагали журнал основать с тем, что он даже может себе быть нашим, либеральным органом, а они во всяком случае субсидию постоянно будут давать. То есть, конечно, все это очень тонко и политично предлагалось, но так, что я мог очень хорошо понять, куда оно клонит.
– И вы отказались?!
– И я отказался. Я им говорю на это: милостивые вы мои государи! Ардальона Полоярова можно сослать в каторгу, можно пытать, можно, наконец, казнить, повесить, но купить Ардальона Полоярова нельзя-с!
– Так и сказали?!
– Так и сказал-с. Да чего же? Что я церемониться с ними буду, что ли? Вот еще!.. Надо было, батенька мой, вести себя со строгим сознанием своего достоинства. Ведь я – шутка ль сказать! – я пред звездами-с, пред целой комиссией истязался-то!
– И вы где же сидели?
– В крепости-с. В Алексеевском равелине.
– Неужели?!
– Н-да-с! И еще в том самом нумере, где Пестель сидел. Вот мы, батюшка, как! Это мне после плац-майор сообщил. "Хотя мы, говорит, и принуждены были вас арестовать, но зато, говорит, вы сидите в том самом каземате, в котором знаменитый Пестель сидел". Ха-ха-ха!.. Как вам это нравится?.. а? хорошо-с? Нет, каково утешенье-то!.. Чудаки, ей-Богу!
– И вас после этого выпустили?!
– Как видите: цел, здрав и невредим. Да и что ж бы они со мной поделали, если против меня нет никаких улик и фактов? Мы, батенька, тоже ведь мозгами-то пошевеливаем не хуже, коли не получше других, и за себя еще потягаемся-с!
Ардальон хотя и напускал на себя злобственную мрачность, тем не менее в глубине души был очень доволен собой: ему все удивлялись, все его слушали, все ему сочувствовали, даже… уважать его стали гораздо более прежнего. Таким образом, относительно уважения он не ошибся в расчете.
Он продолжал очень живописно повествовать всем и каждому об инквизиционных мучениях и пытках, которые ему довелось испытать, о своем великом гражданском мужестве, о своем подвиге, и от столь частых повествований с течением времени и сам наконец убедился, что все это точно так и было в действительности. И если бы кто-нибудь вдруг возразил ему, что "послушай-ка, брат, Ардальон, ведь ты это все врешь и выдумываешь", то он не на шутку оскорбился бы и горячо стал бы вступаться за истину, ибо сам был теперь уже твердо убежден, что все это чистая истина, все это точно было, все это он говорил и все это с ним делали.
Ардальон вошел некоторым образом в славу: над ним воссиял ореол политического мученика, и какой же бы Фрумкин осмелился теперь пикнуть против него хоть единое слово?
Впрочем, Фрумкину не для чего уже было восставать против Ардальона. Во время его ареста, практичный Моисей сумел так ловко обделать свои делишки, что за долги коммуны, принятые им на себя, перевел типографию на свое имя, в полную свою собственность, совсем уже забрал в руки юного князя и кончил тем, что в одно прекрасное утро покинул вместе с ним на произвол судьбы коммуну и ее обитателей. Князь переселился к Фрумкину мечтать о скорейшем осуществлении "собственного своего журнала".
Наличные обитатели коммуны, т. е. Лидинька с Анцыфровым и Малгоржаном, очутились в очень стеснительном положении и потому поспешили переменить квартиру. Эти «нумера» стали уже не под силу их соединенному карману; новых охотников на коммунное сожительство как-то все не подыскивалось, хотя Лидинька с Малгоржаном и пытались неоднократно перетянуть к себе кое-кого из других петербургских коммун. Они наняли, наконец, небольшую квартирку в Троицком переулке, в четвертом этаже одного большого дома. Все предприятия вроде швейных и переплетных полопались сами собой после ареста Луки Благоприобретова, и ко времени переезда в Троицкий переулок окончательно уже умерли естественною смертью. Для Лидиньки наступило время действительного "личного труда", о котором она всегда столь много хлопотала на словах; но этот личный труд, состоявший в переводах с французского, далеко не показался ей теперь вкусным, по той причине, что Лидинька ни к какому труду, кроме обильных словоизвержений, решительно не была способна. Поэтому она чуть не ежедневно бомбардировала своего благоверного письмами, в которых настойчиво изображала, что если он "мало-мальски честный и порядочный, то пусть присылает ей поболее денег, в противном же случае, в Петербурге, мол, есть генерал-губернатор Суворов, и я, мол, твоя законная жена, на всякий скандал пущусь и наделаю тебе много пакостей". Благоверный, будучи человеком характера робкого и миролюбивого и притом, по духу времени, смирясь пред эмансипированными стремлениями к независимому труду и жизни своей супруги, спешил высылать ей денег, поскольку лишь было ему возможно. Лидинька с его помощью кое-как перебивалась и еще находила возможность поддерживать иногда существование обоих своих сожителей, которым «труд», за исключением разговорного, тоже как-то все не давался. Оба они не находили дела, соответствующего своим способностям и призванию. Впрочем, Анцыфров правил где-то, с грехом пополам, корректуру, хотя сам и не особенно силен был по части орфографии, а Малгоржан нашел себе «урок», обучать по-русски какого-то восточного человека из "восточных конвойных князей", который, кроме платы, угощал его еще и шашлык-кебабом.
Потеряв щедрую «кузинку», Малгоржан принялся с горя объяснять свою восточную страсть Лидиньке Затц и был ею утешен в самом непродолжительном времени. Маленький Анцыфрик стал было ревновать, но Лидинька каждый раз его просто-напросто била за столь неуместное, непоследовательное и дикое чувство. И каждый раз после такой трепки злосчастный пискунок взмащивался с ножками на подоконнике и принимался горько плакать, думая себе, за что это он уродился таким несчастным, что все его обижают.
Как-то раз приходит кто-то из гостей и застает его в слезах, с исцарапанной физиономией.
– Анцыфрик! о чем это вы плачете?
– Лйдька побила… – всхлипывая, ответил золотушный пискун и обтер обшлагом свои горькие слезы.
– Побила?.. Да вы бы ей сдачи!
– Не могу я… Она… она сильнее меня.
– Вот еще!.. сильнее! Ха-ха!.. Да вы бы ей… ну, хоть бы нос откусили, что ли!
– Я уж что-нибудь да сделаю… я непременно сделаю! Я только терпелив, потому что ссориться не люблю… а я тоже… если меня рассердят… так уж я… я тоже сердитый… я очень сердитый! И постою за себя!.. Я не позволю!..
Маленький пискунок, стараясь унять свои всхлипывания, топорщился и показывал свою храбрость; но чуть вошла в комнату Лидинька, тотчас же примолк и обиженно съежился на своем подоконнике.
Однако, мысль о том, что если уж не побить, так хоть нос откусить своей "натуральной супруге" и тем отомстить ей за все ее царапанья и обиды, крепко засела ему в голову. Он возымел пламенное желание при первом удобном случае привести эту мысль в исполнение. Лидинька же, ничего не подозревая о его затаенных коварных умыслах, продолжала по-прежнему держать при себе этого "натурального мужа" на посылках и побегушках, чем-то вроде комнатной собачонки.
В таком-то положении находились дела и отношения тройственной коммунистической четы, когда выпустили из-под ареста Ардальона Михайловича Полоярова.
Ему не трудно было, справясь у дворника прежней квартиры, отыскать их новое жительство.
Храня сухой и сдержанный вид человека обиженного и поссорившегося, он явился к ним, под предлогом, чтобы забрать кое-что из оставшихся вещей своих, белье да платье, однако же с сильным желанием в душе, чтобы дело приняло удачный оборот и дало бы ему возможность снова поселиться в коммуне и снова верховодить ее сожителями. В сущности он очень хорошо сознавал, что вне коммуны ему почти некуда и деваться.








