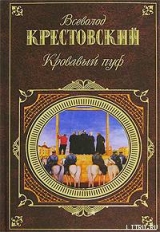
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
– Ну, вот, я, кажется, уж все сказал вам! – пересохшим, хриплым голосом промолвил Хвалынцев, подымаясь с места. Весь он был какой-то погнутый, притиснутый, словно бы на плечи ему навалилась какая-то тяжкая, темная сила и все удручает, все гнетет его собою.
Стрешнева тоже поднялась.
Разговор между ними с этой минуты пропал, и больше не нужно было ни ему, ни ей никаких разговоров.
– Если можете, не отымайте от меня вашей дружбы, – смущенно и тихо попросил он, и в тоне его просьбы Татьяне чутко сказалось затаенное страдание.
– Дружбу! – повторила она, слегка пожав плечами, – берите!.. если только когда-нибудь и на что-нибудь пригодится вам моя дружба.
Хвалынцев с чувством теплой благодарности пожал ее руку.
Снова наступило молчание. Оба стояли один против другого, не глядя друг на друга.
– Ну, прощайте, Татьяна Николаевна! – проговорил он наконец, с полным грудным вздохом; – коли можно, так не поминайте лихом! Это последняя и единственная просьба.
Она махнула рукой, словно бы говоря: "что уж! зачем лихом!.."
– Ну, дай вам Господи всякого счастия! – непритворно пожелала она ему на прощанье, все с тем же мертвенным спокойствием в лице и во взоре.
Дверь за ушедшим Хвалынцевым затворилась. Татьяна почувствовала теперь, что она одна.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I. Наедине со своею душой
Хвалынцев ушел. Татьяна Николаевна слышала, как захлопнулась за ним выходная дверь в прихожей и оставалась все в том же, по-видимому, спокойном положении. В совершенную противоположность Константину, который очень плохо умел скрывать свои внутренние ощущения, она не любила выдавать их наружу. Все ее глубокие и сильные впечатления таила она внутри себя и там перерабатывала их силою собственной сосредоточенной натуры. Хвалынцеву не нужно было много слов, чтобы заставить ее уразуметь все, что так трудно казалось ему высказать. Довольно было сказать одно только слово, в одном слове «женщина» выразить причину столь странного и спешного отъезда с переменою своей жизненной карьеры, – и Татьяна поняла все остальное своим чутким женским инстинктом. Эта женщина была не она; это была другая… Мгновенность и нечаянность такого горького сознания сильно уязвили ее. Она побледнела, и эту невольную бледность ей невозможно было скрыть: только ею одной и выразился удар, нанесенный Хвалынцевым. Понял ли он, нет ли – что ей было до того за дело? Она нашла в себе достаточно сил, чтобы ни словом, ни взглядом не показать ему того, что с нею делалось. Она сохранила видимое спокойствие, прощаясь с любимым человеком, не более как с обыкновенным хорошим знакомым – всякое другое прощание было бы слишком тяжело и неловко для него: она чувствовала это, молча проводила его глазами до дверей, и осталась одна.
Ни слезы, ни жалобы не вырвалось у нее. Порою одно только нервное дрожание какой-то жилки около губ да трепетное появление легкой морщинки между бровями слабо выдавало всю тяжкую работу, кипевшую внутри.
Старая тетка вернулась домой и не заметила в своей Тане ничего особенного.
– Новость, ma tante![76]76
Моя тетушка (фр.).
[Закрыть] – обыденным спокойным тоном и между прочим разговором сообщила она старухе. – Константин Семеныч приезжал без вас.
– Да?.. Выпустили его?.. Где же он?.. Зачем ты его не оставила? – с живым участием всполошилась добрая старуха.
– Он заезжал на минутку проститься, и просил передать вам его поклон.
– Как проститься?.. Куда?.. Что такое?.. – недоумело пожимала та плечами.
– Чуть ли не сегодня уезжает в Варшаву… Поступил в военную службу.
– Да что ты, морочишь меня, что ли?
– Нет, я вам передаю совершенно серьезно то, что он говорил.
– Господи!.. Варшава… военная служба, – пожимала плечами старуха. – Но что же за причины, по крайней мере?
– Этого я не знаю. Причин он не объяснил, – как-то коротко и несколько отрывисто проговорила Стрешнева, не глядя на тетку.
Зато тетка во все глаза глядела на нее вопросительно и удивленно, как бы ожидая от самой Татьяны объяснения этих причин и побуждений.
– Таня, что же все это значит? – после некоторого молчания, тихо и как бы робко обратилась она к племяннице.
– Не знаю, ma tante.
Опять наступило молчание, все с тем же удивленным взглядом старухи, вопросительно устремленным на племянницу.
– Таня, будь со мной откровенна! – еще тише сказала наконец она с мягкою, родственною просьбою в голосе. – Ты верно знаешь?.. Его верно высылают, насильно отдают в солдаты?.. да?..
– Сам идет, добровольно; а больше я ничего не знаю.
"Нет, тут что-то не то!" – домекнулась про себя старуха. – "Это спокойствие в ней… сдержанность эта… что-нибудь да не то"…
– Таня… – с робким участием снова обратилась она к ней, – как же ты-то теперь?
– Я? – вскинула та глазами, в которых отсвечивало какое-то равнодушное удивление, – а что же я?.. Я как и была… все по-старому…
– И это… Это тебя не трогает, не волнует?
Досадливое нетерпение, а может и сжатая внутренняя боль чуть-чуть дрогнули в какой-то жилке на лице Татьяны.
– Вот что, ma tante, – решительно сказала она, – мы больше об этом говорить не будем… Дай ему Бог всякого счастья, ну, и… довольно!
Старуха поняла, что девушке слишком тяжело говорить на эту тему, и потому, сколь ни хотелось ей самой узнать подробности и пружины всего этого странного обстоятельства, разговор между ними о Хвалынцеве не возобновлялся более ни разу. Бывало, нарочно с тайною мыслью про себя, как-нибудь кстати приплетет старуха его имя, вспомня, что вот это, мол, рассказывал Константин Семенович, а вот то-то случилось при Константине Семеновиче, а вот это блюдо он очень любил, или к тому-то вот так-то относился; но при всех этих случаях втайне любопытный взор ее не мог отыскать в лице девушки ничего такого, что помогло бы хоть чуточку раскрыть ей загадку. Татьяна, отвечая на подобные заявления тетки, вспоминала о Хвалынцеве хотя и кратко, не распространяясь, но совершенно просто и спокойно, как и о многих хороших знакомых. Никогда ни малейшей тени едкой горечи, злобы, упрека или сарказма не вырвалось у нее при упоминании этого имени, словно бы и в самом деле Хвалынцев был для нее не более как случайный, хотя и хороший знакомый – и только.
А между тем, внутри ее творилось другое.
Она никогда не придавала Хвалынцеву никаких особенных героических качеств, идеальных свойств и добродетелей, ради того лишь что он ей нравился: она была слишком положительный человек для этого, глядела на жизнь и людей слишком просто и прямо. Она не изукрашивала его, не глядела на него сквозь радужную призму, словом, не творила себе из него кумира, и между тем так много и глубоко полюбила его, – даже глубже и более, чем сама могла думать до дней, последовавших за окончательной разлукой. Но как и за что полюбила? – ни того, ни другого объяснить себе она не могла, да и не старалась, а если бы стала объяснять, то объяснение это было бы фальшивое, измышленное ради самообмана. А в натуре ее лежало слишком много искренности, чтобы лгать пред другими, и твердой прямоты, чтоб обманывать самое себя. Как полюбился он ей? Полюбился незаметно, исподволь, так что и слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а она уже чувствовала, что любит. Шло и росло это чувство так тихо, просто и как бы совсем спокойно; но чем тише и проще, тем прочней и глубже пускало оно корни в ее душу. За что полюбился он ей? Этот вопрос, после разлуки с ним, она и сама себе задавала неоднократно, и был на него только один ответ. Вспоминался Татьяне тот теплый, майский вечер в Славнобубенске, когда в беседке, обвитой густыми побегами навоя и хмеля, сидя над шитьем, ожидала она обычного прихода Хвалынцева. В этот вечер был его последний, прощальный приход: завтра утром он должен был ехать. И ясно, почти до малейших подробностей, вспоминался ей случайный разговор, возбужденный тогда Хвалынцевым. Как-то довольно кстати предложил он ей несколько щекотливый вопрос: "Что б она сделала, если бы, выйдя замуж, глубоко полюбила впоследствии другого?" Ответ был ясен и прост: "Я бы не вышла иначе, как только убедясь наперед в самой себе, что я точно люблю человека, что это не блажь, не вспышка, не увлечение, а дело крепкое и серьезное, и после этого мне уж конечно не пришлось бы полюбить другого".
Теперь же Татьяна, к несчастию, все более убеждалась, что ее чувство не блажь и не увлечение, а то крепкое и серьезное дело, которое точно должно назвать настоящею любовью, и при котором нельзя полюбить другого.
"Да если другой-то будет лучше?" – задал ей Хвалынцев новый вопрос в тот вечер. И точно так же, с полною ясностью вспоминался теперь Татьяне ее ответ, который был ее всегдашним, прочным убеждением, ибо она инстинктом чувствовала, что иначе и быть не может. "Тут нет, мне кажется, ни лучше, ни хуже", отвечала она, "может быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человека, потому что любишь не за что-нибудь, а любишь просто, потому что любится, да и только. И довольно полюбить раз да хорошо, а больше и не надо – и одного хорошего раза на всю жизнь хватит…"
И этот-то раз был теперь для нее роковым разом. Не то, чтобы запало в нее сознание, что Хвалынцев дурной человек: то что думалось ей порою, было хуже этого сознания – ее брало сомнение, что он человек легкий, ветреный, поверхностный и вообще ненадежный, на которого едва ли можно в каком-либо деле крепко опереться. И эта-то ненадежность, эта нравственная, как казалось ей, слабость и шаткость более всего наводили на нее горечь и досаду. Был ли таков Хвалынцев на самом деле – это уж другой вопрос; но ей стало иногда казаться теперь, будто он таков, и в таком ее взгляде на него – надо сознаться – чуть ли не главную роль играло эгоистическое чувство любви к отвернувшемуся от нее человеку и женское самолюбие, по струнам которого он больно ударил тем, что предпочел ей другую, "до такой степени", до полного самопожертвования. Взбалмошный факт поступления в военную службу и этот быстрый отъезд, причиной которого была «женщина», казались ей, по неведению настоящих причин и побуждений, фактами сумасбродного самопожертвования. Когда она, забыв про самое себя или, так сказать, отрешившись от себя, глядела на этот поступок как бы со стороны, он ей даже нравился своею сумасбродною решительностью: «значит любит», думалось тогда Татьяне. Но когда уязвленная гордость, самолюбие и пренебреженная любовь болезненно напоминали ей, что ведь это она, она сама оставлена и забыта, что все это сделано для какой-то другой – в душе ее закипало и ревнивое чувство злобы против Хвалынцева, и эгоистическое умаление того самого поступка, который за минуту ей нравился и, может, продолжал бы нравиться, если бы Хвалынцев был для нее посторонним, чужим человеком, если б она любила не его, или никого не любила. Самолюбие щемило, обиженная любовь не засыпала и против воли бродила в ее сердце – надо было убаюкать, уходить, задушить в себе и то, и другое – и вот, плодом этого «надо» у нее и являлось сомнение в Хвалынцеве, в его надежности. Это был для нее своего рода отвод, который мучил ее чуть ли еще не более чем все остальное. Чем бы ни казался ей порою Хвалынцев, она понимала, чувствовала и, так сказать, со всею внутреннею осязательностью души ощущала, что все-таки любит, и любит не переставая, не умаляясь в своем, Бог весть почему, глубоком и сильном чувстве.
Такие натуры, действительно, любят раз да хорошо; в них это чувство зарождается тихо, кроется и коренится глубоко и высказывается просто, без аффектаций, да кроме того, эти натуры еще не любят казать его пред посторонними глазами.
Вспоминалось еще Татьяне, как в тот самый прощальный, майский вечер, Хвалынцев, раздумавшись над ее словами, сказал ей, что ее взгляд на серьезное чувство, пожалуй, хорош, да только та беда, что с ним рискуешь иногда быть очень несчастливым в жизни, если вдруг ошибешься, да полюбишь человека ветреного, увлекающегося, который разлюбит тебя потом, который в каждом смазливом личике будет находить себе источник чувства или развлечения, – тогда что? спросил он в том разговоре. "Да, тогда не хорошо!" – согласилась с ним Татьяна, – "и это, бесспорно, величайшее несчастие". Да, тогда не хорошо, часто и теперь повторяла она себе, раздумываясь и над его словами, и над своим упрямым, невольным чувством. "А я говорила ему тогда, что во власти самой женщины сделать так, чтобы человек всегда любил тебя", горько думалось Татьяне в эти минуты, "только одну тебя! чтобы ему и в голову не пришло о возможности увлечься другою. Я говорила ему, что это может сделать женщина, что для этого ей надо только уметь любить, любить прежде всего и верить, в себя верить. Ну вот, ты и верила в себя, ты и любила, и любишь, что же ты не сделала так, чтоб он не ушел от тебя, чтоб он не увлекся другою, чтоб он любил только тебя одну, что ж ты не сделала этого? Или силенки не хватило? Или мало любила еще?" Все это были желчные, ядовитые вопросы, полные саркастических упреков самой себе, и этими бесплодными вопросами она еще пуще бередила свою больную, раненую душу. Эта глухая борьба и внутренняя работа над собою становились порой слишком тяжелы. Нужен был какой-нибудь исход, какое-нибудь отвлечение, отдых, а этого не было. Сказать все тетке, поделиться с ней душою Татьяна не могла, не хотела. Хоть и знала она, что тетка сердечно, сочувственно примет ее исповедь, но какое-то внутреннее «нельзя», «не надо», «не к чему», удерживало ее от этого: есть натуры, которые от наиболее близких, родственных и любящих их людей наиболее ревниво оберегают тайник своего внутреннего мира. Татьяна чувствовала, что был один только человек, к которому она могла бы совсем разумно, совсем сердечно и просто прийти и сказать свое горе, и что этот человек понял бы ее скорее и глубже чем всякий другой. Таким человеком был для нее Андрей Павлович Устинов. Подавляемая своими тяжелыми думами, она вспомнила теперь про него, про свою добрую дружбу к нему. Как женщина и притом женщина чуткая, она не могла не замечать в нем то полное глубокого, почти благоговейного уважения чувство, которое питал он к ней. Это чувство было настолько скромно, застенчиво и робко, что он как бы боялся не только высказать, но даже дать ей хоть сколько-нибудь заметить его. Татьяна между тем очень хорошо это видела и понимала, что маленький математик любит ее так же тихо и глубоко, как она Хвалынцева. Но подметив в нем это чувство, она взамен могла дать ему только дружбу. Под наплывом своих воспоминаний, в одну из тех в высшей степени редких у нее минут, когда переполненная душа настоятельно запросила поделиться с кем-нибудь своим горем, Татьяна в каком-то экзальтированном порыве села и написала письмо Устинову. Это была полная и откровенная исповедь всей глухой борьбы, которую она теперь столь упорно, но тщетно осиливала. Внутреннее одиночество, душевное сиротство томило ее, и она просила Устинова, если возможно, приехать в Петербург. Она знала, что он без того часто пред ее отъездом высказывал намерение покинуть, ради Петербурга, постылый ему Славнобубенск, а теперь, по первому ее призыву, явился бы сюда непременно. Только в нем одном казалось ей возможным найти себе бескорыстную, нравственную поддержку и дружеское успокоение. Но час спустя, перечитав свое письмо, Татьяна разорвала его на куски. «Не надо!» – решила она себе. "Ты ведь знала и раньше, что он любит тебя; так зачем же не раньше, а только теперь? Оттого что тебя больно ударили, так ты и бежишь как малый ребенок под крылышко няньки, чтоб она тебя утешила, успокоила… А ведь он любит тебя так же как ты этого; но ведь он ни под чье крылышко не прятался, когда ты ему платила равнодушием под видом дружбы, – а теперь, как больно стало, так и к нему!.. Нет, не надо! Не пойду я к нему, ни к кому не пойду!.. И никого, и ничего мне не надо!"
Она редко стала выходить из дому, – разве только для прогулок, выбирая для них улицы менее людные, потому что ей как-то бессознательно досаден становился весь этот кипучий шум и грохот, вся эта толчея бойкой городской жизни. Она с удовольствием променяла бы теперь этот Петербург на двухоконную комнатку в глухой, степной деревнюшке: ей захотелось уйти и спрятаться от всех и всего, а более от самой себя, от своей тоски и думы. Знакомых у ее тетки здесь было очень не много, да и те-то стали в тягость Татьяне; даже театр, который она так любила, утратил для нее всю свою прелесть. Мало-помалу на нее стала целыми днями находить какая-то лениво-сонная апатия. Но такое состояние скоро было замечено ею, и она испугалась его. "Нет, надо кончить это! Надо дело делать, а то эдак вконец распустишь себя!" – сказала она себе и нравственно встрепенулась. Но какое дело? В чем дело и где найти его, это дело по душе, по сердцу? В окружающей обстановке данной минуты Татьяна не видела для себя этого спасительного дела, которое исцелило бы ее, да его там и не было. Как же, наконец, быть-то? задала она себе вопрос. Читать и учиться! больше учиться, больше читать – это все, что до времени остается ей, а там… время, говорят, вылечит. И Татьяна остановилась на этом решении.
II. Книжная торговля и кабинет для чтения Луки Благоприобретова и К°
Эти слова яркими и крупными буквами были начертаны на большой вывеске, прибитой над пятью окнами первого этажа одного из больших домов, на одной из бойких, промышленных улиц, и эти-то самые слова случайно, во время прогулки, попались на глаза Татьяне Николаевне Стрешневой.
"Вот и кстати!" – подумала она. "Дай зайду, авось можно абонироваться, чтобы брать книги на дом".
Подумала и зашла.
Обстановка магазина довольно прилична. За ясеневою конторкою стоит какая-то дама весьма привлекательной наружности, с пенсне на носу, и вписывает что-то в конторскую книгу. Полурастворенная дверь позволяет видеть часть смежной внутренней комнаты, которая, судя по обстановке, служила кабинетом для чтения. Из этой комнаты доносилось несколько одновременно спорящих голосов, между которыми вмешивался порою и голос женщины.
Стрешнева обратилась к даме, стоявшей за конторкой.
Дама, прежде чем ответить на ее вопрос, оглядела ее всю с ног до головы и, продолжая вписывать, спросила в свою очередь:
– А вы на какие книги хотите абонироваться?
– Там смотря как… Это будет зависеть от моего выбора.
– Мы на глупые книги не принимаем абонемента, – ни с того, ни с сего заметила вдруг дама в пенсне. – Если вы на такое чтение думаете подписаться, так обратитесь лучше в другие библиотеки.
Такая неожиданная выходка, ничем не вызванная со стороны Стрешневой, показалась ей по меньшей мере очень странною. Она уже готовилась возразить, что, по ее мнению, в книжном магазине, ради его собственных выгод, должны быть всякие книги, а на выбор для чтения той или другой из них едва ли можно налагать такие условия, как вдруг в эту самую минуту с порога смежной комнаты громко раздался приятно удивленный голос:
– Ах!.. Стрешнева?!.. Неужели это вы? Да какими судьбами? Здравствуйте!
Татьяна Николаевна обернулась и увидела старую свою знакомку.
На пороге, с неизменной папироской в руках, стояла Лидинька Затц.
В Славнобубенске они были несколько лет сряду хорошими знакомыми. Лидинька не без внутреннего удовольствия называла себя даже приятельницею Стрешневой и, несмотря на все свое подчинение авторитету Ардальона Полоярова, недолюбливавшего Татьяны, имела твердость не изменять к ней своих отношений, хотя отношения эти и были чисто внешние. В сущности, Лидинька не понимала Стрешневой, да никогда и не задавалась мыслью понять ее; но так как раз уже установилось между ними доброе знакомство, и так как Стрешнева оказывала ей некоторое внимание, всегда была очень мила и ласкова с нею, и наконец, так как она, благодаря себе и тетке, была довольно хорошо и независимо поставлена в славнобубенском «обществе», то Лидинька и считала за лучшее сохранять с ней свои хорошие отношения и по-своему даже «любила» ее.
Она и теперь, по-видимому, очень обрадовалась этой неожиданной встрече и даже поцеловалась с Татьяной.
– Здравствуйте, миленькая моя! Какими вы судьбами забрели сюда? Ступайте к нам сюда, сюда, вот в эту комнату: это наша читальня! – тараторила Лидинька, таща Стрешневу за собою. – Как у нас тут прекрасно! Просто первый сорт! Пойдемте, поболтаемте, я вас с нашими познакомлю… Господа! вот вам Стрешнева, моя славнобубенская приятельница! – возгласила она в заключение своей болтовни, введя Стрешневу в читальную комнату, где заседали три-четыре человека весьма разнообразной наружности.
– А это вот, – продолжала Лидинька, указывая по очереди на заседавших господ, – Благоприобретов, Малгоржан-Казаладзе, Фрумкин и князь Сапово-Неплохово, в некотором роде благородная отрасль древнего аристократического рода, хотя нам на это наплевать!
При этих словах, господин, названный князем, с поклоном новой гостье, глупо оскалил свои зубы и еще глупее как-то загоготал громким смехом. Это «наплевать», очевидно, весьма ему понравилось. Лука Благоприобретов, имя которого красовалось на вывеске, был ряб и вихроват. Желтые, короткие волосья его вихрами торчали во все стороны как на голове, так и на лице. Весьма несуразно скроенный, одетый в неуклюжий пиджак и туфли он был высок, узловат в костях и все как-то сутулился, ежился, пружился, и говорил не иначе как угрюмым басом и притом очень воздержно, только в самых крайних случаях, ограничиваясь более либо выразительным молчанием, либо же кратким мычаньем очень глубокомысленного свойства. Он сохранял в себе явные следы провинциальной семинарии доброго старого времени и на взгляд казался уже пожилым человеком, хотя ему еще не было и тридцати лет.
Малгоржан-Казаладзе принадлежал к расе "восточных человеков" армянского происхождения и немного подходил к тому достолюбезному типу, который известен под именем отвратительных красавцев. Впрочем Малгоржан и сам, по общей слабости своих соотчичей, думал о себе, что он "молодца и красавица" и что поэтому ни одна женщина против его красоты устоять не может.
Моисей Исаакович Фрумкин, очень вертлявый молодой человек, довольно красивой наружности, постоянно старался держать себя как можно бойче и развязнее, втайне желая тем самым скрыть свое семитическое происхождение, и в силу этой же причины очень огорчался в душе своей тем печальным обстоятельством, что носил выдающееся имя Моисея, да еще вдобавок Исааковича.
Князь Сапово-Неплохово являл из себя тощего, длинного, безбородого юношу, с пошленькой физиономией и в безукоризненном костюме по последней модной картинке. Этот князь, по-видимому, весьма гордился тем, что находится в существе Малгоржана, Фрумкина, Затц и Благоприобретова, к которым охотно относился со знаками искреннего почтения. Он был здесь всех моложе и всех глупее, о чем красноречиво свидетельствовала его физиономия! Более сего сказать о нем нечего.
Все эти личности состояли членами той компании, для которой Лука Благоприобретов служил вывеской. Лидииька тараторила как сорока, не умолкая почти ни на минуту. Слова: "ассоциация, труд, капитал, разделение труда, индифферентизм, дело, подлость, подлецы, правомерность, целесообразность, коммунизм, прогрессизм, социализм, позитивизм, реализм" и т. п., каскадом лились с языка Лидиньки, которая с переездом в Петербург, как заметила теперь Стрешнева, стала еще бойче и в известном направлении полированнее. По всему было заметно, что общество Фрумкина и Благоприобретова очень хорошо отшлифовало ее относительно этого направления. Лидинька не без увлечения повествовала Стрешневой, что они, вообще новые люди (то есть и она в их числе), устроили свою жизнь на совершенно новых началах, что у них организовалась правильная ассоциация с общим разделением труда и заработка, что эта ассоциация завела вот уже книжную торговлю и переплетную мастерскую, и теперь хлопочет о заведении швейной и типографии, и что все они, а она, Лидинька, в особенности, ужасно теперь заняты делом, и что дела у ней вообще просто по горло: "вся в деле, ни на минуту без дела", тараторила она, и Стрешнева довольно внимательно слушала ее болтовню. Фрумкин вызвался руководить выбором ее чтения и предложил на первый раз Бокля, которого Татьяна хоть и читала, однако же не прочь была и еще раз перечитать повнимательнее; но Благоприобретов не одобрил такого выбора.
– Бокль, это так себе. Он, пожалуй, хоть и изрядный реалист, – заметил Лука, – а все-таки швах! До точки не доходит… филистер! А если читать – никого и ничего не читайте! Одних наших! Наши честней и последовательней… ничего не побоялись, не струсили ни перед кем… Наши пошли гораздо логичнее, дальше пошли, чем все эти хваленые Бокли. Это поверьте, ей-Богу так.
– Что это, Благоприобретов, какая у вас скверная привычка: все «ей-Богу», да "ей-Богу"! – тотчас же заметила Лидинька. – Предоставьте дуракам и невеждам употреблять это слово, а мы, кажется, можем обойтись и без подобных пошлостей.
Благоприобретов, нисколько не стесняясь, заметил на это Лидиньке, что она сказала глупость, но Лидинька с апломбом возразила ему, что она только последовательна.
Стрешнева просидела в читальне около часу. Лидинька просила ее заходить почаще и сама тоже обещалась как-нибудь завернуть к ней. В конце концов ее снабдили абонементным билетом и связкою нескольких книжек, по преимуществу состоявших из собранных и переплетенных воедино кой-каких журнальных статей. Выбор этих книжек удостоил сделать для Татьяны сам Лука Благоприобретов, сказав, что эти статьи недостаточно прочесть, но надо даже изучать как догмат всякому порядочному и честному человеку.
Хотя Стрешнева и не слепо поверила на первый раз рекомендации Благоприобретова, тем не менее в этих книжках заключался для нее известный интерес, и они были охотно приняты ею.
Теперь, казалось ей, был отыскан хоть призрак какого-нибудь дела: книга все же представляла некоторое отвлечение от тяжелых дум и гнетущего чувства.








