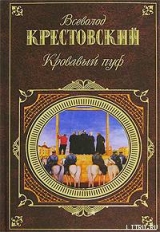
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц)
– Ну, вот, детушки, теперь и костерок разложим, пообсушимся да картошки подварим, дело-то и ладно будет!
И он опустился на несколько сажен в овраг. Там находилась другая небольшая пещерка. На полу был сложен валежник, сухолистье да дрова, а под потолком сережками подвешены связки вяленой рыбы облы, которую поволжане зовут «воблой», мережи да лесы с удочками. Старик иногда занимался рыболовством. Он притащил теперь из своего запасного магазина связку сухой воблы да охапку хвороста и разложил костер на площадке, пред входом в свою келью. Две-три пригоршни прошлогодних листьев, подожженных с помощью трута, быстро занялись пламенем: огонек затрещал и побежал по прутьям, из костра закурился едкий белый дымок. Чрез несколько минут валежник горячо разгорелся. Старик подвесил над ним на треноге небольшой котелок с водой и картофелем и, вместе с гостями своими, присел на корточках, поближе к огню, сушиться. Те ждали, что он начнет спрашивать их, что за люди, откуда и куда путь держат и зачем идут; но старик даже и не подумал предложить хоть один из подобных вопросов. Это все было для него дело постороннее, чуждое, мирское; он знал только, что к нему пришли два человека просить гостеприимства, и радушно предложил им все, что мог, как предложил бы каждому, кто пришел бы к нему за этим.
– Что, дедушка, хорошо в пустыне-то? – спросил Василий Свитка.
– Хорошо, милый человек, хорошо! Тихо!
– И не страшно тебе?
– Зачем страшно? Человек одного только гнева Божьего да дня судного страшиться должен.
– А зверь всякий? а змеи? Ведь тут их всего этого страсть! – подхватил Шишкин.
– Зверь не трогает и змея не кусает, потому им от Бога такой предел положен. Зверя ты не тронь, и он тебя не тронет. Он на этот счет тоже справедливый. Ну опять же кто Бога знает, тому по писанию "дадеся власть наступити на змию и скорпию и на всю силу вражию". Значит, чего ж тут страшиться? Надо только веру имати. Сказано: "от Господа вся возможная суть".
– И в мир не хочется? – спросил Свитка.
Старец тихо поглядел на него и взгляд его словно бы выразил: чего это малый пытает-то блазно?
– В мир? – молвил он, помолчав немного. – Да что в миру-то делать? Я и тут в мире… Вот он, мир Божий, окрест меня… и тих и прекрасен… Чего же еще-то?
– Да, чем дальше от людей, тем лучше, – заметил Шишкин. – Теперь в миру-то Бог весть что делается!.. Кажись, никогда еще такого не бывало… Веру, дедушка, обижают!
Старик внимательно посмотрел на юношу.
– Веру? Какую такую веру-то?
– Нашу, дедушка, нашу! Христианскую.
– Кто ж обижает-то?
– Как кто!.. Известно, начальство, власти…
Тот, прежде чем ответить, еще раз внимательно поглядел на обоих.
– За что ж им свою-то веру обижать? – возразил он. – Они, напротив того, блюдут свою веру-то; им не стать обижать ее.
– Да им это все одно, дедушка!
Старик тихо улыбнулся. "Молодо– зелено", – сказала улыбка его.
– Нет, чадушко, не все одно! – вздохнул он. – Ты какую веру разумеешь-то? Веры есть разные, и всяка себя православной нарицает. Кабы нашу веру обижать, ну, это дело иное, потому вера наша старозаконная. Она же просия древле с южных стран, от Киева-града. А ныне пошла все вера искаженная ляшецами да щепотниками. Одни только наши отцы, что живут в немцах да в турках, прости Господи, остались невредимы в вере-то. А спаслись они по старым книгам, которые писаны прежде Никона патриарха, ходяще по образу Божию и по подобию его. А которые и по России живут, так и тех, слышно, ныне не трогают. Да и что же трогать, коли они, по писанию, крыяхуся в горах и вертепах, и в пропастях земных, и никому никакого зла не творят?
– Э, дедушка! да мало ли гонений на вас бывало! Так неужто же все это терпеть!.. Да до коих же пор?
– А что же, милый? Гоненьев точно что много было. Ну, гонимы – и терпим; хулимы – утешаемся о Господе нашем. Упование наше Отец, прибежище наше Сын, покровитель есть Дух Свят, и защита наша есть сам Спаситель, равно соцарствующий Святой Троице. Ты вот так строптиво мыслишь: до коих, мол, пор терпеть-то?.. А что сказано-то? Сказано: "претерпевый до конца, той спасен будет". Значит и терпи.
– Да; вот как поляки, например, те тоже так рассуждают, – сказал Свитка. – Их тоже в Польше уж как ведь мучают! И казнят и огнем жгут, и в Сибирь ссылают тысячами, а они все терпели и терпят… Только собираются всем народом в церковь Богу молиться за свое горе, чтобы Бог избавил их, а в них тут, в самом же храме Божьем, из ружья стреляют, штыками колют… и женщин, и малых детей, всех без разбору!
Старик сострадательно покачал головою.
– Кто ж это их так-то? – спросил он.
– Как кто!.. Да все наши же, русские! Солдаты… начальство.
– Ну, нет, милый! Это ты, должно, блазное слово молвишь! Чтобы русский человек малых ребят стал штыком колоть, этого ни в жизнь невозможно! Вот у нас, точно что бывало, злотворцы наши, чиновники земские понаедут, молельни позапирают, иконы святые отберут, иной озорник и надругательство какое сотворит, это все точно бывает об иную пору, а чтобы баб с ребятами в церкви колоть – это уж неправда!
– Чего неправда! – горячо подхватил Шишкин; – а вот недавно еще, с месяц назад, в Славнобубенской губернии, в Высоких Снежках, помещики да генералы с солдатами по мужикам стреляли! Сколько народу-то перебили, говорят! Страсти просто!
– Для чего ж это они стреляли? – недоверчиво спросил старец.
– А так вот! Здорово живешь!
Тот с видимым недоверием сомнительно покачал головою.
– Нет, что-нибудь да не так, – сказал он. – Здорово живешь стрелять не станут… Знавал я некогда и Высокие Снежки, хорошее село. Только там ведь больше все, почитай, народ никонианец живет. За что ж в них стрелять-то. Помещику своих крестьян морить – себе же убыток.
– А за то, за самое, что им теперь волю дали! Помещики злы на это!
– Хм… злы-то, оно может и злы, да ведь кто же волю-то дал? Ведь царь дал? А солдаты чьи? Все царские же? Так как же ж царь пошлет солдат бить крестьян за свою же волю? Это ты, малый, невесть, что городишь! Тут, верно, что-нибудь да не так!..
– Да ведь бьют же, например, хоть тех же самых поляков, ни за что, ни про что! – подвернул Свитка свое слово.
– Поляка коли и бьют, так за то, что поляк бунтует, – уверенно возразил старик. – Он еще издревле мутит землю Русскую, все под свой римский крыж поддать нас хочет, за то его и бьют… Поляка, милый, бьют за дело. А впрочем, не нашему разуму судить про то! – решительно завершил старик, – и вы меня, милые, такими речами не блазните! не смущайте меня!.. Я этих самых дел не знаю, и не верю вам, и слушать не желаю!.. Мне не о том надлежит помышление иметь! А вот и картошка никак поспела! – заглянул он в котелок. – Вот и поедим с рыбицей. Ешьте себе, ничтоже сумняся! Милости просим!
Он отделил себе в особую посудинку несколько картофелин, а остальные подвинул гостям своим. И все молча, с молитвой, по примеру старика, принялись за ужин.
Наступила уже ночь, а с ее тишиной стало ощутительным то особенное явление, которое летом всегда замечается на Волге: вдруг, откуда-то с юга пахнет в лицо тебе струя теплого, сильно нагретого воздуха, обвеет всего тебя своим нежащим, мягким дыханием, то вдруг вслед за тем, с северо-востока резким холодком потянет и опять, спустя некоторое время, теплая струя, и опять холодок, а в промежутках – ровная тишь и мягкая ночная прохлада. Из-за гор показался край полного месяца в темно-синем, чистом небе, и сквозь необыкновенно прозрачный воздух на золотистом диске этого месяца отчетливо и резко вырисовывались черные ветви молодых деревьев на той вершине, из-за которой он прорезывался. Где-то иволга тихо стонала; дикие утки крякали изредка под берегом, а по воде, волнистыми струями, начинали бродить прозрачные туманы. И тихое безмолвие жегулевской ночи нарушалось иногда только мерным шумом парохода, который выбрасывал из трубы мириады красных искорок, длинной полосой кружившихся змейками за кормою.
Путники улеглись в пещере, а на площадке долго еще молился жегулевский старец, кладя положенное число поклонов, и – пока до сна – рассеянное ухо молодых людей слышало слова благоговейной молитвы: "Боже, милостив буди ми грешному!.. Боже, направи мя на путь Твоея святыя истины и от злых избави и отврати помыслы от лукавого, да ничем же смущаем предстану пред Тобою!"
XXXIII. Золотая грамота
Утро встало тихое, сияющее. День был воскресный. Судя по солнцу, должно быть, был уже час одиннадцатый. Путники спускались с горы в лощину, где засела небольшая деревнюшка, дворов в сорок. Еще издали можно было легко отличить кабак по той пестрой кучке народа, которая стояла и галдела перед крылечком… Кабачная изба глядела наряднее прочих. Между сермягой и пестрядью ярко выделялся кое-где розовый, желтый и голубой ситец, давая чувствовать собою каждому, что день действительно был праздничный. У кабака стояла небольшая крашеная тележка в одну лошадку, в каких обыкновенно ездят малой руки управляющие, сельские попы, да приказчики хлебных торговцев, скупающие товар на месте. Сытая лошадка стояла без привязи, потупя голову и терпеливо отмахиваясь хвостом от докучливой волжской мошки. Встреченные лаем собак, отмахиваясь от них дубинками, вступили путники в деревню и прямехонько направились к кабаку.
– С праздником, господа честные! – мимоходом поклонились они кучке народа, взбираясь на крылечко.
– И вас с тем же! – ответили им. – Откуда Бог несет?
– С-под Новодевичья… Пока до Самары бредем.
– А что так?
– Да так… бурлачили, да животом заболели под Новодевичьим-то… Приказчик и покинул… Теперь бредем, пока Бог даст что.
– Ну, помогай вам Христос!
И они прошли в кабачную горницу, расселись в уголку перед столиком и спросили себе полуштоф. Перед стойкой, за которой восседала плотная солдатка-кабатчица в пестрых ситцах, стояла кучка мужиков, с которыми вершил дело захмелевший кулак в синей чуйке немецкого сукна. Речь шла насчет пшеницы. По-видимому, только что сейчас совершено было между ними рукобитье и теперь запивались магарычи. Свитка достал из котомки гармонику и заиграл на ней развеселую песню.
Шишкин молодецки хватил шкалик, подщелкнул языком, поморщился и крякнул, да закусил со стойки сухариком и залихватски запел под гармонику:
Как злодеюшка чужа жена,
Да прельстила добра молодца меня,
За колечушко я бряк! бряк! бряк!
А собачушка-то тяф! тяф! тяф!
А сердечушко-то иок! иок! иок!
А как муж во двор да скок! скок! скок!
Мою спинушку набухали,
Что четырьми ли обухами,
А как пятый-то кистень
По бокам свистел.
Ой, свист! свист! свист!
Плетка хлысть! хлысть! хлысть!
– Эка черти! Важно! важно! – крикнул приказчик, подернув плечом и стукнув кулаком по стойке. – Тетка! Ставь еще сладкой водки!
Заслыша звуки гармоники, в кабак повалила и та кучка народа, что галдела пред крылечком. Солдатка приветливо ухмылялась, чуя хорошую выручку. Путники меж тем, не обращая внимания на новых слушателей, продолжали свое дело. Свитка переменил песню и заиграл новую. Шишкин с той же молодецкой ухваткой, выразительно подмигивая нескольким молодицам да девкам, ухарски подхватил ее:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок!
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
С милым спать не даешь?
И я встану ли, младешенька,
Раным рано ли, ранешенько,
Я умоюсь ли, младешенька,
Белым мылицем белешенько,
Я взойду ли под насесточку,
Петушка возьму за крылышко,
За правильное за перышко,
Я ударю об насесточку:
Еще вот-те, петушок,
За ночной за смешок!
Зачем рано встаешь,
Голосисто поешь,
Голосисто поешь,
С милым спать не даешь!
– Ишь ты, как бурлаки-то песни играют! – восхищались в кучке народа. – Ай, ляд же дери их!.. Хорошо, биря!.. Что и говорить!.. И отколь это такие развеселые.
Песни, видимо, душевным образом располагали народ в пользу двух бурлаков. Надо было еще более завладеть этим хорошим, приветливым расположением, чтобы тем успешнее подготовить начало дела.
Шишкин подмигнул товарищу, налил еще немного из полуштофа и запел новую:
Ой, чоб! чеба-чоб,
Чеботочки мои!
Черевички невелички,
Алы бархатный!
Уж я вышла молода
За новыя ворота,
Черевички скрипят,
А молодчики глядят.
Ах, молодчики глядят —
Все гулять со мной хотят,
Меня в гости зовут,
В карман золото кладут.
– Ай, лихо играют!.. Молодца! ей-ей, молодца!.. Веселые! – замечали слушатели. – И с чего это их так раззудило?
– С воли радуемся! – обратился к мужикам Шишкин, – потому ноне, ребятушки, совсем уж пошла вольная воля! Слышали, братцы?
– Чего этта?.. Волю? – Как-ста не слыхать! По церквам читали.
– Ну, это не та, что по церквам – это совсем особая!
– Какая особая? – недоумело переглянулись в кучке.
– Напольёновская! Вот какая! – подхватил Свитка. – Император Наполеон Третий, Бонапарт, подарил эту волю.
– Эко чудовый парень! – ухмыльнулись некоторые из слушателей. – Банапар… анпиратор!.. Какой те Банапар? У нас в Расеи один государь Лександра Миколаич! Что толкуешь-то, несуразый!
– А то и толкую! Слышали, братцы, про Крымскую войну? про Севастополь-то?
– Как-ста, не слыхать!.. Некрутчина тогды большая была…
– Ну, так вот, против нас тогда воевал француз…
– И турка! – подсказал кто-то из кучки.
Свитка глянул туда и заметил отставного солдатика в заплатанном солдатском пальтишке.
– Ну да, и турка, – согласился он. – Так вот, Напольен с тем только и мировую подписал с нашим государем, чтобы мужичкам беспременно волю дать, а коли не дашь, говорит, так будем опять воевать, и все ваше царство завоюем.
– Ишь ты, как! – замечали озадаченные слушатели. – Да что ж это ему такая об нас забота? С чего это?
– Потому и забота, что он – добродетельный человек и хочет, чтобы все вольные были. Вот, сказывают, и поляков тоже ослободить велел.
– Поляков? – подхватил солдатик. – Ну, уж это совсем напрасно! Поляк глуп, его, напротив, в струне надо содержать, а без того сичас забунтует.
– Эх, голова! как это так легко сказать! – горячо вступился Свитка. – Если нам с тобой хорошо жить на свете, и никто нас не обижает, разве мы станем бунтовать? – да Господи помилуй! Зачем нам это?
– Ну, так то мы, а то поляки! – возразил солдатик.
– Да разве не все одно это?
– Нет, не все! Уж про поляка ты мне лучше и не говори. Поляка, брат, я знаю, потому в этой самой их Польше мы три года стояли. Первое дело – лядащий человек, а второе дело, что на всю-то их Польшу комар на хвосте мозгу принес, да и тот-то бабы расхватали! Это слово не мимо идет!
В кучке отзывчиво, дружно и весело раздался смех удовольствия. Очевидно, слово пришлось по сердцу.
У Василия Свитки при этом только слегка подернуло мускул справа над верхней губой.
– Н-да, вот там толкуй, как знаешь, – продолжал он, – а Напольён все-таки приказал волю дать, и дали! А кабы не он, быть бы нам вечно крепостными!
– Постой, парень!.. Постой… Ты это не тово! – разводя руками, вмешался в разговор захмелевший приказчик. – Мы тоже на этот счет не безызвестны!.. Нам старики тоже сказывали, как в двенадцатым годе этого самого Бонапартия мы метлой из Расеи погнали; и он, значит, за это за самое, опричь одной злобы, ничего к нам питать не может!
– Так то был дядя, сказывают! – возразил Свитка, – а теперь на троне сидит племянник, и он рассуждает по-христиански: ваши мужички, говорит, моего дядю обидели, а я хочу им за зло добром заплатить, и потому пускай все будут вольные. Вот он как рассуждает!
– Нет, брат, стой! – подошел к столу солдатик. – А зачем же он, коли так, эту Крынску кампанию свою затеял? Сколько народу-то покалечил у нас! Коли он такой сердобольный, так он бы лучше Богу молился. Вот что!
– Ну, уж это не нашего ума дело, а лучше скажи-ка ему спасибо за его приказ!
– Да кто ж это нашему государю может приказывать! – горячо стукнул солдат ладонью по столу. – Ты, брат, эти глупые речи покинь лучше, пока мы те бока не намяли! Песни вот ты хорошо играешь, а уж слова-то говоришь совсем как есть дурацкие!
– Постой, братцы! – перекрикивая всех, вмешался Иван Шишкин. – Чем по-пустому толковать, так лучше настоящее дело! Пускай всяк видит и судит. Вот что, братцы: как были мы под Новодевичьим, так при нас там вот какую грамоту читали и раздавали народу. Одна и на нашу долю досталася… Прислушайте-ко, пожалуйста!
И развязав свою котомку, он достал из нее сложенный вчетверо лист плотной бумаги и показал его присутствующим.
На листе красивым шрифтом, с золотом и киноварью, было отпечатано: "Золотая грамота".
– Это что ж такое? – с любопытством и недоумением пытали в кучке. Все придвинулись поближе к Шишкину.
– Это, братцы манифест! Царская грамота! – пояснил он. – Слушайте!
И стал громко и внятно читать:
"Божиею милостию, Мы, Александр Вторый, Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч. и проч. и проч.
В постоянной заботливости нашей о благе всех верноподданных Наших, Мы, указом в 19-й день февраля 1861 года, признали за благо отменить крепостное право над сельским сословием, Богом вверенной Нам, России. Ныне, призвав Всемогущаго на помощь, настоящим Манифестом объявляем полную свободу всем верноподданным Нашим, к какому бы званию и состоянию они ни принадлежали. Отныне свобода веры и выполнение обрядов ее церкви составят достояние каждого. Всем крестьянам, как бывшим крепостным, так и государственным, даруем в определенном размере землю, без всякой за оную уплаты, как помещикам, так и государству, в полное, неотъемлемое потомственное их владение".
– Это, значит, господа, помещикам больше ни копейки! как есть шиш один! – пояснил Свитка.
– О?! И в сам деле?.. Это, братцы, нам на руку! – с видимым удовольствием откликнулся кое-кто из кучки. – Это и очень нам любезно!.. Ну-ну! Валяй-ко дальше! Что еще там прописано?
"Полагаясь на верность народа нашего, – продолжал Шишкин, весьма подбодренный сочувственным отношением слушателей – Я, признал за благо для облегчения края упразднить армию Нашу! Мы отныне впредь и навсегда освобождаем Наших любезных верноподданных от всякого рода наборов и повинностей рекрутских; затем, солдатам армии Нашей повелеваем возвратиться на места их родины".
– Значит, некрутчине шабаш? – спросил кто-то.
– Шабаш! – подтвердил Свитка. – Отныне и навсегда шабаш и некрутчине, и наборам, и всякому войску! Ни одного солдата больше не должно быть в целой России! Все будут вольные! Всяк, значит, делай, что хочешь!
– Э?!. Это важно!.. А насчет повинностей как?
– А вот, слушай далее!
"Уплата подушных окладов, имевших назначением содержание столь многочисленной армии, со дня издания Манифеста, отменяется. Всем солдатам, возвращающимся из службы, также всем дворовым людям, фабричным и мещанам повелеваем дать без всякого возмездия надел земли из казенных дач обширной Империи Нашей".
– Э, робя! Это, ей-ей, хорошо!..
– Что и говорить! Чего лучше!.. Надо только Бога молить…
– Да только неужто же все это француз?
– Все он! – с непоколебимою уверенностью подтвердил Свитка.
– А как же насчет теперича лесу, ну и опять же всяко хозяйство надо обзавести себе, избу поставить, скотинку там, что ли – без того нельзя же ведь, хоша и солдату, али дворовому. Это-то как же? Сказано про то аль нет?
– Про это хоть и не сказано, а слышали мы так, будто все это брать от помещиков, – объяснил Свитка. – Помещик должен отдавать все беспрекословно, а ежели кто заартачился сейчас его своей расправой, и бери все, что хочешь!
– Это хорошо! – одобрил чей-то голос, но большинство не подхватило, а напротив того, о чем-то сомнительно раздумалось!
– Ну, да этого не сказано; это, должно, малый врет, а ты читай дале! – молвил какой-то мужик.
"В каждой волости, равно в городе, – продолжал Шишкин, – народ избирает четырех, пользующихся его доверием, человек, которые, собравшись в уездном городе, изберут совокупно уездного старшину и прочие уездные власти. Четыре депутата от каждого уезда, собравшись в губернский город, изберут губернского старшину и прочие губернские власти. Депутаты от каждой губернии, призванные в Москву, составят Государственный Совет, который с Нашею помощью будет управлять всею Русскою землею. Такова Монаршая воля Наша".
– Теперь, братцы, значит, сами управляться будем.
– Так, слышите, царь желает! – комментировал Свитка.
Мужики призадумались.
– И бумаги править нам же? – спросил один.
– И бумаги, и все, как есть, всем самим заправлять.
– Самим?.. Ну, это что-то не тово… Как же теперь стану я заправлять, коли я грамоте не знаю.
– А мозги на что?.. Есть мозги – значит, и валяй!
– Да все ж без грамоты не управишься. Тут, вона, мало ли чего нужно!..
– Ну, грамотных выбирайте…
– Так-то, оно так!.. И значит, это мужики всем царствием заправлять будут?
– Значит, будут.
– А господа-то куды же?
– А к черту! Куда хотят, туда и идут! А нет, и на сук можно вздернуть!
– Ишь, какой прыткой!.. На сук!.. За что же это на сук?.. Душа-то ведь тоже хрещеная!.. За эти дела и кнутьем на площади порят да в каторгу шлют. – Нет, это ты, брат, дуришь!.. Да ну, ладно! Читай дале!..
"Всякий объясняющий противное и не исполняющий Монаршей воли Нашей есть враг наш. Уповаем, что преданность народа оградит престол Наш от покушений злонамеренных людей, не оправдавших Наше Монаршее доверие. Повелеваем всем подданным Нашим верить одному Нашему Монаршему слову".
– Так вот, слышишь, любезный, что сам царь повелевает! – строго обратился Свитка к мужику, высказавшему некоторое сомнение. – Ты, значит, ослушник воле царской!.. За это в кандалы!.. За это вяжут да к становому нашего брата, а ты, значит, молчи да верь, коли это пропечатано!
– Да я что ж… я ничево… я так только… Известно, супротив царя не пойдешь, – опешил мужик и смущенно примолкнул.
"Если войска, обманываемые их начальниками, – продолжал меж тем Шишкин, – если генералы, губернаторы, посредники осмелятся силою воспротивляться сему Манифесту – да восстанет всякий для защиты даруемой Мною свободы и, не щадя живота, выступит на брань со всеми, дерзающими противиться сей воле Нашей. Да благословит Всемогущий Господь Бог начинания Наши! С Нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!" – громко и торжественно заключил Шишкин, вторично обращаясь к слушателям и показывая красиво расписанный лист.
На лист глядели с любопытством, но в каждой почти голове царило недоуменье и сомнение. Манифест давал уже так много, что невольно рождался в душе вопрос: да уж точно ли правда все это? – хотя быть может, каждый не прочь бы был воспользоваться его широкими посулами. Перспектива казалась заманчивою.
– Значит, коли начальство не согласно, – сейчас бунтовать? – спросил кто-то.
– Так, голова! Верно!.. Сейчас и бунтуй! – с полною уверенностью одобрили оба бурлака.
– А отчего ж это доселева за бунты-то все наказывали?
– Теперь, милый, другие порядки пошли. Теперь сам царь бунтовать велит.
Наступило новое раздумье и молчание.
– Други почтенные! братцы! – вдруг возвысил голос отставной солдатик. – Это, надо быть, и вправду француз всю эту штуку выдумал! Потом он, первым делом, в этой грамоте что говорит? – Говорит, что войско прочь, что солдатов больше не требуется! – Так ли?
– Так, так!.. Не требуется.
– А кто же Расею-то защищать будет? – продолжал он; – коли войска нет, сичас, значит, неприятель подошел, и сичас заполонил себе как есть всю землю. Это он под нас, значит, ловкую штуку подводит!.. Никак тому быть не возможно, без войска-то! Он, значит, только глаза отводит!..
– Э!.. И в сам деле! – одобрили в кучке. – Оно точно, что так… А то бы с чего ему сердобольствовать!
– Беспременно так, братцы!.. Опять же хоть это взять: сами, говорит, управляйтесь. Теперь будем говорить по-солдатски! Примером взять – батальон. Как же ж этта управится батальон без камандеров? Никакой команды нет, и не знаешь ни куда тебе идти, ни что делать. Солдат этому не обучен, а командер обучен, он всю эту штуку знает. В батальоне, теперича, только шестьсот, аль семьсот, а в Расее-то тьма народу! Как же ж тут-то управиться? Это, значит, француз под Расею всю эту штуку подводит, чтобы способней заполонить-то было! Ей-Богу, так братцы!.. Этому вы ничему не верьте.
– Э, друг любезный! Ты, стало быть, против царя! Ослушник воли царской! – напустился Свитка на солдата. – Братцы! Слышали, что царь насчет ослушников сказал? Чего глядите-то?
– Нет, ты погоди! – выступил вперед солдатик. – Нешто волю царскую так объявляют? Волю царскую по церквам, под колоколами читают, а не в кабаках! Царское слово через начальство, да через священство идет; а ты что за человек? По какому ты праву? а?
– Эй почтенные! Находка! – закричал вдруг приказчик.
Пока Шишкин читал, а Свитка делал пояснения, он подобрался к раскрытой котомке, из которой чуть-чуть высовывался край другой подобной же грамоты. Подобравшись и смекнув, что дело тут, кажись, не совсем-то чисто, он под шумок запустил в нее руку и достал целую пачку "золотых грамот".
– Вон сколько с ними добра! – кричал хмельной кулак. – Дело не чистое!.. Это, ребята, бунтовщики… Смуту варят!.. Бей их!.. Бей в мою голову!.. всех бей!.. Держи их, ребята!.. Вяжи по рукам, да к становому.
Агитаторы побледнели. Шишкин совсем почти растерялся, но Свитка не утратил присутствия духа. Минута была критическая. Люди, за несколько еще минут расположенные верить им, теперь готовы уже были кинуться на обоих и начать свою страшную расправу.
– Где твой кистень?.. Держись за мною!.. Не робей! – быстрым шепотом обратился к Шишкину Свитка и мигом достал из-за пазухи заряженный револьвер.
Солдатик, с криком "вяжи!" первый ретиво кинулся на него.
– Убью! – закричал тот и выстрелил почти в упор.
Пуля, вырвав клок сукна из левого рукава, шлепнулась в стену.
– Кто первый подступится, убью на месте! – грозно кричал Свитка.
И с этим словом, пятясь к дверям вместе с товарищем, он воспользовался минутным ошеломлением присутствующих и выскочил из горницы.
– Держи! держи! – раздались за ними крики. Но Свитка успел уже вскочить в тележку, Шишкин вслед за ним – и сразу захватил вожжи. Ударив ими, что было мочи, по лошадке, он отчаянно загикал, продолжая непрерывно хлестать ее – и озадаченная лошадь, дергая головою, быстро сорвалась с места и пошла вскачь – вон из деревни.
– Держи! держи! – раздавались меж тем громкие крики. Весь народ выскочил из кабака, и несколько человек погнались за беглецами.
Свитка, упершись коленом в сиденье, стоял, обернувшись назад к преследователям, и держал револьвер наготове.
– Удирай живей!.. Хлещи ее!.. Нагоняют! – задыхаясь, кричал он товарищу, и тот немилосердно гнал бойкую лошадку.
Один парень совсем уже почти хватался руками за задок тележки.
– Кистень!.. дай кистень сюда!.. живее – говорил
Свитка и, не отвращая лица от преследователя, протянул назад руку.
Шишкин торопливо вложил в нее требуемое оружие.
Парень уже держался за задок и на бегу старался заскочить в тележку. Свитка хватил его кистенем в лоб, – тот вскрикнул и опрокинулся на дорогу. Остальные, не преследуя беглецов, раздумчиво остановились над ушибленным парнем, который с посинелым лбом лежал без чувств поперек дороги.
Тележка меж тем скрылась в лесу, но Шишкин все еще гнал и бил вожжами лошадь.
Через час беглецы очутились уже верст за семь. Конь был вконец заморен и не мог уже двинуться с места. Они его покинули в кустах, вместе с тележкой, и покрались кустами же вдоль по берегу. Теперь опасность погони несколько миновала. На счастие их, неподалеку от берега стояла на воде рыбачья душегубка, и в ней мальчишка какой-то удил рыбу. Они криком стали звать его. Рыбак подчалил, беглецы прыгнули в лодку и за гривенник, без излишних торгов и разговоров, перебрались на левый берег, в Самарскую губернию.
Здесь, пока, они уже были вне опасности.








