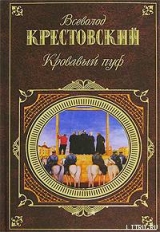
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
XXI. Что немножко беспокоило Хвалынцева
В этот же самый день Константин мог считать себя совсем уже свободным человеком. Поручительство веской особы, принятое вполне благосклонно в канцелярии его светлости, становилось ему теперь более чем достаточной гарантией личной безопасности и спокойствия. Оно могло служить как бы патентом на благонамеренность молодого человека в глазах властей предержащих. Веселый и как нельзя более довольный собою, полетел Хвалынцев на извозчике к Иосифу Игнатьевичу горячо поблагодарить его за такое существенное участие к его особе. В типографской конторе он застал и Лесницкого, и Свитку и даже самого Колтышку. Все они поздравляли его с счастливым исходом, а Василий Свитка выказал даже радость и, по-видимому, непритворного свойства. До прибытия Хвалынцева, в этой самой конторе, между этими тремя лицами происходили некоторые совещания, предметом которых между прочим был и «новый козел», как специально прозвали они Константина, в качестве единого от членов многочисленного «Панургова стада». Свитка доказывал, что хотя Хвалынцев и «уловлен», тем не менее его пока еще невозможно выпустить на полную свободу: «нянька все еще нужна покуда», говорил он; «спусти его с привязи, пожалуй, забрыкаетея». Возможность этого брыканья Свитка предусматривал в неизбежной встрече Хвалынцева со Стрешневой. Надо было не допустить этой встречи по крайней мере хоть до тех пор, когда все уже будет кончено, когда рекомендательное письмо от очень значительного лица из Главного Штаба к полковому командиру и начальнику дивизии будет добыто чрез Чарыковского, когда деньги и подорожная будут лежать в кармане, так что только бы завтра сесть и ехать, тогда пусть себе на прощанье повидается. Все это могло быть сделано менее чем в неделю времени, и на эти-то дни Свитка думал перетащить Хвалынцева к себе на квартиру, под свой ближний контроль. Петербургский центр имел в виду для Константина довольно значительное, по его соображениям, назначение в Варшаве, в сфере тайной революционной деятельности, и назначение именно такое, на котором должен быть отнюдь не поляк, но непременно русский.
После некоторых колебаний, Свитке удалось наконец получить согласие Константина на переезд в его квартиру. Они немедленно же отправились к старой хозяйке Хвалынцева, у которой он нанимал себе комнату, для того чтобы, не теряя лишнего времени, сейчас же рассчитаться с ней и заняться переездом на новое помещение.
Хозяйка очень обрадовалась внезапному появлению старого и всегда очень исправного в расчетах жильца, и с первых же почти слов объявила, что в его отсутствие как-то приезжала сюда какая-то молоденькая барышня и очень беспокоилась и расспрашивала, не известно ли как и куда, и когда он уехал, и когда будет назад, но ни на один из этих вопросов хозяйка не могла дать ей никакого ответа.
– Она оставила записку вам, вот здесь, на письменном столе, – пояснила она в заключение.
"Эге, так барышня даже и на квартиру прискакала… Это неудобно!" подумал себе Свитка, выслушав все эти новости, после чего еще более сознал необходимость поскорее удалить Константина от возможности преждевременной встречи.
Хвалынцев торопливо кинулся к письменному столу, где на виду лежал оторванный полулист бумаги, в нескольких строках исписанный карандашом быстрым и тревожным женским почерком.
Свитка внимательно следил за выражением его лица и видел, как тревожно забегали его глаза по этим косым строчкам.
"Бога ради, где вы и что с вами?" стояло в этой записке. "Эта ужасная неизвестность вконец измучила меня. Я просто голову теряю. Если вы вернетесь в эту квартиру живы и здоровы, то Бога ради, не медля ни одной минуты, сейчас же приезжайте к нам. Все равно в какое время, только приезжайте. Если же нельзя, то хоть уведомьте. Я жду. Ваша Т."
"Мы переменили квартиру. Адрес: Литейная улица, дом № 00".
Свитка подметил, как какое-то сильное движение внутреннего недовольства нервически передернуло лицевые мускулы Хвалынцева.
Он еще раз перечитал записку и молча опустился в кресло, полузакрыв глаза рукою.
Странное дело! В последние дни он даже как-то совсем забыл про Стрешневу. В голове его ни разу не мелькнул вопрос: "Что с ней? Что она думает об его странном отсутствии? Как на нее должна действовать эта томительная неизвестность?" Пред его мыслями, пред его душой и сердцем, в его воображении, в его воле и желании стояла одна только Цезарина и Цезарина, везде и во всем лишь она одна всецело и нераздельно. Все те дни он жил какою-то усиленною напряженною и одурманенною жизнью, среди какого-то фантастического мира затаенно страстных внутренних ощущений, под царящим обаянием необыкновенной и могучей, как казалось ему женщины. А теперь этот болтливый рассказ квартирной хозяйки и эти несколько строк, написанные тревожной рукой и дышащие таким взволнованным чувством тоски и любовью, разом спустили его из мира восторженных грез в действительность настоящей жизни.
Он почувствовал острый укол укоризны, который нанесло ему его собственное сознание, его собственная совесть. Он ясно сознавал всю глубокую неправду свою пред этой любящею девушкою и в том, что его одолело новое чувство к другой женщине, и в том, что после этой записки следовало бы сейчас же бросив все, лететь к ней, а между тем на такой подвиг он решительно не чувствовал в себе силы. Поехать к ней, успокоить, обрадовать ее, быть таким с нею как прежде, а возможно ли это теперь быть таким как прежде? Притворяться, играть комедию? Но это нечестно, да и к чему ж оно поведет в конце концов-то? Осудить себя за чувство к Цезарине, задушить его, выгнать его вон из сердца, – но опять-таки возможно ли это, когда это чувство, Бог весть как и когда, незаметно и невольно, но так могуче овладело им, когда из-за него он всю будущность, всю жизнь свою поставил уже на карту, когда бесповоротно сказано себе: "aut Ceasar, aut nihil", когда наконец и теперь, после этой записки, после всех колючих укоров совести, после сознания своей неправоты, это проклятое чувство наперекор всему – и рассудку, и долгу, и совести, – вот так и взмывает его душу, как птицу в ясную высь, в неизвестную даль и все заглушает, все уничтожает собою. И посреди этого внутреннего хаоса, в его душе ясно стоит один только яркий и чудный образ Цезарины, с ее знаменем в руках, с ее героическим призванием, с ее обетом полной и беззаветной любви, и вот так и манит, так и влечет к себе словно какой-то сверхъестественной, чарующей силой и симпатией.
– Ну, батюшка, некогда мечтами заниматься! Время и за дело! Давайте-ка сбираться поскорее да рассчитывайтесь с хозяйкой! – настойчиво заторопил его Свитка, и юноша по первому его слову озабоченно захлопотал со своими сборами. Он обрадовался первой возможности ухватиться за какое-нибудь дело, а тем более за дело, не терпящее отлагательства, для того, чтобы этим делом, хотя бы механически, перебить наплыв своих тяжелых мыслей и ощущений, и для того, наконец, чтобы в нем найти баюкающий предлог и оправдание самому себе в том, что не летит тотчас же к Стрешневой по ее призыву. Этими сборами, этим нетерпящим делом он просто вильнул перед собственной совестью, просто думал обмануть себя, стакнуться с самим собою, и все это оттого, что в данную минуту решительно не чувствовал в себе сил исполнить молящую просьбу девушки и сам с собой не решил еще, как быть и что делать относительно ее дальше.
Сборы были не долгие, и часа через полтора Хвалынцев уже переехал на квартиру Свитки. Он решил себе, что во всяком случае надо поехать к Стрешневым. Пришла было ему мысль заменить собственное посещение письмом, и он даже сел к столу и принялся за писание, но дело как-то не клеилось.
"Нет, прямо на словах лучше!" порешил он наконец, бросая перо. "Слова нет, оно тяжело, очень тяжело и ей, и мне будет это объяснение, но все же лучше прямо!.. Надо поехать самому"…
Но решив, что надо ехать, Хвалынцев все-таки не ехал. Все что-нибудь да останавливало, задерживало, мешало ему исполнить это намерение. В сущности же ничто не мешало и ничто, при твердой воле, не могло бы остановить, если бы сам Хвалынцев не рад был придраться к малейшему предлогу, чтобы отсрочить час своего посещения. Все ему было некогда. Утром он говорил себе, что поедет после обеда или вечером. Но тут подвертывался Свитка с каким-нибудь делом, с какими-нибудь наставлениями и инструкциями касательно будущих действий в Варшаве, то надо было брать из университета бумаги, писать прошение об определении в военную службу и отвозить все это к Бейгушу, то вдруг Свитка тащил его за чем-нибудь к Лесницкому или на "литературный вечер", в «кружок» Офицерской улицы, то вдруг графиня Цезарина присылала сказать, что нынче она ждет к себе Хвалынцева обедать, и вот таким образом, глядишь, день и промелькнул, а к Стрешневым все-таки не съезжено.
– Ах, Боже мой, опять!.. Да когда же я, наконец, поеду!.. Ведь нужно, ведь это необходимо! Ведь это подло же, наконец, не ехать! – горько и мучительно посылал себе Константин Семенович укоры, ложась в постель, и вслед за тем баюкал себя твердым решением: "Ну, уж завтра баста! Завтра утром непременно поеду!"
Но наступало завтра, и решение из столь твердого «непременно» переходило в шаткое: "надо съездить"; а тут опять подвертывается препятствующий случай, и "надо съездить" отлагалось до вечера. И так шел день за день. Хвалынцев чувствовал, что относительно Татьяны у него не чиста совесть, а чем дольше тянутся эти проволочки, тем не чище и тяжелее становится на совести, но признаться в этом самому себе, беспощадно обнажить перед собою это нехорошее чувство, назвать его настоящим именем у него духу не хватало. Он как бы старался закрыть себе глаза, забыться, закружиться в каком-нибудь вихре, и не мог: укоряющее чувство, нет-нет, да все-таки колюче больно, до стыдливой краски в лице, вставало перед ним во многие минуты этих дней. Так часто бывает с людьми, которые знают, что им нужно, например, съездить туда-то и сделать то-то, но которым исполнить это почему-либо неприятно или неловко, совестно, тяжело, и они день за день откладывают свое решение, и с каждым днем выполнение данного решения становится для них все труднее, все неловче и тяжелее, тогда как сразу, по первому порыву, оно было бы неизмеримо и легче, и проще, и короче. Так точно было и с Хвалынцевым, и он хорошо чувствовал все это, но… все-таки баюкал и обманывал себя разными оправдательными предлогами, не смея или боясь сознать в себе малодушную нерешительность. Человек всегда склонен думать о себе лучше, чем он есть на самом деле, внутри своей сокровенной сущности.
XXII. Последние инструкции
Однажды утром к двум новым сожителям приехал Бейгуш.
– Ну, поздравляю вас! – с торжествующим видом обратился он к Хвалынцеву. – Письмо уже послано в дивизию вместе с бумагами. Да ведь какое письмо-то, батюшка! Какая рекомендация! Да после этого, знаете ли вы, полковой-то командир пред вами просто на задних лапках станет ходить! Ха-ха!.. Теперь вы, можно сказать, почти уж и определены. Стоять будете в самой Варшаве, при полковом штабе. Ну-с, нижний чин! Что же вы? Извольте встать и вытянуться перед офицером! Руки по швам! – весело шутил он. – Ведь я теперь в некотором роде начальство над вами. А и лихой же солдат будет! Ей-Богу лихой!.. Ха-ха-ха!.. Вот как мы скоро вас обделали! Раз, два и готово!
– Действительно скоро! – удивился Хвалынцев, никак не ожидавший такой быстроты.
– Потому что, батюшка, все это в наших руках, всем мы этим орудуем! – самодовольно похвалился Бейгуш; – а вот вам кстати уж и подорожная готова. Озаботился, батюшка, сам взял, чтобы вас от лишних хлопот избавить! – объявил он, подавая Хвалынцеву бумагу, – а остальные документы все уже посланы с письмом же. Ну-с, довольны вы такой, поистине, воинскою быстротою?
– Я даже и опомниться не успел, – улыбнулся Хвалынцев.
– То-то же вот и есть! А вы только служите своему делу как следует, понимаете-с? – как следует: умно, ловко, деятельно, так только ротик разинете, как увидите с какой быстротой пойдет служебная карьера-с!.. Ха-ха-ха!.. И повышения, и отличия, и все это будет!
– Да я к этому равнодушен, – махнул рукою Константин Семенович.
– Вы равнодушны, да мы-то не равнодушны! – возразил Бейгуш. – Для нас необыкновенно важно, чтобы в ту минуту, когда наступит для нас полное торжество, наши люди возвышались над массами не одним только личным влиянием, но и внешними отличиями. Декорум, батюшка, великая вещь! Декоруму-то ведь массы скорее и охотнее подчиняются. Вы, например, юнкер, а я поручик; и вы, и я, положим, оба имеем нравственное влияние на солдата, но будь-ка вы полковой командир, а я дивизионный – влияние-то наше ведь на сто градусов поднялось бы!.. Будь-ка в головах полковых колонн все наши люди – ге-ге!.. Посмотрели бы вы, что из этого вышло бы!.. Но оно и будет! Оно и будет так! – одушевленно заключил поручик, со всей полнотой и твердостью искреннего убеждения.
– Когда же я могу ехать? – осведомился Хвалынцев.
– Да хоть завтра. Чем скорее, тем лучше. Деньги на дорогу есть?
– Есть пятьсот рублей свободных.
– Ну, на первое время в Варшаве этого будет очень и очень достаточно, а если бы там, сверх ожидания, вдруг понадобились деньги, то я вам перед отъездом дам один адрес и маленький бланк; с этим бланком вы явитесь по адресу, и вам в известной степени будет открыт кредит. Ну-с, а теперь главная суть дела: центр назначает вас членом варшавского отделения русского общества "Земли и Воли". Главная ваша цель – пропаганда в войске, а частности и подробности и вообще указания о своей деятельности вы узнаете уже на месте от председателя. Номинация ваша на эту должность послана уже в Варшаву. Ваше число (Бейгуш вынул свой бумажник и прочел в записной книжке), ваше число, на всякий случай, будет 7,342. Запишите его у себя и запомните. И вот вам еще один адрес, – сказал он, подавая Константину клочок бумажки. – Вы отыщите по нем поручика Паляницу, и когда вы придете к нему, то подайте ему еще вот этот клочок, и это, смотрите, не забудьте же сделать при первой рекомендации, прежде всего. Это очень важно. Да смотрите, не потеряйте его как-нибудь!
Хвалынцев принял из рук Бейгуша еще один новый клочок бумажки, зигзагами оторванный с одной стороны, на котором было написано: заслужив…
Писание это доходило как раз до оторванного края, а продолжение слова или фразы, очевидно, должно было находиться на другой половине этой бумажки.
Константин с недоумением поглядел на Бейгуша.
– Что же это должно означать? – спросил он.
– А, это необыкновенно важный клочок. Это для нас все равно что ваш паспорт или ваш нравственный аттестат, – пояснил поручик. – Вы видите, что эта бумажка оторвана зигзагом; ну, так вот другая ее половинка отослана в Варшаву, вместе с вашей номинацией, а там уж она будет передана Палянице, и когда вы к нему явитесь и предъявите вашу половинку, то он сверит ее со своей, и это будет для него подтверждение, что вы действительно то самое лицо, на имя которого у них имеется номинация. На той половинке обозначена и степень доверия, на которую вы имеете право. Так вы сами видите теперь, что клочок этот весьма важен, – заключил Бейгуш. – В таком великом деле, батюшка, надо иметь в виду все случайности и обезопаситься всевозможными предосторожностями. Это необходимо!
Бейгуш торопил его отъездом, да Хвалынцев и сам желал поскорей расстаться с Петербургом, уйти в новую среду, в новую заманчивую деятельность, где ему в непродолжительном времени предстояла встреча с графиней Цезариной, уже на варшавской почве. Он решил выехать завтрашний же день, а на сегодня сделать кое-какие последние приготовления к отъезду и в последний раз заехать к Цезарине – проститься до нового свиданья.
Не теряя времени, он тотчас же выехал из дому.
XXIII. «Довольно!»
«А ведь надобно заехать к Стрешневым; ведь это невозможно же уехать так, не повидавшись, не простившись. Совсем даже неблаговидно выходит», думал Хвалынцев, проезжая по Невскому. И вдруг, обращая к самому себе все эти укоризненные наставления, заметил он случайно, что навстречу едет кто-то, как будто похожий на Татьяну Николаевну, и в этот самый миг болезненно почувствовал, что его словно жаром всего обдало. Спешно юркнул он лицом в бобровый воротник шинели и спрятался в нем. Это было какое-то скорее безотчетно-инстинктивное, чем сознательное движение. Но поравнявшись со встречной женщиной, Константин Семенович робко кинул на нее искоса пытливый взгляд и увидел, что он ошибся. Это была не Татьяна Николаевна. Ему стало совестно и стыдно за самого себя.
"Фу, Боже мой, какая я дрянь, однако!" презрительно и с досадой подумал он, "а еще в заговорщики собрался! И чего это я струсил?.. и вдруг, словно мышонок в нору юркнул… Экая подлость сидит в человеке-то! И зачем я прячусь, зачем я давно не еду к ней? Что это за странная боязнь! Сделал я против нее какое-нибудь низкое, черное дело? – Нет. Разлюбил ее, полюбил другую? – Да! В этом и все дело. Но любя, давал ли я ей какие-нибудь клятвы, обещания? – Никаких… Об этом чувстве ни слова, даже намека ясного не было сделано между нами… Отношения не заходили далее простого поцелуя руки, да и то не всегда позволял себе; так чего же я мнусь и прячусь? Это была скорее хорошая, теплая дружба, чем… это чувство. И разве я виноват, что полюбил другую? Разве я искал этого?.. Случай, судьба – и только".
Такими-то софизмами оправдывал себя Константин Семенович, и в них почерпал для себя необходимую бодрость и твердость для предстоящего посещения. Он порешил ехать сейчас же, и приказал извозчику повернуть на Литейную. А какое-то внутреннее, ноющее чувство все-таки копошилось в нем, несмотря ни на какие успокоительные софизмы, и порою исподтишка смутно шептало ему, что он все-таки что-то нехорошее делает относительно любящей его девушки.
"Ну, как бы то там ни было, а уж теперь поздно!" злобно решил он, вставая с извозчика перед домом, где жили Стрешневы. "Пусть оно и нехорошо… Пусть даже подло, но… Цезарина… Это женщина, которая и из подлеца сделает честного человека, и из честного – подлеца!.. А она для меня все!.. Помоги же мне, Цезарина!"
И с этою мыслью он остановился перед дверью квартиры Стрешневых.
* * *
В тот день, когда Хвалынцев явился к Татьяне Николаевне с анонимным письмом и по ее убеждению отправился на последнюю студентскую сходку, окончившуюся кровавым столкновением, молодая девушка нетерпеливо ждала его возвращения. Но прошел целый день, прошел вечер, – он не вернулся. Ею овладело сильное беспокойство. Поутру она нарочно поехала к одним своим знакомым, узнать какого рода происшествия были вчера перед университетом. Там рассказали ей, как было дело, даже со множеством не существовавших подробностей, которые тогда в изобилии плодились в городских толках. Татьяна вернулась домой взволнованная и расстроенная. Ей уже чудилось, что Хвалынцев убит, не то изранен, не то сидит теперь в Петропавловских казематах, и Бог весть как и на сколько продлится его заключение и что-то еще будет потом? чем-то все это кончится?..
Все это представлялось ей с ясностью неизбежного, несомненного и почти уже совершившегося факта, и во всем случившемся с Хвалынцевым она укоряла и обвиняла одну только себя! "Не приди мне эта нелепая мысль посоветовать ему ехать туда, ничего бы этого не было! Он остался бы и цел и на свободе", думала она, "а теперь… все я, одна я всему причиной! И не все ль равно для меня, что какие-то дураки будут о нем того или другого мнения? Ведь я-то сама знаю, я-то ведь убеждена, что он честный – чего же мне более!.. Он из-за меня теперь терпит, мучится… за что?.."
Она не знала, что ей делать, к кому обратиться, чтоб узнать о судьбе Константина, а время шло, с каждым часом тщетного ожидания росла ее тоска и мучительное беспокойство. Она поехала в правление университета, в надежде – не знают ли там о нем чего-нибудь. В это время к ее тетке приехал в гостиницу Василий Свитка и привез свое темное, но все-таки успокоительное известие. Татьяна стала ждать, что называется, у моря погоды. В университете она узнала от швейцара, на всякий случай, прежний адрес Хвалынцева, и когда прошло более недели, а Свитка все не появлялся вторично и о Хвалынцеве ни слуху – Татьяна снова затосковала. Опять ей стали мерещиться разные страхи и ужасы, которым он, по ее заключению, должен был подвергаться в это время, и, наконец, в этой тоске не совладала она со своим неугомонным сердцем: взяла и поехала к нему на квартиру. Это посещение точно так же не принесло ей ничего утешительного. В смутной надежде, что авось он вдруг и вернется как-нибудь, полуверя и полуневеря этому, она, на всякий случай, написала ему тут же несколько строк на первом попавшемся клочке бумаги.
Но и с тех пор прошло уже больше полуторы недели, а о Константине ни слуху, ни духу. Татьяна вконец истосковалась. От вечно тревожной, одной и той же думы и бессонных ночей, она осунулась и побледнела. Она совсем перестала показываться на свет Божий, никуда не выезжала, сидела большею частию в своей комнате или бродила без цели по всей квартире. Все ей опостылело, все раздражало – и работа, и чтение – просто рук ни к чему приложить не могла. Тетка серьезно стала опасаться за ее здоровье. В то время они уже переехали на постоянную квартиру, которая, по случаю временного отъезда хозяев, сдавалась на шесть месяцев со всею мебелью и принадлежностью. Для старушки это была истинная находка, и с тех пор она всегда с большой похвалой отзывалась о "Полицейских Ведомостях", в которых помещаются такие полезные объявления.
* * *
Татьяна Николаевна была одна. Тетка отправилась к поздней обедне, ко «Всем Скорбящим», и еще не возвращалась. Часовая стрелка показывала еще только двенадцатый час в начале.
Вдруг звякнул колокольчик, и Татьяна услыхала в передней знакомый голос, который спрашивал ее.
Вся кровь прихлынула ей к сердцу, и застучало оно порывисто и шибко. Как стояла, так и осталась она на месте, словно бы онемела вся. После стольких дней тщетного ожидания, ей смутно представлялось, что это действительность. Но она боялась поверить в то, что это все наяву, что это точно его голос.
В комнату вошел Хвалынцев.
– Голубчик!.. Милый ты мой!.. Здравствуй! – стремительно кинулась она к нему, вся вне себя от счастья, радости и восторга.
Это нечаянное ты, еще впервые только сорвавшееся для него с ее уст, словно обожгло его. Столь сильный и неожиданный порыв смутил молодого человека. Он почему-то ждал более обыденной и более сдержанной встречи. Не допуская себя принять ее объятия, радостные до полного самозабвения, он, отступя на шаг, тихо встретил ее простертые к нему руки и с чувством, но очень сдержанно пожал их.
– Здравствуйте, Татьяна Николаевна, – сказал он, стараясь казаться спокойным.
Та, не отнимая от него рук, отшатнулась легким движением назад и с недоумением заглянула ему в глаза.
– Разве так друзья встречаются после такой разлуки?
– Мне нужно поговорить с вами, Татьяна Николаевна… Я не надолго… Я приехал проститься… Завтра уезжаю…
Внутренняя тревога и смущение, несмотря на напускной спокойный тон, сквозили в невольно отрывистых и мало связных фразах Хвалынцева.
Татьяна еще с большим недоумением поглядела на него.
– Что?.. Проститься?.. Уезжаете?.. Как это… куда уезжаете? Зачем? – пролепетала она.
– Да не близко еду… Может, и не увидимся больше.
– Господи, да что это все такое!.. Где вы до сих пор-то были, – говорите мне!
– Я уезжаю из Петербурга… и… сегодня только приехал, – солгал Хвалынцев.
– Где же вы были? – продолжала она расспрашивать с возрастающим недоумением. Сердце ее тревожно подсказало ей, что во всем этом кроется что-то недоброе.
– Где я был, – пожал он плечами, – этого я вам сказать не могу.
– Константин Семеныч! да что вы, шутки шутите, что ли?
– Нет, я говорю совершенно серьезно.
– Так что же это за таинственность?!.. Почему это мне вы вдруг сказать не можете?
– Не имею права… Это не от одного меня зависит…
– Да вы мне скажите толком: сидели вы где-нибудь? Арестованы были? Высылают вас теперь из города, что ли?
– Нет, я сам уезжаю, своей доброй охотой.
– Куда?
– В Варшаву.
Она молча оглядела его испытующим взглядом.
– Надолго вы едете?
– Не знаю… Может, и навсегда.
– Что ж это за странное решение?
– Служить еду.
– Служить! – удивилась она. – Да прежде же курс ведь кончить надо! Куда же вы без диплома служить пойдете? И что за идея!
– Для моей службы можно и без дипломов; я ведь в военную.
Изумление Стрешневой дошло до крайней точки, она даже руки опустила.
– Константин Семеныч!.. Да что же вы, наконец, мистифицируете меня, или что?.. Если все это шутки, так кончите, пожалуйста! Хорошенького понемножку.
– Никаких тут шуток нету! Я вам говорю самым серьезным образом! – вступился он за себя в несколько амбициозном тоне; – да и что же тут невероятного, что человек пошел служить?
– В военную?! – подхватила Стрешнева.
– Да, в военную, как будто это не все равно: военная или гражданская.
– Но это, вероятно, покамест так только… одни мечты, предположения, намерения? – улыбнулась Татьяна, которой решительно не хотелось верить в дикую идею Хвалынцева.
– Далеко не мечты и не намерения, – возразил он. – Я уже поступил… Я и теперь, можно сказать, считаюсь на службе… Я уже зачислен в N-ский полк.
Хвалынцев все это солгал, ради пущего удостоверения в справедливости слов своих, но солгавши раз, и в этой лжи как бы даже порисовавшись пред нею в новом положении, он как будто сам поверил в истину сказанного; ему вдруг и самому стало казаться, что все это точно так и есть, что он точно зачислен и уже служит.
Стрешнева молча поглядела на него взглядчивым, внимательным взглядом.
– Что же за цель, наконец? – тихо спросила она, после некоторого молчания.
– Цель… чуть-чуть замялся Хвалынцев. – Боже мой, да надо же человеку что-нибудь делать с собою!.. Не небо же коптить, вот и цель вам!
Татьяна чутко чувствовала в глубине души, что это все что-то не то. Раза два молча прошлась она по комнате и вдруг с веселым и решительным видом остановилась пред Хвалынце-вым.
– Полноте-ка, Константин Семеныч! Оставьте все это! – с убеждением заговорила она, взяв его руки и ласково глядя в глаза. – Бросьте все эти пустяки!.. Ей-Богу!.. Ну, что вам?!. Давайте-ка лучше вот что: если вам здесь очень уж надоело, укатимте в Славнобубенск, поезжайте в имение, призаймитесь хозяйством, ей-Богу же, так-то лучше будет!.. А то что вдруг – служба, да еще военная, да еще в Варшаву… Нет, право, бросьте, голубчик!
– Все это так легко только говорить, – возразил он, видимо стараясь придать словам своим и серьезность и значительность, – но что сделано, то сделано, и назад его не вернешь! Это уж теперь зависит не от моей воли, Татьяна Николаевна!
– Как не от вашей?.. Как не от вашей?!. Вздор! Чисто от вас одного только и зависит, больше ни от кого! – входя в некоторый азарт, возражала и доказывала Стрешнева. – Во-первых, если вас зачислили, то могут и отчислить, ведь это не кабала же какая, не запродажей, не контрактом, а своею доброю охотою!.. Ну, вчера вам хотелось, а сегодня расхотелось… Ну, там по домашним обстоятельствам, по болезни, по встретившимся препятствиям… да Господи! мало ли можно найти предлогов для отставки!.. Стоит захотеть только! Ну, захотите, Константин Семеныч!.. Ну же, ну?.. Скорей!.. Да захотите же, Боже мой! Ну, что вам стоит отказаться от такой пустой идеи?!.
На эту живую, ласковую шутку, он только хмуро, с опущенными вниз глазами, отрицательно покачал головою.
Стрешнева снова пристально и долго поглядела на него пытливым, осторожным взглядом и тихо опустилась на кресло подле него.
Оба молчали, и обоим начинало становиться как-то неловко, и оба чувствовали в то же время один в другом ту же самую неловкость. А неловкость эта нашла оттого, что Стрешнева все больше и больше угадывала в Хвалынцеве присутствие какой-то неискренности и затаенности, и он тоже понял, что она угадала в нем именно это. Молчание начинало становиться тягостным.
– Константин Семеныч, это все не то… я чувствую, что не то, – очень серьезно начала наконец Татьяна, поборая в себе нечто такое, что сильно удерживало ее от предстоящей последней попытки. – У вас что-то есть на душе, вы что-то, кажись, таите, скрываете… Ну, скажите мне, зачем?.. Если это тяжело вам, не лучше ли облегчить себе душу?.. Предо мной вы можете говорить прямо, вы знаете меня… Ведь мы же друзья не на ветер!
И она кротко взяла и не выпуская стала держать руку Хвалынцева, и вся фигура ее, и взгляд, и лицо, и самый поворот головы, все это выражало собою теплое и любовное участие. Раскрытая душа ее ждала, что вот-вот сейчас другая сочувственная душа перельет в нее все свое горе, всю свою тайну, и она затишит, умиротворит, убаюкает и исцелит эту другую, дорогую ей душу.
Константин сидел угрюмо, понурясь и не глядя на нее. Он чувствовал, что в эту минуту пред Татьяной не скроешься, что она чутьем угадает правду, которой он и не хотел утаивать от нее, но только высказать эту правду было так тяжело, так мучительно тяжело ему!..
– Вы хотите правды… Ну, скажу я вам эту правду! – выговорил он, наконец, стараясь напускной усмешкой замаскировать свою невольную и темную угрюмость. – Отчего же и нет… Сказать, ведь это всего одна только минута… не более… Да; конечно, я скажу вам, но… если бы знали как тяжело это… как тяжело это высказывать-то!..
И при этих словах, девушка заметила, как лицо его передернулось движением внутреннего глухого страдания.
– Говорите, говорите, – тихим и ласковым шепотом ободрила она.
– Татьяна Николаевна!.. Я всю жизнь свою поставил на карту… бесповоротно, бесшабашно, и предо мною нет более никакого выхода из этого положения!..
– Но… из-за чего же все это? – участливо спросила она.
– Из-за женщины… – глухо, смутно и чуть слышно ответил Хвалынцев, весь бледный, и низко потупясь опущенными глазами.
Этим словом сказалось все. Татьяна не стала расспрашивать далее. К чему ей были слова, объяснения, подробности, когда одним лишь этим словом все беспощадно обнажилось пред нею: он любит другую женщину, он для нее всю жизнь поставил на карту, о чем же тут больше спрашивать? Что еще бередит ему сердце? И что еще, наконец, нужно знать больше этого?.. Все сказано, все сделано, – довольно!
И она с твердостью, словно ножом отрезала, сказала сама себе это внутреннее "довольно!"
Хвалынцев медленно поднял на нее глаза, и ему показалось странным лицо этой девушки: он никак не ждал встретить у нее такое лицо в эту минуту. Нельзя сказать, чтобы даже тень какой-либо болезненной мысли скользнула по нем, чтобы хоть на мгновение дрогнуло в нем страдание, злоба, укор, оскорбление, презрение; нет, ни единое из этих ощущений не выдавало себя в лице Татьяны. Оно было совершенно спокойно, и только ровная глубокая бледность сплошь разлилась и застыла на нем. И глаза тоже глядели спокойно, но эти глаза как-то вдруг потухли, словно бы умерли, словно бы искра жизни отлетела от них.








