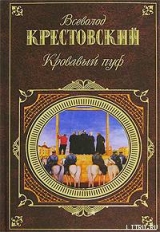
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 49 страниц)
V. Докладчик Центра
В этот же самый день, часу в восьмом вечера, Василий Свитка слез с извозчичьих дрожек на углу Канонерской улицы в Коломне и спешно поднялся по лестнице большого каменного дома. На одной из дверей, выходивших на эту лестницу, была прибита доска с надписью: «Типография И. Колтышко». Он постучался и спросил управляющего типографией. Рабочий, отворивший дверь, проводил его в типографскую контору. Там сидел и сводил какие-то счеты человек лет тридцати, довольно тщедушной, рыжеватой наружности.
– А! вот вы! Наконец-то! – нетерпеливо обратился он к вошедшему из-за своей высокой конторки. – Что такое было сегодня? Что за происшествие? Садитесь и рассказывайте скорее. Наши рабочие болтают, – бунт?
– Ну, бугт не бунт, а могло быть около того.
И Свитка рассказал историю нынешнего утра. Управляющий выслушал внимательно и пунктуально как бы формальное служебное донесение и спросил.
– А наши? Как держали себя наши?
– С величайшим тактом. Да ведь наши не дураки, лицом в грязь не ударят! – похвалил Свитка с самодовольной миной.
– Однако, что же они?
– Да что ж… После субботней сходки, мы вечером собрали свой сеймик. Утром там была прокламация… в наших заискивали. Мы положили – на время отбросить старую систему и сблизиться. Оно лучше; дело будет казаться более общим.
– Ну, а между вожаками были наши? – любопытно спросил управляющий.
– Ни одного! Дело вели русские.
– Ни одного?! Прекрасно! Если так, то действительно с тактом.
– Мы порешили еще на сеймике инициативу предоставить русским, а самим отнюдь не выдвигаться. Быть в толпе – дело другое. Мы честно были в толпе и честно вели себя, но в вожаки – а ни Боже мой!
– А относительно слияния, какое впечатление на русских? – спросил управляющий.
– О, еще бы! – подхватил Свитка. – Очень польщены! Многие ведь сомневались. Наши вообще не балуют их общением, поэтому теперь те очень и очень довольны. О «братстве» кричат.
– Кричат? Гм… Ну, и пусть их кричат!
– На здоровье! Наших ведь оттого не убудет! Итак, пане Лесницкий, будут мне какие инструкции? – впадая в несколько официальный тон и с полупоклоном подымаясь с места, спросил Свитка.
– А как же, как же!.. Подождите, – торопиться еще некуда, – удержал его управляющий и, встав из-за конторки, заходил – руки в карманы – по комнате в сосредоточенном обдумывании чего-то.
На некоторое время наступило молчание, наполняемое мерным шумом типографской скоропечатной машины за стеною.
– Вот в чем дело, – медленно начал Лесницкий, как бы обдумывая каждое свое слово. – На днях в Центре было совещание… Решено, по возможности, осторожно и с обдуманным, тщательным выбором притягивать к делу и русских, то есть собственно к нашему делу, – пояснил он. – Обстоятельства еще покажут впереди, как выгоднее: направить ли их на свою особую деятельность, как уже направлена «Земля и Воля», а мы будем в этом случае только незаметно для них руководить и контролировать; или же из наиболее пригодных сделать прямых наших бойцов? Об этом теперь еще вопрос в Центре.
– Да разве мы сами не справимся? – с горделиво-уверенным достоинством спросил Свитка. – Разве петербургский Центр все еще не полагается на одне польские, народные силы?
– Э, нет, не в том дело! – перебил управляющий. – Во-первых, говоря откровенно между нами, русские имеют очень основательную пословицу насчет того, что выгодней чужими руками жар загребать. Мы на этот раз вполне верим их доброй пословице. Это одно. А другое вот в чем: русские бойцы в нашем деле очень хорошая декорация пред Европой, пред глазами западного общественного мнения.
– То есть, как же так? – сомневаясь и морщась, спросил Свитка.
– А, очень просто! Если уж москали, наши заклятые враги, наши палачи, сами идут очистительными жертвами в польский народный лагерь и бьются за польскую независимость, – разве этот факт не освещает еще более пред глазами всего мира наше святое дело? Нам нужен известного рода декорум. Если уже сами русские за нас, то Европа и подавно! Была бы общественная совесть на нашей стороне: нам облегчится победа! Присутствием русских бойцов правительство будет озадачено, сконфужено, оно не будет знать, кого, наконец, считать своими, где враги, где друзья его, оно вконец уже растеряется и рухнет… по крайней мере рухнет для Польши. Вот для чего нужны нам русские. Можете вы указать на кого-нибудь из подходящих между студентами? – заключил он вопросом, останавливаясь пред Свиткой.
Тот основательно подумал и назвал несколько имен.
– Но более всех, как мне кажется, – значительно промолвил он, – будет подходить один…
– Кто такой? – с живостью спросил Лесницкий.
– Студент Хвалынцев.
– А!.. Я немножко слыхал уж про него. Что ж, как вы его находите?
– Я наблюдал его и даже, так сказать, выщупывал слегка… вот в эти последние дни.
– Да? ну, и что ж?
– Да вот как скажу: человек смелый, решительный, в крутые минуты хорошо владеет собой… Говорит немного, но бойко и резко и при этом отлично умеет опираться на легальность… Я уже в нем эту черточку подметил. Все старается в колею легальности!
– А, это очень важно! – в скобках заметил Лесницкий.
– То-то же и есть! – не без самодовольствия отозвался Свитка. – На товарищей имеет влияние. Когда все думали, что будут стрелять, он стоял рядом со мною, ну, и он был один из немногих, которые нисколько не смутились… напротив, без излишнего азарта, совсем спокойно пристыдил товарищей, и те оправились… Да, да, имеет влияние!.. И в то же время на сознательное увлечение способен.
Свитка, в подтверждение своей характеристики, рассказал поведение Хвалынцева в коптилке и на университетском дворе.
– Ого! да этот совсем годится! Таких бы побольше! – подал свое мнение управляющий, не без удовольствия потирая руки. – Хорошо! Очень хорошо! Я сообщу о нем.
– Так что же, пане Лесницкий, вербовать? Даете благословение?
– Вербовать! Вербовать непременно! Найдите возможность показать нам его. Да и остальных, которых думаете, тоже вербуйте.
– Хорошо, а Хвалынцева покажу вам поближе при первом удобном случае.
– Очень желаю. А пока до свидания, теперь можете отправляться, – наскоро откланялся управляющий.
Свитка удалился, а Лесницкий, почти немедленно по его уходе, отправился во внутренние покои смежной квартиры, с экстренным докладом о только что полученных новостях.
VI. Сходка 27-го сентября
На другое утро многие студенты явились в университетскую библиотеку за книгами. Дверь была заперта, и на ней, равно как и на всех наружных выходах, прибито было объявление, что по случаю повторившихся беспорядков чтение лекций прекращено и вход в университет закрыт впредь до дальнейших распоряжений.
Тут же было узнано, что вся депутация, высланная вчера, и много других студентов арестованы в ночь и отправлены в казематы Петропавловской крепости. Некоторые очевидцы ночного арестования товарищей сообщили, что оно было производимо вне законных оснований: арестуемым не предъявляли предписания начальства, не объявляли причины ареста, а некоторых посторонних лиц будто бы брали по подозрению, что они разделяют студентский образ мыслей.[68]68
В «Официальной записке по делу о беспорядках в С.-Петербургском университете» читаем: «В деле комиссии находится акт о зарестовании студента Колениченко. Пристав Выборгской части, Ф., арестовавший его, выразился в официальном акте следующим образом: „Хотя в списке студентов, подлежащих аресту, Колениченко и не значится, но он, пристав, счел не лишним и его арестовать!“ Колениченко жил в отдельной квартире, один, и у него никто не проживал из лиц, подлежавших аресту. Таким же образом один из надзирателей 3-й части арестовал одного гимназиста за то, что он, по мнению его, надзирателя, разделяет образ мыслей студентов».
[Закрыть]
Всех студентов, арестованных в эту ночь, было сорок два человека.
После некоторых совещаний, положено было собрать на завтрашний день новую сходку, в десять часов утра, на университетском дворе.
Студенты начали собираться в университете ранее назначенного срока, еще до девяти часов. Предполагалось вступить в новое объяснение с попечителем. Он вскоре приехал и был окружен в швейцарской толпою, которая стала упрекать его в несдержании слова. Попечитель объяснил, что все это не его распоряжения, что он любит университет и студентов, а доказательство тому было не далее, как третьего дня, в Колокольной улице, где, если бы не он, весьма легко могло бы произойти кровавое столкновение и что, наконец, депутаты арестованы административною властью в смысле зачинщиков всех происшедших беспорядков. Ему сказали, что начальство поступило бы еще лучше, если бы вовсе не призывало войска против безоружных людей, тогда, как теперь, вероятно, отсутствующему Государю дали знать в Ливадию, что студенты бунтуют, выставили их бунтовщиками и потому-де вынуждены были употребить военную силу. На это студенты получили ответ, что напротив в донесении о третьегодняшнем происшествии о них был дан отзыв с возможно лучшей стороны, и что этот отзыв принят министром за основание в донесении Государю. В это время приехал генерал-губернатор и вместе с попечителем удалился в университетскую канцелярию.
Между тем, студентов собралось довольно уже много, и сходка на дворе была открыта. На место арестованных явились новые руководители, и вот, после долгих прений, был принят большинством голосов адрес министру. Смысл адреса заключался в том, что в университете никаких зачинщиков нет и не было, что все студенты одного и того же мнения и действовали единодушно без чьих бы то ни было подстрекательств, и потому пусть начальство или освободит арестованных товарищей, или же заберет остальных. Прикатили откуда-то кадку, опрокинули ее вверх дном, положили на нее листы бумаги и приступили к подписке адреса.
Вдруг раздался барабанный бой. Это подходил Финляндский полк в полном составе. Часть его поместили у одних ворот университетского здания и часть у других. На набережной, перед воротами, разъезжали верхами, в касках с султанами, видимо озабоченные представители столичной власти и несколько других генералов, адъютантов и штаб-офицеров. Попечитель стоял в воротах, между студентами и войском. Он был в простом сюртуке и фуражке. Тротуар по набережной был занят массами самой разнородной публики и густою цепью городской полиции и жандармов.
Однако, невзирая на это грозное предупреждение, студенты решились не расходиться до окончания сходки и, в случае нападения войска или жандармов, стоять смирно и отнюдь не пускать в дело палок. Подняли вопрос, избрать ли депутатов для подачи адреса, или идти с ним опять всею массою, как третьего дня? Большая часть видела в последнем способе ручательство в том, что всех не арестуют, а коли брать, то пусть берут всех. Противная же партия говорила, что хотя очень вероятно, что депутатов и арестуют, но лучше арест нескольких человек, чем стычка с войсками. Многие не ручались за то, что они хладнокровно, без сопротивления, выдержат натиск солдат, а тогда все дело будет испорчено. И наконец, шествие массой останется еще в запасе как последнее, крайнее средство. Большинство голосов решило избрать депутатов.
В это самое время была отдана команда, и батальон стал входить на университетский двор.
В публике, стоявшей на набережной, раздались свистки, шиканье и громкие крики протеста и негодования.
Приказано тотчас же ударить отбой, и войска возвратились на прежнее место.
Студенты продолжали стоять и выбирать депутатов. Решили отправить их с адресом сейчас же и ожидать возвращения.
Едва успели те отправиться и дойти до ворот, как раздались крики: "Депутатов забрали! депутаты арестованы!" – и вся толпа ринулась к воротам выручать их.
Столичные власти старались успокоить взволнованную массу и убеждали, что депутаты никак не будут арестованы, а что они, власти, просто хотят только переговорить немного с ними и поэтому просят господ студентов нимало не беспокоиться, а возвратиться во двор и без опасений продолжать свою сходку.
Властям отвечают, что им не верят, потому что они арестовали же третьего дня ночью депутатов прошлой сходки, тогда как, по их же слову: "все равно высылайте", они были избраны.
Власти на это возражают, что хотя и точно депутаты арестованы, только никак не по их распоряжению, что они, власти, тут ровно ни при чем и не знают даже, как и кем произведены аресты депутатов, и что, наконец, если они и арестованы, то отнюдь не как депутаты, а как зачинщики и что поэтому пусть господа студенты пожалуйста нимало не тревожатся и сделают такое одолжение удалятся во двор и продолжают свои прения.
Студенты отвечают, что удаляться во двор они не желают, а чтобы сделать приятное властям, пожалуй, согласны отступить на несколько сажен.
Власти очень любезно соглашаются на эти несколько сажен и затем вступают в объяснения с депутатами, говоря, что они никак, ни под каким видом не могут пропустить их к министру. Депутаты отвечают, что в таком случае студенты пойдут всею массою. Шествия массы власти опять же никак не желают. Выборные говорят, что студенты точно так же его не желают, и поэтому надо пропустить их выборных. Власти отвечают, что пропустить их не могут. Бесплодный спор на эту тему длится около четверти часа; обе стороны говорят и много любезного, и много довольно резкого друг другу, но к соглашению прийти не могут. Наконец, власти соглашаются пропустить депутатов, но с тем условием, чтобы студенты не дожидались их ответа, а разошлись бы немедленно. Студенты на это не соглашаются и настаивают на пропуске безусловном. На безусловный пропуск опять-таки власти не соглашаются. Обе стороны спорят и выходят из себя. Наконец, власти объявляют, что они имеют приказ считать сборище студентов за обыкновенную толпу, так как университет закрыт и, следовательно, студентов не существует. Депутаты соглашаются, что и в самом деле закрыт и что поэтому власти, пожалуй, и могут думать, что студентов не существует, что они, депутаты, даже готовы на время согласиться в этом с властями, но в таком случае зачем же вы призвали убеждать нас попечителя? Ведь он, стало быть, нам больше не начальник! Власти обходят молчанием столь коварный вопрос и объявляют депутатам, что если студенты тотчас же не разойдутся, то чрез полчаса будет надвинуто войско. Депутаты объявляют об этом сходке, которая решает, что пожалуй, можно и разойтись, и говорит депутатам, что они могут отправиться с адресом в другое время, а буде кто желает узнавать новости касательно университета, то для этого, начиная с завтрашнего дня, ежедневно собираться в два часа пополудни на Невском проспекте, где и можно будет сговориться насчет плана действий. Но, расходясь, студенты требуют, чтобы войско, неизвестно для чего, отступило на сто шагов. Власти отдают приказ, чтобы никак не более, а ровно на сто. И войско ровно на сто шагов отступает. Студенты спокойно проходят мимо его рядов и расходятся. В это время приезжает в университет министр народного просвещения. Узнав о его приезде, многие с пути поспешают опять к университету и ждут его выхода перед подъездом, где опять собирается толпа, только на сей раз уже без полиции, властей и войска. Министр, наконец, выходит. Его встречают шиканьем и свистом. Он садится в экипаж и уезжает, сопровождаемый этими звуками. Толпа снова расходится.
VII. «Синий день» на Невском
На следующий день, в два часа пополудни, Невский проспект представлял очень оживленное зрелище. Это было не то обычное оживление, каким он кипит ежедневно между часом и четырьмя. Такое оживление было на нем, конечно, как всегда, и в этот день, но оно носило на себе совершенно особый отпечаток, благодаря вчерашнему решению сходки.
К двум часам, там и сям стали появляться небольшие группы студентов. Они ходили обыкновенным прогулочным образом, встречались с другими подобными же группами, останавливались, горячо толковали между собою и расходились, или же составляли одну слитую группу, которая принимала совместную прогулку, разомкнувшись однако же на столько, чтобы к ней не мог придраться никакой полицейский хожалый. Тут происходили встречи с новыми кучками, с новыми группами; члены одних переходили на место других и снова расходились, и снова натыкались на новые кучки. Таким образом, между университетской молодежью шел обмен мыслей, замечаний, наблюдений и новостей, и все это, при помощи широких тротуаров Невского проспекта, живо передавалось из одной группы в другую, из другой в третью и т. д. Множество лиц, так или иначе близких студентству и принадлежащих университету в качестве вольнослушателей, любителей, студенток, и множество лиц к университету не принадлежащих, но почему-либо сочувствующих студентскому движению, явились тоже на Невский. У большей части из них, в каком-нибудь атрибуте костюма проглядывал синий цвет – цвет воротников студентской формы. У многих служащих были надеты синие галстуки, или синие ленточки на шляпе. Ардальон Полояров вывесил на свою скомканную войлочную шляпу широкую синюю атласную ленту, которой хватило бы на целый длинный кушак женского платья. Этой лентой он позаимствовал у Лидиньки Затц, и таким образом, с широко развевающимися позади его синими хвостами, разгуливал по Невскому, сожалея об одном, что его Козьмодемьянская дубина не могла быть, ради сей оказии, перекрашена в синий цвет. Женщины тоже отличались чем-нибудь синим: ленточкой, галстучком, шляпкой, платьем, зонтиком, или чем-нибудь подобным. Синий цвет долженствовал изображать собою видимый знак сочувствия студентскому делу и как бы давал право предъявителю его на участие в расспросах и прениях о студентских интересах.
Это был какой-то день синего цвета на Невском проспекте.
Разные официальные лица озабоченно и шибко катались в это самое время туда и сюда вдоль по Невскому. Сильная озабоченность и тревожное ожидание чего-то были, по большей части, написаны на их лицах. Они внимательно посматривали на бродячие кучки синих околышей, на группы служащих и женщин, отличавшихся какою-либо синей вывеской и, казалось, ожидали, что вот-вот сейчас что-то такое вспыхнет, что-то начнется…
Но ничего не вспыхивало и ничего не начиналось.
Время шло, начальство скакало, синие кучки шлялись, полиция, и явная и тайная, усердно наблюдала – первая наблюдала, занимая фронтовою вытяжкою свои посты, вторая – в различных образах шнырила тут и там, везде и нигде, принюхивалась, прислушивалась, старалась как-нибудь затесаться промеж синих кучек; и той и другой было здесь нынче количество изрядное, но… все-таки ничего не вспыхивало и ничего не начиналось…
Зачем озабоченно скачет и катается начальство, зачем сталкиваются и шатаются эти синие кучки, зачем шнырит и вытягивается во фронт полиция? Зачем и для чего все это делается? Все эти вопросы, на глаза постороннего, беспристрастного и хладнокровного наблюдателя, могли бы произвести одно только недоумевающее пожатие плечами.
И Василий Свитка, и пан Лесницкий, и Иван Шишкин тоже гуляли по Невскому, но только без малейших внешних отличий синего цвета. Зато маленький Анцыфрик, вместе с Лидинькой Затц, пришпилили себе целые кокарды, один к мерлушечьей шапке, другая к левому плечу на бурнусе, и в таком виде, под ручку, прогуливались рядом с Ардальоном Полояровым, который сегодня решительно обращал на себя всеобщее внимание своими развевающимися по ветру лентами.
– Ба! Хвалынцев! Вот и вы, наконец, появились! – растопырив руки, загородил ему дорогу Полояров. – Слыхали-с? Университет-то?.. Казарму сделали! Рота солдат и день и ночь внутри дежурит, ворота все заперты, никого не впускают и даже те, кто живет-то там, так и те выходят не иначе, как с билетом… Вот оно, какие порядки!
– Что ж, этого надо было ожидать, – пожал плечами студент.
– Нет, но это… это черт знает что! Это свинство! Это возмутительно! – входят в пафос, продолжал Ардальон.
– Возмутительно! Свинство! Подлость! – пищал из-под руки его Анцыфров.
– Что ж прикажете делать?
– Что делать? А во! Идти и выгнать! – пояснил Ардальон, показав свою дубину.
– Поставят целый батальон.
– И батальоны выгнать!
– И батальоны выгнать, и всех выгнать, – поддакивал и горячился плюгавенький Анцыфров.
Хвалынцев, не желая продолжать пустых речей, махнул рукой.
– Ступайте и выгоните, – сказал он, надеясь поскорее от них отвязаться.
– Нет, господин Хвалынцев, – вмешалась Лидинька Затц. – В вас, я вижу, развит непозволительный индифферентизм, вы равнодушны к общему делу. Если вы порядочный господин, то этого нельзя-с, или вы не принадлежите к молодому поколению и заодно с полицией, а только такой индифферентизм… Вы должны от него отказаться, если вы честный господин и если хотите, чтобы я вас уважала.
И пошла и пошла Лидинька, как мелкой дробью, сыпать словами на эту тему.
Хвалынцев, не дослушав ее, вежливо приподнял фуражку и поднялся на лесенку к Доминику.
– Э? батенька! Постойте-ка минуту! На два слова! догнал его Полояров. – Вы куда? к Доминику?
– Как видите.
Они пошли в ресторан. Хвалынцев уселся за особым столиком и спросил себе котлетку. Полояров поместился тут же подле него и потребовал себе того же.
– Н-да-с, я вам скажу, пришли времена! – со вздохом начал он вполголоса, подозрительно и сурово озираясь во все стороны. – Знаете ли что, будемте-ка лучше говорить потише, а то ведь здесь, поди-ка, и стены уши имеют… Все, везде, повсюду, весь Петербург стоит и подслушивает… весь Петербург! – Я вам скажу, то есть, на каждом шагу, повсюду-с!.. Что ни тумба, то шпион, что ни фонарь, то полицейский!
– Так лучше не говорить, если вы так опасаетесь. Да не к чему: все без того хорошо известно, нового ничего ведь не скажем, – заметил Хвалынцев.
– Как знать-с, может, что и новое в голову придет, – возразил Ардальон – мысль требует обмена. Теперича я вот как полагаю: времена-с, батюшка мой, такие, что все честные деятели должны сплотиться воедино, – тогда мы точно, будем настоящею силою. Каждый на это дело обязан положить свою лепту… Тут рядом идут принципы экономические, социальные и политические – знакомы вы с социалистами?
– Вы уж мне предлагали однажды этот вопрос.
– Да-да, помню!.. Ну, так стало быть, с вами толковать можно. Мы, батенька, проводим в жизнь эти самые принципы, для нас они дело плоти и крови-с!
– То есть, кто же это "мы"? – спросил студент.
– Мы! то есть я, например… я, Анцыфров, Затц… Вот приятель есть у меня один, Лукашка, – у, какая у бестии богатая башка, я вам скажу! – Ну, вот мы… и еще есть некоторые… Люди-то найдутся! У нас, сударь мой, слово нейдет в разлад с делом.
– О! В самом деле? – улыбнулся Хвалынцев.
– Да вы не улыбайтесь сомнительно! – подхватил Ардальон. – Я вам не пустяки болтаю. Да вот как скажу вам: прежде всего – принципы экономические и социальные. Нужно весь строй этого глупого и подлого общества радикально изменить, переделать, сломать и уничтожить; все это должно рушиться!
– И что же будет тогда? – спросил студент, с наивно-невинным видом.
– А будет то, чему уже положено некоторое начало, – утвердительно сказал Полояров. – Да вот, хоть наша коммуна, к примеру сказать. Это – дело прочное-с, и оно привьется, оно пойдет в жизнь, потому у нас все общее: общий труд, общий фонд. Я, например, литератор (это слово произнес он с оттенком горделивого достоинства), ну, занимаюсь литературным трудом, пописываю статейки там в разных журналах и получаю, значит, свою плату; другой коробки клеит, третья при типографском деле: каждый свое зарабатывает – и в общий фонд, на общей потребности. Квартира у нас общая, чай-сахар общий, стол общий, а главное – убеждения общие. Тут, сами видите, принцип экономический тесно связан с социальным. Это, батюшка мой, разумный и явный протест против эксплуатирующего собственничества, протест за право каждого на святой труд и борьба против обособляющих элементов.
– То есть, что же вы разумеете под обособляющимися элементами? – спросил Хвалынцев, которого понемногу стали забавлять полояровские курьезы.
– Обособляющие элементы, это… это, как бы вам сказать… Велите-ка прежде дать мне еще водки рюмку, а потом и обособляющие элементы пойдут у нас!
Хвалынцев тотчас же исполнил просьбу Полоярова.
– Обособляющие элементы, это изволите ли видеть, – начал он поучающим тоном, – например, чин, сословие, каста – это обособляющий элемент; капитал, сосредоточенный в одних руках, который, естественно, требует эксплуатации чужого труда – тоже обособляющий элемент; потом, например, семья – опять же обособляющий элемент. Поэтому борьба противу каст, сословий, против неравномерного распределения богатств, против семьи, брака и тому подобных мерзостей составляет задачу новых людей нашего времени. Стало быть, вы видите, что тут из связи принципов экономических и социальных вытекают сами собою и принципы политические: додуматься не трудно! Понимаете-с – многозначительно подмигнул он глазом. – Дайте-ка мне папироску!
Хвалынцев подозвал гарсона и стал расплачиваться.
– Э-хмм… Послушайте, батенька, – отворотясь от гарсона; тише чем вполголоса обратился Ардальон к Константину Ceменовичу. Заплатите-ка ему заодно уж и за меня… совсем из ума вон: деньги забыл, не захватил с собою.
Хвалынцев со всею любезною предупредительностью поспешил исполнить просьбу Ардальона Михайловича.
– Н-да-с, батюшка мой, – закурив папироску, глубоко и как-то интимно вздохнул Полояров, как обыкновенно вздыхает человек, когда собирается съоткровенничать от сердца. – Вот, видите меня. Кроме честного труда, ничего не имею, а между тем вы знаете ли, что я… что вот этот самый Ардальон Полояров, – говорил он, начиная входить в некоторый умеренный пафос и тыча себя в грудь указательным пальцем, – н-да-с! вот этот самый человек, не далее как нынешней весною, мог бы быть богачом капиталистом! Да ведь как-с! Громадный капитал вот уже совсем в руках был, взять бы его, да карман положить, а я – нет-с. И не то, чтобы капитал-то сомнительный, – нет, своим честным трудом добытый, никому за него не обязан!
– И что ж? – спросил Хвалынцев.
Полояров махнул рукой.
– Э! дурак был… не умел воспользоваться! – с досадой сорвалось у него с языка, и студент заметил, как лицо его передернула какая-то скверная гримаска досадливого сожаления в чем-то. Но Ардальон вдруг спохватился. – То есть вот видите ли, – стал он поправляться в прежнем рисующемся тоне, – все бы это я мог легко иметь, – капитал, целый капитал, говорю вам, – потому все это было мое, по праву, но… я сам добровольно от всего отказался.
– Это для чего же? – полюбопытствовал студент.
– Для идеи!.. Да, милостивый государь, для идеи-с и из-за идеи-с, – с ударением и внушительно-горделиво отчеканил! Полояров. – Я всем пожертвовал, все бросил: и не задумался! нет, в ту же минуту бросил и отказался!.. Даже, если уж вы так знать хотите, связи с любимой женщиной порвал, как только почуял первый клич идеи. Наш брат, батюшка мой, – наставительно прибавил он почти шепотом, – это тот же аскет: там где дело идеи, там нет ни отца с матерью, ни дома, ни любовницы, ни капитала – всем жертвуешь, все отвергаешь!
– Так и следует! – со скрытой иронией похвалил его Хвалынцев.
Полояров, тем не менее, принял это за чистую монету.
– А, вы понимаете это! Вашу руку! Дайте пожать ее! – многозначительно промолвил он. – Послушайте, голубчик, у меня до вас будет одна маленькая просьбица, – вдруг переменил он тон и заговорил в фамильярно-заигрывающем и приятельски-заискивающем роде, – не можете ли одолжить мне на самый короткий срок сущую безделицу: рублишек десяток, не более… Я должен за свою последнюю статью получить послезавтра… Мы с вами сочтемся.
– Нет, извините, не могу, к сожалению! – отозвался Хвалынцев.
– Гм… не можете… Ну, так хоть пятишницу дайте…
– К сожалению и в этом принужден отказать вам.
– Э, да ведь вы, голубчик, мы знаем вас! Вы человек денежный! В некотором роде собственник! – подмигивал Полояров; – у вас деньга водится!.. Одолжите, если не можете пяти, хоть зеленую… Ей-Богу, честное слово, отдам, как только получу.
Хвалынцев, видя, что тут ничего не поделаешь, вынул и дал ему трехрублевую бумажку.
– Сочтемся! – пробурчал Ардальон, пряча ее в карман и даже не кивнув головой. – А послушайте-ка, батенька, – промолвил он, – переходите-ка в наш лагерь, в нашу коммуну! Ей-Богу, самое любезное дело! Вы подумайте! Это статья дельная. У нас ведь и женщины есть в нашей общине, – как-то двусмысленно прибавил Полояров, словно бы имел затаенную мысль поддеть на соблазнительный крючок Хвалынцева.
– Нет, слуга покорный, – иронически поклонился Константин Семенович и пошел из ресторана.
Полояров подозрительно и сурово поглядел ему вослед и мрачно нахлобучил на глаза свою войлочную шляпу. Длинные хвосты широких лент развеваясь понеслись за ним сзади. Он вышел на Невский и пошел отыскивать Анцыфрова с Лидинькой, которых и нашел, наконец, у Аничкина моста.
– Послушай, Полояров, это, наконец, из рук вон! – запальчиво обратилась к нему Лидинька (с приездом в Петербург она очень прогрессировалась и, не стесняясь никем и ничем, "по принципу" говорила Полоярову с Анцыфровым прямо "ты"). – Это черт знает что! С какой стати ты водишься с этим господином?
– С каким господином? – покосясь на нее, проворчал Ардальон. – Чего ты?!
– С этим фатишкой, аристократишкой… Чего ты увязался за ним к Доминику?
– Увязался!.. Вовсе не увязался! Я сам по себе был. Скорее же он сам за мной увязался, а уж никак не я! – оправдывался Полояров.
– Я из вашего давешнего разговора совершенно убедилась, что этот господин и невежа и подлец! – раздраженно тараторила рила Лидинька. – Заодно с жандармами, заодно с полицией. Оправдывает правительство…
– Ну, где же оправдывает! – попытался было заступиться Ардальон.
– Пожалуйста, ты не противоречь! – перебила Затц. – Caма знаю, что говорю! Учить меня нечего! Этот гнусный индифферентизм, этот небрежный тон, как будто удостоивает, снисходит, говоря с нами; еле поклонился… уходит, руки не; протягивает… Нахал, подлец, фатишка и мерзавец! А ты с ним якшаешься!
– Да честное же слово, он сам! Я и не думал… Мне что. Мне на него плевать! – отчурался Ардальон от ее нападений.
– А мы с Анцыфровым положительно убеждены, что этот господин в связи с Третьим отделением! – брякнула вдруг Лидинька.
– Ну, вот… Почему ты думаешь?
– Так. Это мое убеждение.
– На чем же оно основано?..
– А хоть на том, что он не арестован… Почему он не арестован, когда других то и дело берут?.. Зачем? Почему? я тебя спрашиваю…
– Гм!.. – глубокомысленно промычал Полояров, подумав над ее словами. – А, впрочем, черт его знает! Мне и самому, пожалуй, сдается, что тут что-то подозрительное…
– Да уж поверь, что так. У меня на этот счет нюх! Отличный нюх есть! – горячо убеждала Лидинька. – Наконец, вспомни, в Славнобубенске эта дружба его с отъявленным, патентованным шпионом; разве это недостаточное доказательство?
– Ну, и черт с ним! Шпион, так шпион! Нам-то что? Не знаться с ним больше, да и вся недолга! – порешил Полояров.
– Нет, брат, Ардальоша, ты этого так не говори! – вмешался золотушный пискунок; – это так оставить нельзя! Долг каждого порядочного господина, если мы узнали такую штуку, наш прямой долг чести предупредить поскорей порядочных людей об этом, а то ведь другие пострадать могут…








