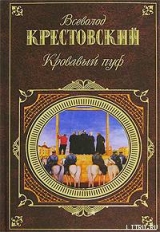
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 49 страниц)
Пан грабя был даже величественен в своем пафосе. Бейгуш, видимо убежденный, тихо улыбался в ответ какому-то своему особому расчету и соображению.
– А что? не рискнуть ли и в самом деле? – повернул он прояснившееся лицо к приятелю.
– Он еще спрашивает! – возведя глаза к потолку и пожав плечами, воскликнул Слопчицький. – Он еще спрашивает!.. О, тяжелая артиллерия! Да что это, ей-Богу!.. рискуй, душа моя! Прямо рискуй! – Риск благородное дело.
V. И хочется, и колется…
Несколько дней спустя после похорон Лубянской, члены коммуны в одно далеко не прекрасное утро были поражены совершенно неожиданной новостью.
В это самое далеко не прекрасное утро некоторые из членов, следуя повседневному обыкновению, отправились для препровождения времени в книжный магазин Луки Благоприобретова и Комп.
Но вообразите себе всю степень панического недоумения их, когда входную дверь они нашли не только запертою, но и запечатанною, и при этом оказалось, что печать несомненно принадлежит кварталу местной полиции. Члены толкнулись с черной лестницы в другую дверь, но и там то же самое. Позвали дворника, и тот объяснил, что нынешнею ночью приезжали жандармы с полицией, сделали большой обыск, запечатали магазин и забрали самого Луку Благоприобретова.
Все ужасно переполошились. Как, за что и почему взят Лука – никто не знал. Недоумению не было пределов. Никто даже и подозревать не мог, чтобы возможно было арестовать Благоприобретова, этого, по-видимому, столь скромного, немногоглаголивого, всегда осторожно сдержанного, осторожно поступающего подвижника. Ему, казалось, только и дела было, что до своей конторки, до своих книжных полок… Правда, любил он постоянно мечтать о возрождении человечества для нового духа и новой жизни в алюминиевых фаланстерах – но что ж из того? Кому теплей, или холодней было от мечтаний Луки Благоприобретова? Члены коммуны чуть ли даже не единодушно были убеждены, что этот вечный труженик способен только смотреть за книжным магазином, корпеть над конторскими книгами и счетами, да еще по принципу добровольно измозжать плоть свою, а он вдруг чем-то еще таким занимался, за что люди знакомятся с секретными комнатами близ Цепного моста. Но чем же занимался Лука Благоприобретов? Что такое творил он? Для чего ни единой души из коммунистов не посвятил в свои предприятия? – На эти вопросы никто не мог подыскать ответа, и только одно недоумение все сильней разрасталось?
– А?.. Каков?.. Лукашка-то наш?.. А? обращался ко всем Ардальон Полояров.
– Черт знает, что такое!.. И кто бы ждал от него! Кто бы мог ожидать! – пожимая плечами, топырили руки члены коммуны.
Всех ужасно заинтересовало, что такое именно делал Лука и за что, и куда именно спрятан теперь?
С помощью Сусанны навели через Бейгуша стороной кой-какие справки и пронюхали, что взят Лука по очень важному делу, за какое-то особенное «предприятие»; но что за «предприятие» такое и в чем его важность – это оставалось покрыто мраком неизвестности.
Зато начиная с этой минуты, уважение к таинственному Луке возвысилось на сто градусов. Но вместе с уважением, на сто же градусов возвысился и страх некоторых коммунистов: "а ну, как и меня так же сжамкают?" За что бы собственно сжамкать Малгоржана или Анцыфрова – этого ни Малгоржан, ни Анцыфров и сами не ведали, но почему же, казалось им, и не сжамкать, если сжамкали Луку? Вообще, очень затруднительно определить то особенное психическое настроение, которое одолело членов коммуны после ареста Луки. Это было очень странное настроение. Каждому из них и очень страшно было ареста, и очень хотелось его. Каждый хотел бы быть арестован, потому что это тотчас же возбуждает в целом обществе говор, толки, участие, сочувствие, – словом, делает из человека в некотором роде героя, а если и не героя, то во всяком случае очень интересную личность: "А, мол, Анцыфров-то! Представьте – бедный!.. В крепости, в казематах". – "Неужели?!" – "Да, взят"… – "Ай-ай!.. скажите пожалуйста!.. Как жаль!.. И ведь это все наши лучшие люди!" Всем вообще Анцыфровым казалось, что если говорят о них, то не иначе, как о лучших людях земли Русской – дескать, сок и соль наша. И вот, в силу таковых-то побуждений, заманчиво щекочущих самолюбьице, и восточным Малгоржанам, и маленьким Анцыфрикам, и Моисеям Фрумкиным, и даже князю Сапово ужасно как хотелось быть арестованными, и притом не иначе как ночью, и не иначе как с жандармами, с каретой, с казематами, – словом, со всеми эффектными атрибутами, которые придают ореол мученичества и политический интерес личности каждого плюгавенького Анцыфрика. Но всем им непременно хотелось быть мучениками при том лишь единственном и неизменном условии, чтобы их всех взяли, подержали себе маленько и потом благополучно бы выпустили с Богом на волю, дабы они могли беспрепятственно опять гулять между любезными согражданами, заседать в читальной Благоприобретова, проживать в коммуне и повествовать о своем гражданском мужестве и подвигах оного во время заточения. О, при этих условиях сколь желательно и сколь лестно быть политически арестованным! Это ведь просто отличие, в некотором роде повышение в чине или орден на шею!
Но… если арестуют, да не подержат и выпустят, а вдруг ушлют в какой-нибудь город Кадников или Бугульму, под надзор местных властей полицейских, – словом, в какие-нибудь такие допотопные страны, где ни о гражданском мужестве, ни о гражданской скорби еще и не слыхивали… Вдруг эдакая-то беда стрясется! – Тогда что?.. Оно, конечно, можно и в Кадников, идти, так сказать, пионером цивилизации и гражданских чувств, но, черт возьми, там насчет этих предметов и слова-то сказать не с кем! Ты им будешь о гражданском мужестве и о прочем, а они тебе на это: "Н-да-с… Так-с… Да это, мол, что-с! А вот не хотите ли в стуколку?" Главная беда, что там разговаривать-то решительно не с кем! И поэтому, в силу соображений о Кадникове и Бугульме, члены коммуны, вместе с желанием эффектного ареста, в то же время и сильно потрухивали его.
Каждый Анцыфрик, каждый Малгоржан в то же самое утро, как только узнали об аресте Луки, поспешили домой и тщательно перерыли и пересмотрели все книжки, все бумажки свои; но запретных плодов между ними, за исключением двух-трех невинных фотографических карточек, решительно не оказалось, несмотря на все стремление этих господ подвести хотя что-либо, собственной цензурой, под категорию запрещенного. Тем не менее, для вящего успокоения, они побросали в огонь и карточки, и много разного хлама вроде старых корректур, старых рукописей, записок, писем, счетов и прочего.
Это существеннее всего способствовало облегчению ящиков стола и собственного их духа.
Каждый в отдельности, невольно поддаваясь в душе чувству страха за возможность неблагоприятного ареста, хотел бы как-нибудь увильнуть от него и потому стремился исчезнуть куда ни на есть из коммуны, укрыться где-нибудь на стороне, в месте укромном, глухом и безопасном, и каждый, в то же самое время, ясно провидел в другом подобное же эгоистическое стремление; но Малгоржану, например, не хотелось, чтобы Анцыфров избежал ареста, тогда как сам он, оставаясь в коммуне, подвергнется ему; равно и Анцыфрову не хотелось, чтобы и Малгоржан укрылся, если ему, Анцыфрову, предлежит сия печальная участь. – "Уж лучше всем вместе, всем заодно", думает каждый в глубине души, и потому один за другим зорко наблюдает, чтобы тот не увильнул как-нибудь из коммуны. Таким образом, первое время все члены коммуны держались как бы в стаде, и если выходили куда, то старались сделать это, по возможности, гуртом. Одна только вдовушка Сусанна, не разделяя этих опасений, ни за что не желала подчиниться теперь стадным свойствам и требованиям. Как ни убеждали ее сидеть дома, как ни уверял ревнивый Малгоржан, что это даже подлость не сидеть, когда все сидят, Сусанна все-таки урывалась из коммуны и возвращалась только поздним вечером. Малгоржан-Казаладзе, быть может и не без оснований, подозревал, что причина этих настойчивых уклонений и продолжительных отлучек «кузинки» лежит не в чем ином, как в бравых свойствах красивого Бейгуша.
Впрочем, сама «кузинка», несмотря на все назойливые приставанья, не давала восточному человеку ни малейшего отчета в своих последних поступках. Восточный человек бесился, выходил из себя и жестоко испытывал то самое чувство, которое – увы! – он еще почти вчера называл гнусным и недостойным порядочного человека, проповедуя, что чувство это совершенно тождественно с теми побуждениями, в силу которых пошляки и подлецы не позволяют другому человеку надеть своего носильного платья или брезгают пить из одного и того же стакана одну и ту же воду. Короче, он жестоко ревновал свою "кузинку".
Прошло несколько дней после ареста, наделавшего столько переполоха. Сожители все ожидали, что не сегодня завтра нагрянут жандармы и их заберут. Каждый внезапный и порывистый звонок приводил их в смущение. И чего так страшились эти политические жеребята, они и сами не знали, но только страшились, потому что время тогда такое было… "Там берут, тут берут – отчего же и нас не взять?" все думает себе Малгоржан или Анцыфров, беспрестанно возвращаясь все к одной и той же господствующей и тревожащей мысли.
Но проходила ночь за ночью, день за днем, а роковой звонок не раздавался. Если и были звонки, то все такие, которые Полояров называл «глупыми»: они возвещали либо знакомых, либо кредиторов. Жандармы не появлялись. Это, наконец, становится даже досадно, зачем они не появляются! И именно досадно потому, что с каждым днем вероятность ареста уменьшалась, а вместе с этим уменьшением опасности пропорционально росло заманчивое желание быть эффектно арестованным – само собою, с соблюдением того условия, что подержат маленько да и выпустят. И с каждым же днем Малгоржаны и Анцыфровы, всяк про себя, почему-то все более убеждались, что если возьмут, то непременно выпустят здрава и невредима. Это было желание играть в героев и боязнь дурных шансов игры – совершенно по пословице: "и хочется и колется"…
Одна только Сусанна, всецело занятая другими мыслями, была чужда этих желаний.
Но… дни шли за днями, ареста не последовало – и члены мало-помалу совсем успокоились.
А между тем, с исчезновением Луки Благоприобретова, все дела ассоциации стали как-то расползаться, не клеиться. Уж не говоря о книжном магазине, которым он один только и занимался как следует и который доставлял довольно значительную поддержку для существования коммуны, – все эти швейные и переплетные тоже пошли врознь. Бог весть как и отчего, члены и сами не понимали, только с отсутствием Луки все у них стало не клеиться. Этот немногоглаголивый, медвежеватый, узколобый Лука, который постоянно уклонялся от сожительства в коммуне, быть может для того, чтобы успешнее заниматься каким-то своим особым таинственным «предприятием», этот Лука, на которого все склонны были смотреть почти как на последнюю спицу в колеснице – он-то, неведомо для сочленов, и был настоящею, живою душою всего дела, главным направителем, руководителем и деятелем всей работы, всех предприятий, клонившихся к возрождению человечества. Дух отлетел – и организм стал разрушаться.
VI. Сюрприз от вдовушки Сусанны
Не прошло и месяца после ареста Луки, как членов коммуны поразила новая и весьма существенная неприятность.
Однажды вдовушка Сусанна исчезла и ночевать не вернулась. Малгоржан очень тревожился. Прошли еще сутки, а вдовушки нет как нет. Малгоржана уже начинали мучить некоторые темные предчувствия. Он уж замышлял было подавать в полицию объявку об исчезновении «кузинки», как вдруг на третий день утром Лидинька Затц получила с городской почты письмо. Хотя это письмо и было адресовано на ее имя, но содержание его относилось ко всем вообще. Это было, в некотором роде, послание соборное.
"Любезные сограждане! Спешу вас удивить очень приятною для меня новостью: третьего дня вечером я сочеталась формально-законным браком с поручиком конной артиллерии Анзельмом Людвиговичем Бейгуш. Новое мое положение препятствует мне продолжать старую жизнь с вами, мои любезные сожители. Поэтому, я прошу мою милую Лидиньку вещи мои собрать и переслать ко мне по прилагаемому адресу Мужу моему и мне будет очень приятно видеть у себя всех вас без исключения. По воскресеньям вечером мы всегда дома. Вместе с этим, нахожу нужным уведомить вас, что я сегодня же препроводила к хозяину дома деньги, следуемые ему за последний месяц, и на дальнейшее время отказалась от квартиры. Если желаете оставаться в ней, то постарайтесь уже сами как-нибудь устроить это. Верьте, мои друзья, что время, проведенное мною с вами, останется для меня навсегда одним из самых приятных воспоминаний. Остаюсь преданная вам
Сусанна Бейгуш".
Карась, внезапно свалившийся с неба, не мог бы произвести более сильного, более неожиданного впечатления, чем это не длинное послание. "Как замужем?!. А как же мы-то теперь?" мелькнуло прежде всего в голове каждого.
Полояров, изобразив гримасу, которая выражала собою как бы восклицание: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – обратился с комическим поклоном к Малгоржану. Тот был вне себя.
– Дайте мне кинжал!.. Я восточный человек!.. Я… я с кинжалом пойду!.. Я этого не позволю! – чуть не задыхаясь и бегая по комнате с крепко сжатыми кулаками, не заговорил, а как-то захаркал гортанным своим голосом Малгоржан-Казаладзе. Когда он был взволнован или раздражен чем-нибудь, то быстрый говор его всегда переходил в какое-то горловое харканье – почти общее свойство людей его расы. Глаза Малгоржана налились кровью, губы дрожали, в душе кипела ревность, а в голове вставал призрак вопроса: как же ты теперь без кузинки существовать-то будешь?..
– Это подлость!.. Это измена! Измена делу! – тараторила азартная Лидинька. – Законный брак… и еще с военным… с офицеришкой!.. Где ж принцип, после этого?!. Это низость, мерзость, пошлость!.. Это надо огласить! Непременно надо! Чтобы во всех газетах, во всех журналах оттрепали ее за этакую подлую измену!.. Надо, чтобы «Искра», чтобы карикатуры… Погоди ж ты, голубушка!.. Я, господа, я это устрою!.. Непременно устрою!.. Это так нельзя оставить! Это до всех касается, до всех честных и мыслящих людей… Это общее дело, господа!.. Анцыфров, приготовь мне бумагу, я буду сейчас же карикатуру в «Искру» сочинять!
Животрепещущая Лидинька горячилась не менее оскорбленного Малгоржана.
– Как же теперь квартира? – размышлял более практичный Моисей Фрумкин. – Князь! надо, чтобы это вы теперь на себя взяли, на свое имя… с квартирой-то…
– Да, да, с квартирой… на свое имя… на себя взял… – бессознательно, но благодушно повторял князь, улыбаясь и хлопая глазами в одно и то же время.
– Дайте ж мне кинжал! Я восточный человек!.. азиатский человек!.. Понимаете?!. Я… я пойду… Я с кинжалом! – харкал меж тем азартно бегающий Казаладзе.
– Ну, и что ж, что ты с кинжалом? – философски ухмылялся, обращаясь к нему более всех спокойный Полояров.
Я с кинжалом!.. с большим кинжалом! – не слушая его, орал покинутый кузен.
– Ну, и с большим! Ну, и что ж из того, что ты с большим кинжалом?
– Я ее заколю, его заколю, всех заколю!.. Я не позволю!.. Она мне деньги должна еще… Она мне пускай деньги мои прежде отдаст… Я жаловаться буду… Я мои права имею!..
– Азия!.. Смирися!.. Смирися, безобразие Азии, говорю тебе! – комически-ораторским тоном взывал к нему Ардальон, простирая руки. – Не ву горяче па! Что с возу упало, то пропало!.. Гляди на жизнь философски, как гляжу я – и благо ти будет! Ну, что же, что кузинка нос показала? Укротись и старайся сыскать новую – и будешь ты утешен! Вот тебе мое верное слово!
И долго еще подымалась в тот день пыль смятения в коммуне. Долго еще возглашал Малгоржан о своем восточном происхождении, долго и Лидинька тараторила об изменах, подлости и пошлости, то принимаясь за карикатуру, то измышляя горяченькую обличительную статейку, чтобы хорошенько хлестнуть в ней Сусанну за измену принципам и общему делу. А Моисей Фрумкин и Ардальон Полояров, каждый втайне, сам про себя, измышляли уже новые пути и планы для обеспечения собственного и коммунного житья-бытья без посредства щедрого кармана бескорыстной вдовушки.
VII. Мины и подкопы
Планы эти естественным образом сошлись на князе Сапово-Неплохово. Да и кто ж бы иначе мог заменить вдовушку Сусанну? Ни Ардальон, ни Фрумкин не поверили друг другу своих сокровенных целей и стремлений: каждый действовал особо, потому что каждый рассчитывал приобрести себе исключительное влияние на князя; и оба в то же время чувствовали, что один другому мешает, перебивает дорогу и, пожалуй, даже ногу не прочь подставить. Из этого возникла затаенная вражда Моисея к Ардальону и Ардалъона к Моисею. Это были два врага, которые одновременно вели осаду на одну и ту же крепость: оба хотели взять крепость и в то же время сокрушить другого осаждающего.
Моисею уже давно было не по душе то нравственное преобладание, которым пользовался в коммуне Полояров, тем более, что смышленый Моисей как нельзя лучше понимал, что все это преобладание, всеми чувствуемое, но въявь никем не признаваемое, построено единственно на беспардонном нахальстве Ардальона, на его наглости, на его громком голосе и на его безапелляционно-авторитетном тоне, которым он решал, что все – дураки и пошляки и никто ничего не знает, не смыслит и не умеет, давая тем самым чувствовать, что умен и сведущ один только он, Ардальон Полояров. Самолюбие Фрумкина давно уже страдало втайне и от полояровского первенства, и от полояровской бесцеремонности отношений. Оно страдало тем более, что Фрумкин чувствовал и сознавал, что и он точно так же мог бы играть ту же самую роль, какую теперь играет Полояров и что немножко бы только нахальства – и ничто тому не помешает. Моисей в глубине души своей решил сокрушить Ардальона и стать на его место. Ардальон же, пользуясь столько времени своими преимуществами, считал себя с этой стороны вполне обеспеченным, несокрушимым, и стремился только к тому, чтобы не допустить Моисея до исключительного влияния на князя Сапово-Неплохово. Но задавшись такою целью, он совершенно упустил из виду, что кроме Моисея, в коммуне существуют еще и другие члены, которых впрочем он привык считать за ничто, а этими-то именно членами и воспользовался исподволь Моисей Фрумкин. Полояров, в беспечном спокойствии своем, ничего еще и не подозревал, а Фрумкин между тем с этой стороны успел уже подвести под него весьма значительные мины.
Каждый из коммунистов, конечно, не менее Фрумкина чувствовал на себе тягость полояровского преобладания, каждый, быть может, сознавал, что Полояров третирует его в душе как дурака, но… так как Полояров раз уже завоевал себе это привилегированное положение и все подчинились такому порядку вещей (сначала, конечно, бессознательно), то потом уже все и молчали. Кто молчал из малодушия, из трусости, кто от бесхарактерности или в силу подчинения более сильной натуре Ардальона, а кто и от самолюбия: "как же, мол, я сознаюсь, что Ардальон командует надо мною… Хоть оно, мол, и так, а только я виду не покажу". И таким образом, чувствуя известного рода тягость, все молча выносили ее до поры до времени. Может быть, этим господам пришлось бы и очень еще долго выносить ее, если бы в душе Моисея не возникла коварная мысль воспользоваться ардальоновскими преимуществами.
Этими побуждениями более всего руководили расчеты на карман глупого князя, в который и Ардальон протягивал свою лапу. Были тут у Моисея и еще кое-какие соображения, и тоже финансового свойства: Моисей был самый работящий человек из всех коммунных сожителей. Он и переводами занимался, и корректуры правил, и фельетончики в одну газетку поставлял, за что и получал приличное вознаграждение. Сумма его месячного заработка превышала заработок других; поэтому Моисею было обидно, что с какой же стати он должен свой заработок отдавать в кассу, находящуюся в заведывании Полоярова, и с какой стати этот самый Полояров, зарабатывая гораздо меньше, но пользуясь равными условиями жизни, живет, в некотором роде, на его, Фрумкина, счет? Что оба они, равно с прочими, живали на счет князя и Сусанны – этого Моисей в расчет не принимал и вообще старался исключать из своих соображений, как нечто к делу вовсе не подходящее; но помнил он только себя и свой собственный, личный заработок.
Моисей мало-помалу успел и прочим членам внушить мысль, что Полояров, зарабатывая сам очень немного и в то же время распоряжаясь общими деньгами, живет по преимуществу на их общий счет. Это открытие очень понравилось членам и оно-то послужило началом восстания против Ардальона. Полояров обязан был ежемесячно представлять отчет общему собранию членов, но прошло уже несколько месяцев, а он об отчете и не думал, да и ему никто не напоминал про это. Все, казалось, жили спустя рукава, а Полояров более всех, и потому позамотался-таки и позапутался в расчетах весьма изрядным образом.
Подготовя свою партию, Фрумкин, наконец, явно восстал против Ардальона. Все, в один голос, потребовали у него отчетов. Ардальон почувствовал весьма критическое положение. Хотел было, по обыкновению, взять нахальством, – не удалось, хотел и так и сяк вильнуть в сторону – и тоже не удалось. Члены настойчиво предъявляли свои требования, Фрумкин кричал более всех и даже грозился предать гласности все поступки Полоярова, если тот не представит самого точного, вполне удовлетворяющего отчета.
Даже маленький Анцыфрик совсем вышел из повиновения. Полояров растерялся. Авторитет его видимо падал и почти уже превратился в ничто. В коммуне поселился раздор, раздвоение, или, вернее сказать, восстание против ардальоновской диктатуры. Таким образом, этот развенчиваемый кумир испытывал теперь на себе общую судьбу всевозможных диктаторов: пока не появлялось соперника – он мог делать все, что угодно, и все ему подчинялись, все молчали, все терпели; но чуть явился соперник в лице Моисея – все разом поднялись и завопили против Полоярова. Всем даже и лестно, и приятно было теперь выместить на нем все свое прошлое унижение, презираемость, повиновение и молчание. Фрумкин явно одолевал, – Ардальону оставалось только покориться со смирением…








