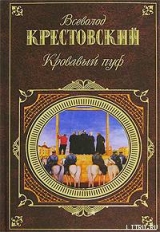
Текст книги "Кровавый пуф. Книга 1. Панургово стадо"
Автор книги: Всеволод Крестовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 49 страниц)
XXXVI. В саду
Солнце садилось за низкую тучу и последним своим отблеском окрашивало ее в густой темно-розовый и почти багряный цвет с ярко-золотистыми скважинами в середине и излучинами по краям, сверкавшими словно растопленное золото. Волга местами тоже была подернута этим багряным отливом последних лучей, которые жаркими искрами замирали на прорезных крестах городских церквей и колоколен да на причудливых верхушках высоких мачт у расшив, и горели кое-где на откосах больших надутых парусов, которые там и сям плавно несли суда вниз по течению.
В воздухе было тихо и тепло. Порою легкий ветерок с Заволжья приносил воздушною струею свежий запах воды и степных весенних трав. Стояли последние дни мая.
В небольшой и легкой плетеной беседке, сплошь обвитой побегами павоя и хмеля, на зеленой скамье, перед зеленым садовым столиком сидела Татьяна Николаевна Стрешнева и шила себе к лету холстинковое платье. Перед нею лежали рабочий баул и недавно сорванные с клумбы две розы. По саду начинали уже летать майские жуки да ночные бабочки, и как-то гуще и сильнее запахло к ночи со всех окружающих клумб ароматом резеды и садового жасмина.
Девушка старалась шить прилежней, потому что чувствовала, будто сегодня ей как-то не шьется. Голова была занята чем-то другим; взор отрывался от работы и задумчиво летел куда-то вдаль, на Заволжье, и долго, почти неподвижно тонул в этом вечереющем пространстве; рука почти машинально останавливалась с иглою, и только по прошествии нескольких минут, словно бы опомнясь и придя в себя, девушка замечала, что шитье ее забыто, а непослушные мысли и глаза опять вот блуждали где-то!
"Господи! Да что это со мной сегодня?" – недоумело шептала она себе и снова, еще прилежней, принималась за работу.
Или вдруг начинала она пристально вглядываться и вслушиваться в садовую чащу, словно бы ожидая чьего-то прихода. Но заметив, что слух и глаза опять обманули ее, снова наклонялась к шитью, и только одна какая-то жилка в нервно-молодом, впечатлительном лице на мгновение вздрагивала досадливым нетерпением. Задумчиво-ясная улыбка появлялась порой на глазах и во взоре, и светло блуждала некоторое время по лицу, словно бы в эти минуты девушка вспоминала о ком-то и о чем-то, словно бы ей приходили на память чьи-то хорошие слова, чей-то милый образ, какие-то приятные мгновенья, уже перешедшие в недавнее прошлое, быть может только вчера, быть может еще сегодня… И она снова, нетерпеливо и выжидательно, начинала вглядываться в чащу.
Но в саду было совсем тихо, только комарик какой-то звенел недалеко над ухом, да соловей где-то рано начинал выщелкивать, да еще гуще пахло резедой и жасминами.
Вдруг по песку ближней дорожки послышались быстрые, легкие молодые шаги.
Девушка чутко вздрогнула, затаила светлую, всю душу выдающую улыбку и принудила себя наклониться к работе, стараясь сделать вид, будто она вся поглощена этим занятием.
"Нет! Чего лгать-то!" – мелькнула ей мысль, – и спешно отодвинув свой баул да холстинку, она нетерпеливо и радостно подняла глаза и вся ждала ими, вот тот, сию секунду появления пред собою кого-то, давно уже жданного и желанного.
Вошел Хвалынцев.
– Что так поздно? – с легким укором, но внутренно довольным тоном, спросила Татьяна Николаевна, протягивая ему руку.
– Да вот, только что с делами управился.
– Кончили?
– Совсем уже.
– И стало быть, завтра? – задумчиво проговорила она, опять устремляя долгий, блуждающий взгляд на Заволжье.
– Завтра… Прощайте, Татьяна Николаевна!.. – тоже задумчиво и не сразу ответил студент, садясь на зеленую скамейку.
– Ну, прощайте… Дай Бог вам…
Она не договорила и отвернувшись глядела все в ту же прозрачно-мглистую даль.
– А не хочется уезжать!.. ей-Богу, так привык я за все это время… заговорил он, глядя себе в ноги, словно бы боялся прямым взглядом на нее выдать свои ощущения,
– Нельзя, Константин Семенович… нельзя. Надо ехать. Надо дело делать.
– Эх, ей-Богу, и вы туда же! – с некоторою досадой махнул он рукой. – От всех вокруг только и слышишь «дело» да «дело», а какое дело-то?.. Как подумать-то хорошенько, так и дела-то никакого нет!
– А учиться?.. Разве это не дело?
– Положим и так; да что толку-то?
– Ну, коли о толке говорить, так это длинные разговоры пойдут. Надо, голубчик мой, чтоб у каждого человека какое-нибудь дело было, какая-нибудь задача в жизни.
– Вы, кажись, резонировать начинаете? – мягко улыбнулся Хвалынцев.
– Нет, а так мне кажется. Скучно без дела-то.
– Хм!.. Ну, возьмем к примеру вас хоть: какое у вас дело?
– А вот – как видите; платье холстинковое шью себе.
– И в этом задача жизни? – пошутил он.
– Вы к словам придираетесь. Задача, положим, и не в этом, а уметь самой сшить себе платье – дело не лишнее.
– Да ведь это все так себе, одни слова только или от нечего делать! Задача в жизни!.. легко сказать!.. И все мы любим тешить себя такими красивыми словами. Оно и точно: сказал себе "задача в жизни" – и доволен, как будто и в самом деле одним уже этим словом что-то определено, что-то сделано, а разобрать поближе – и нет ничего! Ну, какая, например, ваша задача в жизни? Простите за вопрос! – улыбнулся Хвалынцев.
Татьяна Николаевна поглядела на него серьезно и просто.
– Очень не хитрая, – сказала она. – Быть честной женщиной.
– Понятие условное-с. Одни понимают его так, другие иначе. Да вот вам, для наглядного сравнения: мать Агафоклея потеряла жениха, пошла в монастырь, всю жизнь осталась верна его памяти, все имение раздала нищим и на старости лет имеет полное право сказать о себе: "я честная женщина"; ну, и наша общая знакомка Лидинька Затц тоже ведь с полным убеждением и совсем искренно говорит: "я честная женщина".
– Что ж, может быть, с своей точки зрения и Лидинька права, – пожала плечами Стрешнева, – как права и мать Агафоклея. Я, Константин Семенович, понимаю это дело так, – продолжала она. – Прожить свою жизнь так, чтобы ни своя собственная совесть, ни людская ненависть ни в чем не могли упрекнуть тебя, а главное – собственная совесть. Для этого нужно немножко сердца, то есть человеческого сердца, немножко рассудка да искренности. Ну, вот и только.
– Рецепт не особенно сложен, – возразил Хвалынцев, – и был бы очень даже хорош, если бы сердце не шло часто наперекор рассудку, вот, как у меня, например, рассудок говорит: поезжай в Петербург, тебе, брат, давно пора, а сердце, быть может, просит здесь остаться. Что вы с ним поделаете! Ну и позвольте спросить вас, что бы вы сделали, если бы, выйдя замуж да вдруг… ведь всяко бывает! – глубоко полюбили бы другого?
Стрешнева, прежде чем ответить, поглядела на него серьезно и несколько строго, словно бы желая определить себе, под каким побуждением был сделан этот вопрос. Хвалынцев глядел на нее, как и всегда, и серьезно, и с уважением.
– Что бы я сделала? – медленно проговорила она. – Во-первых, я бы не вышла иначе замуж, как только убедясь прежде в самой себе, что я точно люблю человека, что это не блажь, не вспышка, не увлечение, а дело крепкое и серьезное. Ну, и после этого… мне бы уж, конечно, не пришлось полюбить другого.
– Да если другой-то будет лучше!
– Тут нет, мне кажется, ни лучше, ни хуже, – столь же серьезно продолжала девушка. – Может быть, я даже могла бы полюбить и очень дурного человека, потому что любишь не за что-нибудь, а любишь просто, потому что любится, да и только. Знаете пословицу: не по хорошу мил, а по милу хорош. Но дело в том, мне кажется, что можно полюбить раз да хорошо, а больше и не надо! Больше, уж это будет не любовь, а Бог знает что! Одно баловство, ну, а я такими вещами не люблю баловать.
– Но как же после этого Лидинька-то права, положим, хоть и "с своей точки зрения"? – спросил Хвалынцев, думая поймать на слове собеседницу.
– Лидинька? Да Лидинька не понимает и никогда не понимала этого. И разве она виновата в том? Ведь человек не виноват, если родился слепым или безруким. О нем только пожалеть можно. То же самое и Лидинька.
– Однако, ведь этак и все оправдать легко? – сомнительно улыбнулся студент.
– Обвинить еще легче. Лидинька никогда не любила, а теперь уж едва ли и может полюбить серьезно. Она "за свободу чувства", как говорит она, и совершенно искренно стоит за эту свободу, не понимая, что это такое; притом же Лидинька не убила, не уворовала вещи какой-нибудь, словом, не сделала ничего такого, что на условном языке называется «подлостью». Лидинька, к тому же еще "свои убеждения имеет", и потому с полным правом и с полною искренностью называет себя честной женщиной. Ей бы только, по-настоящему, замуж выходить не следовало, но… это ошибка ее родных; ее выдали, не спрашивая согласия, чуть не ребенком.
Хвалынцев задумался.
– Такой взгляд на серьезное чувство, бесспорно, хорош, – сказал он наконец, – но ведь с ним иногда рискуешь быть очень несчастливым в жизни.
– То есть, как это? – подняла голову девушка.
– А так, что если вы любите человека ветреного, увлекающегося, который разлюбит потом, который в каждом смазливом личике будет находить себе источник чувства или развлечения, тогда что?
– Да, тогда не хорошо, – согласилась Стрешнева. – Это бесспорно, величайшее несчастие, но это еще не достаточная причина, чтобы и самой делать то же.
– Опять маленькое резонерство! – подхватил Хвалынцев. – Это говорит голова или, пожалуй, сознание долга, но никак не сердце. Такого нестоящего человека как ни люби, а наконец все-таки станешь к нему равнодушною. Тогда что?
– Тогда? Уйти в свою улитку и затвориться.
– А коли душа снова запросит солнца, света, воздуха; коли кровь еще в каждой жилке будет напоминать про молодость?
– А сила воли на что?
– Но ведь это какое-то факирство! Это значит душить самоё себя!
– Потому-то вот прежде и надо прочувствовать хорошо свое чувство, а потом уже решаться, – серьезно сказала девушка.
– А если обманешься и, главное, выйдешь замуж, да потом увидишь, что дело-то плохо?
Она улыбнулась и собралась с мыслями.
– Вы, Константин Семенович, кажется, думаете, что я замужество полагаю первым и непременным условием серьезного чувства? – осторожно отчасти застенчиво спросила Татьяна Николаевна. – Скажу вам на это вот что: да, если я полюблю человека, то хотела бы любить его откровенно и прямо, не стыдясь глядеть в глаза целому свету, не прятаться, не скрывать свою любовь, а говорить всем: да, мол, я люблю его! Поэтому я во всяком случае предпочла бы быть женою, чем не женою любимому человеку. Предпочла бы еще и потому, что, мне кажется, я за себя могу ответить: уж если полюблю, так хорошо полюблю и не заставлю ни разу ни покраснеть за себя, ни пожалеть о том, что взял меня замуж! И, наконец, во власти самой женщины сделать так, чтобы человек всегда любил ее, чтобы ему и в голову не пришло о возможности увлечься другою. Это может сделать женщина. Надо только уметь любить прежде всего и… верить!.. В себя верить!
Она говорила с увлечением, искренно, горячо. Голубые глаза ее горели и щеки раскраснелись молодым и горячим румянцем.
Хвалынцев жадно слушал и любовался ею, ловя глазами каждый ее взгляд, каждое движение бровей, губ, улыбку, выражение лица и чувствовал, как нечто острое и жуткое идет где-то внутри его и проникает собою весь его состав.
Ему было хорошо в эту минуту. Он всем сердцем, всем рассудком, всею волею склонялся перед этой открытой простотой и беззаветной искренностью.
Разом обдав его своим ясным взглядом, девушка заметила, угадала и поняла все и, еще больше зардевшись, вдруг примолкла и тихо, немножко смущенно опустилась на прежнее место.
Разговор сам собой прекратился, да и не к чему было возобновлять его: на душе у обоих было так полно, так хорошо, так молодо и счастливо, что слова были излишни. Наступило полное и совсем спокойное молчание, в котором еще отчетистей звенел какой-то назойливый комарик или ночная пчелка, и перерывисто раздавались над уснувшим берегом яркие соловьиные раскаты. Она сидела, подпершись рукою, и в задумчивости небрежно перебирала лепестки розы, а он сосредоточенно курил свою сигару и тихо глядел на ее полуопущенную русую головку. С того самого раза, как Стрешнева пригласила его к себе, после сходки у Лубянской, он часто и почти ежедневно стал бывать в доме ее тетки. К нему скоро привыкли и перестали стесняться. Татьяне Николаевне незаметно даже стало нравиться его присутствие, он и ей, и старухе пришелся по сердцу. Девушка любила быть с ним и говорить с ним, а молодое весеннее чувство меж тем обоим закрадывалось в душу, и как это сделалось – они сами того не знали и не замечали; а оно шло все дальше и все глубже запускало в сердце свои живучие молодые корни. Они ни разу даже не подумали об этом чувстве, ни разу не позаботились заглянуть вовнутрь себя и дать себе отчет о том, что это такое; слово «люблю» ни разу не было сказано между ними, а между тем в этот час оба инстинктивно как-то поняли, что они не просто знакомые, не просто приятели или друзья, а что-то больше, что-то ближе, теплей и роднее друг другу.
Поняли и молчали.
– Итак, завтра едете? – прервала она, наконец, это молчание.
– Завтра… – проговорил Хвалынцев и бросил от себя окурок сигары.
– А в самом деле, грустно как-то расставаться, – задумчиво сказала она. – До последней минуты об этом и не думаешь, а тут – гляди – и грустно… Так все это хорошо было… время летело незаметно… и вдруг ничего этого не будет…
– Остаться разве? – нерешительно и робко отозвался Хвалынцев.
Девушка мельком взглянула на него, но тотчас же потупясь отвернулась и молчала, не отвечая ни словом, ни жестом.
– Остаться? – еще тише молвил он.
– Нет, нет! Поезжайте… поезжайте… Надо ехать! – быстро и решительно проговорила Татьяна Николаевна, как-то нервно и озабоченно принимаясь ощипывать лепестки своей розы, словно бы в этом занятии была теперь вся ее главная, сосредоточенная и серьезная забота.
– Значит, так и не увидимся больше? – спросил он, стараясь придать своему голосу спокойное и даже равнодушное выражение.
– Зачем не увидаться? Приедете опять как-нибудь!.. А может, и мы с тетушкой по осени тоже в Питер соберемся… Вот и увидимся.
Опять наступило молчание.
– Таня! – громко раздался с террасы дома знакомый голос старушки. – Таня! где ты? Пора чай пить… Андрей Павлыч пришел!
– Устинов здесь, – тихо вымолвил Хвалынцев.
Девушка, ничего не ответя, быстро собрала шитье, надела на руку баул и поднялась с места. Глаза ее встретились с глазами Хвалынцева.
– Ну, прощайте! – тихо, но решительно сказала она, усиливаясь придать себе улыбку, тогда как щека ее нервно подрагивала и в груди колесом ходило что-то похожее на подступающие слезы.
– Прощайте… Нет, до свиданья! – прошептал Хвалынцев и, взяв протянутую ему руку, долго, тихо и горячо, не отрываясь, стал целовать ее.
– До свиданья… до свиданья… – вся слегка дрожа, тихо шептала и принужденно улыбалась девушка и глядела в его лицо, отрывая и в то же время не желая отрывать от его губ свою руку. – Ну, будет… будет… Пойдемте… Пора… Тетушка ждет к чаю…
И они молча пошли по дорожке в сумрак сада, сквозь который приветливо и весело глядел на них из-за ветвей яркий свет лампы в окнах хорошенького домика.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. В коптилке
18-го сентября 1861 года, утром, в половине девятого часа, Хвалынцев шел в университет. В этот день открывались лекции. Шел он бодро и весело, в ожидании встреч со старыми товарищами, с знакомыми профессорами.
"Что-то предстоит на нынешний год? Какие дела, какие интересы? Будет ли все так же, по-прежнему, процветать своя домашняя, университетская «публицистика»? Что Сборник студентский? Что «касса» сходки? Фишер, конечно, по-прежнему будет вещать, что "педагогика разделявается на три половины, из которых первая говорит о воспитании, но вторая равно о воспитании, а зато третья… тоже о воспитании". Ну, да впрочем Фишер – Бог с ним! А вот лекции Костомарова, Спасовича, Кавелина – тут уж вознаградим себя за все три половины! Еще один год – кандидатский диплом в руки – и гуляй себе Константин Семенович по белому свету, распоряжайся своею личностью, как признаешь удобнее!"
Весело мечтать таким образом, Хвалынцев почти и не заметил, как очутился перед университетским подъездом.
– А! Старая гвардия! – приветливо, как старого знакомого, встретил его в сенях, на площадке, почтенный университетский швейцар. – Старая гвардия! Добро пожаловать! С новым курсом, с новым счастьем!
– Здорово, Савельич! Спасибо тебе! А что нового?
– О, нового много, много нового! Полны карманы наложишь новостей, и то не оберешься! – махнув рукой, ухмыльнулся старый Савельич. – Письмо есть к вашей милости – несколько дней уж лежит.
И порывшись у себя на столике, где у него обыкновенно раскладывались письма, адресованные в университет, на имя студентов, он старчески внимательно, поодаль от глаз, разобрал надпись и подал Хвалынцеву запечатанный конверт.
– Ну, ладно, после прочтем на досуге, – проворчал себе под нос студент и, сунув письмо в боковой карман расстегнутого сюртука, повесил пальто и быстрыми шагами поднялся наверх, по лестнице. Как раз на верхней площадке, нос к носу, столкнулась с ним единая от полицейско-университетских властей.
– Ай, ай, господин Хвалынцев, опять воротнички! опять воротнички у вас выпущены! и в прошлом году воротнички, и в позапрошлом воротнички, и нынче опять воротнички! – говорила власть, тщетно стараясь принять авторитетный тон, ибо чувствовала, что в последние годы авторитет ее сильно расшатался.
– Ну да, Александр Иванович, и воротнички, и волосы длинноваты – это ведь мой всегдашний недостаток! Ничего, свои люди – как-нибудь сочтемся! – полушутя-полунебрежно ответил студент, проскальзывая в дверь мимо власти, которая только развела руками да головой вослед ему покачала.
В длинном университетском коридоре, там и сям, около аудиторий, слонялись довольно уже людные группы студентов. В этих слоняющихся группах даже непривычный глаз мог бы сразу отличить новичков от "старой гвардии", по выражению Савельича. Старая гвардия бойко ходила, громко говорила, весело смеялась и держала себя по-домашнему, "своими людьми", с видимою независимостью; новички же, тщательно застегнутые на все пуговицы, отличались несмелостью движений и взглядов, и в выражении лица всецело еще носили робкое и почти идеальное благоговение ко "храму науки".
Мимоходом кивнув кой-кому головою, кой-кому пожав на ходу руку, Хвалынцев миновал наконец длинный коридор и спустился вниз, в курильную комнату, прозванную студентами попросту «коптилкой». Там – все по-старому: те же грязно-желтые стены, те же две-три убогие скамьи, тот же дым и окурки, тот же подслеповатый сторож со своим запахом и тот же бородатый маркитант в синей поддевке, а у маркитанта все те же неизменные бутерброды с колбасой и сыром да слоеные пирожки с яблоками, вкус которых уже много лет отменно хорошо знаком всему университету.
Коптилка была полна молодежью. Кроме синих студентских воротников, составлявших, конечно, значительное большинство, тут в разных углах виднелось довольно-таки много военных усов, с офицерскими погонами, несколько черных чамарок и кавказских чекменей, несколько поддевок, партикулярных сюртуков и пиджаков. Несмотря на ранний час утра, табачный дым уже стоял коромыслом и не один десяток молодых звучных голосов кричал и надседался, что есть мочи, горячо стараясь перекричать всех остальных, чтобы подать свое личное мнение в каком-то общем споре. Что это был за спор, свежему человеку разобрать не представлялось ни малейшей возможности, потому что коптилка была преисполнена невообразимым гамом и гулом. В одной из групп, прислонясь спиною к окну, стояла молодая и довольно недурненькая собою девушка, с кокетливо отброшенными назад короткими волосами, в синей кашемировой юбке, без кринолина, и с узенькой ленточкой синего галстучка, облегающего мужской воротничок батистовой манишки. Фланелевая темная гарибальдийка скрывала ее стройную талию. Девушка поминутно щуря, из-под синих очков, свои глазки, курила наотмашь папироску и горячо о чем-то говорила целой группе разношерстной молодежи. Подле нее, взмостившись на подоконник и свесив оттуда ноги, сидел и ораторствовал молодой студент в золотых очках. Выразительные глаза и красивое, но не совсем приятное лицо его носило в себе явный отпечаток еврейского типа. По его костюму, которому он тщательно старался придать демократическую небрежность, все-таки ясно можно было видеть, что студент этот – сын очень богатых родителей.
– А! Хвалынцев! Вот и он! здравствуй! Сюда, сюда! скорей сюда! дело есть! Слышал? – накинулось на студента несколько наиболее знакомых ему молодых людей, едва лишь он успел переступить порог коптилки.
– В чем дело, господа? какое дело? Гам такой, что и разобрать ничего невозможно.
– Общее дело! Петлю над нами затягивают! Мертвую петлю! Говорят, сходки запрещены! – кричали разные голоса.
– Как запрещены? Этого быть не может! – возразил удивленный Хвалынцев. – Запретить их мог тот, кто разрешал, а Высочайшего повеления не было.
– Обошлись и так! Да это не все: касса от нас отобрана, пособия из нее присуждаются не студентами, а инспектором; редакторов и депутатов будет избирать правление университета.
– То есть, университетский совет? – в виде наиболее точной поправки спросил Хвалынцев.
– Нет, не совет, а правление, то есть канцелярия: секретарь, синдик, казначей и чиновники.
– Вздор! Это не имеет смысла!
– О смысле не говорят, – говорят о факте.
Хвалынцев недоуменно пожал плечами.
– Вы нынче держали переходный экзамен? – спросил его с окошка студент с еврейским типом лица.
– Нет, не держал; а что?
– А то, что, значит, похерят из университета.
– За что? Коли я, по праву, могу не держать из третьего в четвертый!
– По праву? Было такое, да сплыло! Теперь если вы не держите экзамена, или не выдержали его – вон без дальних разговоров! Свидетельства о бедности тоже похерены: и бедный, и богатый – все равно, плати 50 рублей, а нет их – вон! Матрикулы какие-то вводят…
– Как… что… матрикулы?.. Это еще что такое? Что это за матрикулы?
– Черт их знает!.. Ясного понятия на этот счет не имеется.
– Господа, да этого быть не может! этому верить нельзя! – проговорил озадаченный Хвалынцев.
– Поверишь, как на собственной шкуре почувствуешь.
– Да вы что? Вы за правительство, что ли? – грубо вызывающим тоном обратился к нему один из близстоявших студентов.
Хвалынцев вспыхнул и, несмущенно глядя ему в глаза, произнес твердо и отчетливо:
– За здравый смысл и за законное право. Все это, повторяю, не имеет смысла. Кто вам сказал это?
– Да вы откуда сами-то? из Японии, что ли приехали? Кто сказал!.. Весь город говорит! В газетах официально отпечатано!
– А нам-то было ли объявлено официально, через попечителя, через ректора, через начальство?
– Начальство!.. Ха, ха, ха! Начальство струсило!.. Его и нет, оно и не показывается!
– Что же делать теперь?
– Об этом-то вот и толкуется!
Хвалынцев, по приезде из Славнобубенска, все лето, почти до вчерашнего дня, прожил у одного своего приятеля в тиши и глуши чухонской деревушки, на финляндском берегу, прожил без газет, без писем, без новостей, и теперь вернулся в Петербург к началу курса, не имея обо всех университетских переменах ни малейшего понятия. Все, услышанное в коптилке, ударило его как обухом. Здравый смысл отказывался верить, а не верить оказалось невозможно. Чувство досады и злобы охватило его. "Как, за что, почему, по какому праву?" – закипали в нем протестующие вопросы. – "Лишать права посылать из среды своей избранных депутатов для заявления студентских нужд – да кто же будет объясняться? Вся масса, что ли?? Инспектор может по своей прихоти утвердить или нет пособие моему товарищу из кассы, которая принадлежит исключительно самим студентам, которая создалась их собственною инициативой, которая сложилась и поддерживается на наши собственные гроши. И над этою кассой посторонний контроль, постороннее распоряжение ею! И это совершается в том самом месте, где голос профессора проповедует с кафедры о юридическом, о гражданском праве! И после этого можно верить в непреложность этого права! А эти 50 рублей – поворот к ограничению числа студентов; это значит сделать университет для большинства недоступным, сделать его достоянием касты, достоянием достаточных людей. И не нашлось человека, который бы поднял голос против этого! – Господи! Да что ж это такое!"
Так думал Хвалынцев, негодуя всем пылом юношеского увлечения, а число людей, наполнявших коптилку, с каждой минутой возрастало и общий шум становился все сильнее. Сделалось уже очень тесно и душно, табачный дым ел глаза, шум голосов, старавшихся перекричать друг друга, немилосердно раздирал барабанную перепонку. И все-таки невозможно было понять что-либо в этом гаме, и чем больше наполнялась коптилка, тем запутаннее становилось дело. Каждый в отдельности знал, какие причины вызвали эту сходку, но никто не понимал о чем, в сущности, в данную минуту идет весь этот гвалт, о чем и кто собственно спорит, чего кто хочет, что следует предпринять и на что решиться? Лекции уже читались в аудиториях, но об них не думали: большинство студентов было в коптилке. Ежеминутно то один оратор, то вдруг несколько зараз вскакивали на скамейки, на подоконники, кричали, махали руками, тщетно требуя слова – шум не умолкал. А если кому из этих ораторов и удавалось на несколько мгновений овладеть вниманием близстоящей кучки, то вдруг на скамью карабкался другой, перебивал говорящего, требовал слова не ему, а себе, или вступал с предшественником в горячую полемику; слушатели подымали новый крик, новые споры, ораторы снова требовали внимания, снова взывали надседающимся до хрипоты голосом, жестикулировали, убеждали; ораторов не слушали, и они, махнув рукой, после всех усилий, покидали импровизованную трибуну, чтоб уступить место другим или снова появиться самим же через минуту, и увы! – все это было совершенно тщетно. Прошло уже около часу, а дело не пришло еще даже к намеку на какой-либо результат.
Хвалынцев стал приглядываться к группам спорщиков, стараясь уловить хоть в одной из них какую-нибудь нить настоящего серьезного дела и вдруг, к удивлению своему, увидел старую знакомую физиономию, которую никак не ожидал встреть здесь в эту минуту.
Посередине одной кучки, в красной кумачовой рубашке и в драповом пальто, стоял и разглагольствовал Ардальон Михайлович Полояров. Вокруг него раздавались разнородные голоса, но их нестройный хор, то и дело, покрывался басистым голосом Ардальона. Он собственно не говорил, а только время от времени перебивал говор других своими возгласами и замечаниями, по большей части, отрицательного свойства.
– Шесть лет мы пользовались правом сходок и правом узаконенным, – слышалось в его группе.
– Что сходки? Сходки вздор-с! – вдруг перебил Полояров, – не в сходках сила! Сила в нас самих, коли мы сила!
– Депутаты… – раздавался опять чей-то голос.
– И депутаты в сущности вздор! – еще решительнее и ровно ничего не выслушав, перебивал Ардальон. – Что такое депутаты?
– Да вы чего же собственно хотите? – уцепился за него один студент, видимо раздосадованный этим безусловным подведением всех студентских нужд и потребностей под категорию вздора.
– Я-то?.. А вы чего? – увертливо огрызнулся Полояров.
– Да мы-то знаем чего хотим, а вы все это отрицаете. Чего же, по-вашему, нужно? Что же не вздор?
– Что не вздор? А потрудитесь сами догадаться, – ответил Ардальон и, без церемонии повернувшись к студенту спиной, стал опять разглагольствовать:
– И ничего этого не нужно!.. Матрикулы… Вы говорите матрикулы?.. И матрикулы вздор! А надо показать, что мы сила, что с нами нельзя шутить безнаказанно… Действовать надо!
Ардальона никто не слушал, его мнения никто не спрашивал, но он насильственно врывался с ним в кружковый спор, и когда, несмотря на это громогласно насильственное вторжение, его все-таки не слушали, он продолжал колотить воздух словами, не обращаясь ровно ни к кому, и разражался всем этим словоизвержением единственно ради услаждения своей собственной особы. Ему очевидно, хотелось взять первенство в спорах, заставить всех внимать одному себе, порисоваться перед всею толпою, но толпе этой было теперь не до Полоярова, и потому, volens-nolens, он услаждался самим собою и ради самого же себя.
Но на одно мгновение ему удалось-таки приковать к себе почти всеобщее внимание.
В коптилку вошли два-три студента аристократика, гладко прилизанные, подвитые, с пробором на затылке, в белых жилетах, чистенькие, щепетильненькие, с тоненькими папиросками в зубах. Вошли они, очевидно, не ради сходки, а ради тоненьких папиросок и сладких пирожков.
– К черту аристократов! Долой беложилетников! – громовым голосом заорал Ардальон Михайлович, нарочно для этого вскочив на скамейку и гневно сверкая глазами.
– Арисштократы, вон! – ретиво подхватил с подоконника сын очень богатых еврейских родителей, во что бы то ни стало стремившийся быть "студентом волком", ибо «волки» составляли антарктический полюс "беложилетников".
– Долой! Вон! – еще более возвысил голос Ардальон, столь удачно поддержанный возгласом с подоконника. – Вон, аристократы! Им нет и не должно быть места между честным студенчеством!
Толпа вскинула взгляды на молодецкую фигуру Полоярова, затем перевела их на жиденькие фигурки аристократиков, и несколько десятков голосов завопили: "Вон! вон отсюда!" И аристократики удалились, впрочем, не без старания изобразить на лицах презрительную выдержку собственного достоинства.
– Господа! за что же? Разве они не такие же студенты? Разве они не товарищи наши? – попытался было Хвалынцев противостоять вопящим голосам. – Что за разъединение! Быть может, им также было бы близко и дорого наше общее дело! За что же мы лишаем их права принять в нем участие?
– За то, что они арисштократы! – ретиво возразил богатый студент еврейского типа.
– Но они студенты! – горячо вступился Хвалынцев. – Единодушия, господа, надо! Чем больше нас будет без различия каст и сословий, тем лучше!
Несколько крайних из "волчьей партии" взъелись на Хвалынцева.
– Заступник аристократов! Адвокат беложилетников! – раздались их негодующие возгласы. – Против всех! Против общественного мнения.
– Под суд! Под суд за это! – рявкнул чей-то голос.
– Под суд адвокатов и заступников! Под суд барских лизоблюдов! – подхватили несколько голосов. – Сходку собрать, сходку! Судить! Выгнать к черту! Это измена общему делу! Это подлость!
Хвалынцев побагровел от негодования.
– Кто произнес слово подлость, тот глуп! – смело и громко сказал он, обводя взором сомкнувшуюся вокруг него многочисленную кучку. – Если он не трус, то пусть выйдет сюда, и я докажу ему, почему я считаю его глупым. Суда же я не боюсь, потому что знаю, что я прав, а что я не барский лизоблюд, так это знают мои товарищи и порукою в том мое трехлетнее студентство. На такую выходку можно отвечать только презрением. Но, господа! – с жаром заключил он. – Умоляю вас, оставимте на время наши личные счеты: судить меня вы успеете и после; наперед подумаемте лучше о нашем общем деле! Да только потолковее!








